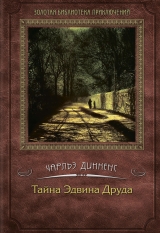
Текст книги "Тайна Эдвина Друда"
Автор книги: Чарльз Диккенс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)
– Я не хочу скрывать от вас, – сказала миссис Билликин, войдя к ним в комнаты в своей парадной шали, – ибо это не в моем характере, что я решилась зайти к вам с целью выразить надежду, что обед вам понравился. Хотя у меня кухарка не ученая, без диплома, простая, но она получает достойное жалованье, и я должна следить за тем, чтобы она готовила очень хорошо.
– Благодарствуйте, – ответила Роза, – мы очень хорошо пообедали.
– Мы привыкли, – сказала мисс Твинклтон таким благосклонным тоном, что миссис Билликин явственно слышались слова «добрая женщина», а не «хозяюшка», – к обильной и питательной, но простой и здоровой пище и пока не нашли никакой причины сожалеть о покинутом нами древнем городе и об упорядоченном хозяйстве, с которыми судьба до сих пор связывала нашу жизнь.
– Я считала своей обязанностью сказать кухарке, – заметила миссис Билликин в новом порыве откровенности, – с чем вы, я надеюсь, согласитесь, мисс Твинклтон, что эта молодая особа, привыкнув жить впроголодь, должна быть понемногу приучена к хорошей еде, так как неожиданный переход от скудной пищи к хорошей и обильной требовал бы сильного желудка, который является редкостью для юного существа, особенно питающегося пансионной пищей.
Из этой выразительной речи было видно, что миссис Билликин открыто стала нападать на мисс Твинклтон, как будто та являлась ее естественным врагом.
– Ваши замечания, – отвечала мисс Твинклтон, не сходя со своего возвышенного нравственного пьедестала, – сделаны, не сомневаюсь, с хорошей целью и с самыми лучшими намерениями, но позвольте мне заметить, что вы очень сильно ошибаетесь, просто извращая действительность, – вероятно, по причине полного отсутствия у вас сколько-нибудь достоверной информации.
– Моя информация, – не сдавалась миссис Билликин, вставив для большей убедительности слово «моя» и вещая вежливо и довольно ядовито, – основана, мисс Твинклтон, на моем собственном опыте, что, я полагаю, всегда считается хорошим доказательством. Так или нет, я в юности была отдана в очень приличную школу, самый что ни есть аристократический пансион, начальница которого была такая же леди, как и вы, не хуже вас и почти ваших же лет (разве на десяток моложе), но там настолько плохо кормили, что на всю жизнь испортили мне здоровье.
– Вполне вероятно, – ответила мисс Твинклтон с того же пьедестала, – и достойно сожаления. Милая Роза, как идет твоя работа?
– Мисс Твинклтон, – продолжала миссис Билликин очень любезно, – прежде чем понять ваш намек и удалиться, как подобает настоящей леди, я позволю себе вас спросить тоже как настоящую леди, сомневаетесь ли вы в моих словах?
– Я не понимаю, почему вы так предубеждены против меня и питаете такое подозрение… – начала мисс Твинклтон, но миссис Билликин ее остановила.
– Пожалуйста, не приписывайте мне таких подозрений, каких я никогда не выражала. Вы очень много говорите, мисс Твинклтон, и, без сомнения, ваши ученицы ожидают от вас такого красноречивого потока слов, за что вам и платят деньги. Но я не плачу вам за поток слов и нисколько не желаю его использовать, поэтому повторяю свой вопрос.
– Если вы говорите о вашем плохом здоровье… – начала мисс Твинклтон, но миссис Билликин снова ее перебила.
– Я ничего подобного не говорила.
– Ну, если вы говорите о вашем испорченном здоровье…
– Испорченном в школе, – настойчиво уточнила миссис Билликин, делая ударение на каждом слове.
– Все, что я могу сказать по этому поводу, – продолжала мисс Твинклтон, – что я должна верить вашим словам о вашем испорченном здоровье. Я не могу не прибавить при этом, что, если ваше нездоровье так сказывается на ваших словах, то оно заслуживает еще большего сожаления. Очень жаль, что ваше здоровье не лучше. Но, милая Роза, как идет твоя работа?
– Гм… Прежде чем уйти, мисс, – торжественно произнесла миссис Билликин, обращаясь к Розе, уже совершенно игнорируя с мисс Твинклтон, – я хочу раз и навсегда заявить, что все наше общение впредь будет происходить между мной и вами. Я не знаю здесь больше никакой пожилой леди, мисс, никого, кто был бы старше вас.
– Это будет очень удобно, Роза, – заметила мисс Твинклтон.
– Это не значит, мисс, – сказала миссис Билликин с саркастической улыбкой, – что я обладаю той волшебной мельницей, в которой, я слышала, старую деву можно перемолоть в молоденькую (кое-кому это бы понадобилось), но это значит, что я ограничиваю свои услуги и свое общение исключительно только вами.
– Когда я пожелаю обратиться с просьбой к хозяйке этого дома, милая Роза, – заметила мисс Твинклтон с величественной улыбкой, – то я обращусь к тебе, а ты, я уверена, передашь мою просьбу по назначению.
– Прощайте, мисс, – сказала миссис Билликин очень любезно и несколько официально, – я вижу только вас перед собой и желаю вам доброго вечера от всей души; я должна сознаться, что чувствую себя счастливой, не имея необходимости публично заявить о моем презрении к какой бы то ни было и, по несчастью, близкой вам особе.
С этими словами миссис Билликин грациозно удалилась, и с этого времени Роза осталась в незавидной роли волана между двумя ракетками. Ни одно дело не осуществлялось без мелкой или бурной интриги. Каждый день, решая вопрос об обеде, мисс Твинклтон (в присутствии всех трех участниц соглашения) говорила:
– Ты бы, милая Роза, спросила хозяйку этого дома, нельзя ли нам приготовить на обед жаркое из молодого ягненка или хотя бы жареную курицу?
На это миссис Билликин всегда отвечала (Роза при этом не произносила ни слова):
– Если бы вы, мисс, имели больше понятия о мясе и чаще кушали его, то не говорили бы о молодом ягненке. Во-первых, молодые ягнята давно уже превратились в старых баранов, а во-вторых, существуют определенные дни для забоя скота, поэтому свежее мясо не каждый день есть в продаже. Что же касается жареных кур, то я полагаю, они вам достаточно надоели; вы уже переполнили свой желудок жареными курами, привыкнув к этой пище, не говоря уже о том, что когда вы сами покупали их для себя, то брали самую старую и самую тощую курицу ради дешевизны! Придумайте что-нибудь новенькое, мисс. Начните привыкать к хорошей пище. Ну, придумайте что-нибудь другое.
В ответ на мудрые, долготерпеливые слова либерального эксперта мисс Твинклтон, покраснев, отвечала:
– О, дорогая, вы бы могли предложить хозяйке дома приготовить утку?
– Ну, мисс! – восклицала миссис Билликин. – Роза по-прежнему не произносила ни слова. – Вы удивляете меня, называя уток! Не говоря уже о том, что на них теперь не сезон и что они очень дороги, мне больно было бы видеть, подавая вам утку, что вам от нее достанется, так как единственный нежный ее кусочек был бы забран, я не хочу говорить кем. Ведь грудка – единственный мягкий кусочек – всегда достается неизвестно кому, а у вас на тарелке остаются только кожа да кости. Это не годится. Попробуйте придумать что-нибудь другое, мисс. Думайте больше о себе, а не о других. Не хотите ли блюда посытнее: сладкое мясо или баранью котлетку – одним словом, такое блюдо, от которого и вам бы достался хороший кусок!
Иногда игра делалась настолько горячей и ожесточенной, велась с таким искусством, что приведенный пример совершенно поблек бы. Но почти всегда миссис Билликин одерживала верх, выкидывая поистине удивительные штуки в самую критическую минуту, когда их никто не ожидал, и последним виртуозным ударом меняя счет в свою пользу.
Все это отнюдь не поднимало того тоскливого настроения, которое навевал на Розу Лондон или лондонский воздух, будто все здесь чего-то ждет, что никогда не наступает. Устав работать над вышивкой и разговаривать с мисс Твинклтон, она предложила во время занятий вышивкой читать ей вслух, на что последняя тотчас согласилась, считая себя отличным чтецом с большим опытом. Однако Роза вскоре поняла, что мисс Твинклтон читала недобросовестно: она выпускала любовные сцены, перескакивала те места, в которых восхвалялось женское безбрачие, и вообще совершала другие столь же недопустимые обманы и подлоги. Так, например, возьмем следующий красноречивый отрывок: «Дорогая моему сердцу, любезная моей душе, – говорил Эдвард, прижимая к груди любимую головку и обвивая свои пальцы ее шелковистыми кудрями, ниспадавшими золотым дождем, – убежим, любовь моя, из этого грустного, хладного, бездушного мира в пламенный, роскошный рай любви и вечной верности». Подменная версия мисс Твинклтон передавала только что прочитанный отрывок следующим образом: «Милая моя невеста, данная мне по согласию наших родителей с обеих сторон и с одобрения убеленного сединами местного пастора, – сказал Эдвард, почтительно поднося к губам маленькие пальчики, столь искусные в вышивании крестиком, елочкой и гладью, в вязании, шитье и в других женских работах, – позвольте мне пойти к вашему папаше завтра, прежде чем закатится дневное светило, и предложить нанять в окрестностях города скромный домик, соответствующий нашим средствам, где он, папаша, будет всегда самым дорогим гостем, а мы будем вести жизнь скромную, построенную на началах разумной экономии, будем обмениваться приобретенными в школах познаниями, где ты станешь ангелом-хранителем домашнего очага и мы будем блаженствовать в домашнем счастье».
Дни уныло тянулись за днями, и ничего нового не случалось; соседи стали мало-помалу говорить, что хорошенькая девочка, поселившаяся у миссис Билликин и подолгу сидящая в гостинице, казавшаяся в первое время такой живой и веселой, заметно загрустила. Хорошенькая девочка совершенно упала бы духом, если бы случайно ей не попались книги о путешествиях и морских приключениях. Чтобы уравновесить романтическую сторону этих книг, мисс Твинклтон, читая их вслух, останавливалась с особенным ударением на градусах широты и долготы, на ветрах, течениях и статистических данных (которые она считала тем более назидательными, чем меньше в них понимала), тогда как Роза, с большим интересом слушая, обращала внимание на те места, которые ей были ближе всего к сердцу. Таким образом, они обе зажили гораздо лучше и им стало менее тоскливо, чем прежде.
Глава XXIII
Снова рассвет
Хотя мистер Криспаркл и Джон Джаспер встречались ежедневно под сводами собора, они никогда не упоминали друг другу ни о чем, имеющем отношение к Эдвину Друду, с того времени, более полугода тому назад, когда Джаспер молча показал Криспарклу последнюю запись, сделанную им в своем дневнике. Не могло, конечно, быть, чтобы, так часто встречаясь, они не думали бы каждый раз на такую близкую для них тему. Не могло, конечно, быть, невероятно даже, чтобы они, так часто встречаясь, не чувствовали бы, что они друг для друга представляют неразрешимую загадку. Джаспер, обвинитель и преследователь Невила Ландлеса, и мистер Криспаркл, его покровитель и постоянный защитник, были слишком враждебны друг другу, чтобы, встречаясь, не поразмыслить о том, как поступил противник и что он впредь предпримет для достижения своей цели, но ни один из них ни разу не заикнулся об этом.
Поскольку в характере мистера Криспаркла не было ничего скрытного, никакого притворства, то он, вероятно, постоянно выражал своим лицом и обращением, что готов и даже желает когда угодно поговорить на важную, столь близкую их сердцу тему. Однако упорство и замкнутость Джаспера были неприступны. Безмолвный, сумрачный, одинокий, сосредоточившийся на одной идее, устремив все свои мысли на одну цель, он жил особняком от всего мира и не хотел ни с кем делиться своим горем, надеждами и планами. В соответствии со своей работой регента он должен был постоянно находиться, по крайней мере, в механической гармонии с окружающими, с исполнителями, чего невозможно было достигнуть иначе, чем пребывая с ними в духовном согласии и духовном единении, и тем удивительнее, что его душа не была в нравственной гармонии ни с одним человеком на свете. Таким он был всегда и всегда так жил, о чем сам говорил своему племяннику еще раньше, чем появились причины его нынешней замкнутости, прежде исчезновения его дорогого мальчика.
Без сомнения, он знал о неожиданном отъезде Розы и должен был догадываться о его настоящей причине. Предполагал ли он, что она из страха перед ним хранила молчание о всех подробностях их разговора во время последнего свидания? Или же она рассказала обо всем кому-нибудь, например мистеру Криспарклу? Сам мистер Криспаркл не находил ответа на этот вопрос, но как человек строго справедливый он также не мог не признать, что влюбиться в Розу само по себе не являлось преступлением или что не преступно предложение пожертвовать местью ради любви.
Страшное подозрение относительно Джаспера, вкравшееся, к ужасу Розы, в ее душу, ничуть не разделялось мистером Криспарклом. Если оно когда-нибудь и приходило в голову Елены или Невила, то они никогда не выражали его вслух. Мистер Грюджиус не скрывал своей неприязни к Джасперу, но даже издалека не намекал, что эта неприязнь имела своим источником подобное подозрение. Однако он был человек столь же молчаливый, сколь и эксцентричный – так, он ни разу ни при ком не упомянул о том памятном вечере, когда, услышав о разрыве между несчастным исчезнувшим юношей и Розой, Джаспер грохнулся без чувств на пол, демонстрируя груду изорванной и перемазанной в грязи одежды.
Когда жители Клойстергама по временам вспоминали об уже пережеванной и выдохнувшейся трагической истории, случившейся полгода тому назад и предоставленной человеческим судом суду Божьему, то они снова гадали, разделяясь во мнении: одни полагали, что любимый племянник Джона Джаспера был убит его ревнивым соперником то ли в открытой драке, то ли каким-то иным способом; другие же думали, что он предпочел исчезнуть по своей воле. Одним словом, вопрос этот продолжал оставаться без ответа. При мысли об этой истории всегда полусонные жители старинного соборного города лениво поднимали головы и замечали, что Джаспер с прежним жаром был предан делу мести и раскрытию преступления; взглянув на него, они снова погружались в свою вечную дремоту.
Таково было положение дел в тот период нашей истории, к которому мы теперь приблизились.
Двери собора только что закрылись на ночь, когда соборный регент, взяв отпуск на два или три дня и получив разрешение в это время не присутствовать на службах, отправляется в Лондон. Он следует тем же путем, что и Роза, и прибывает в столицу так же, как она, в жаркий и пыльный вечер.
Весь его багаж в виде маленького чемоданчика легко помещается в руках, и он пешком добирается до маленькой гостиницы на небольшой площади, позади Олдерсгейт-стрит, близ почтамта. Эта гостиница была одновременно и гостиницей, и квартирой, и меблированными комнатами, как угодно было назвать ее посетителю: там можно было остановиться на день-два, а можно помесячно снимать номер. Во всех объявлениях на железных дорогах это учреждение заявляет себя скромной новинкой, предприятием нового типа, только что появившимся на свет и начинающим входить в моду. Его владельцы застенчиво, чуть ли не с извинениями дают понять путешественнику, что не предоставят ему всех удобств старинных гостиниц, где вместо пива подавали ваксу, выплеснутую затем вон, а заявляют, что он может снять комнату, получать пищу и нанять прислугу за определенную плату и что ему будут чистить ваксой сапоги, а не смазывать его желудок. Ему обещают также, что кроме постели, завтрака и внимательного обслуживания он будет обеспечен надежной охраной в лице бодрствующего всю ночь привратника. Такие и подобные им заявления приводят истинных британцев к печальному выводу о том, что наша эпоха стремится всех и все уравнять, кроме, правда, больших дорог, которых в Англии скоро совсем не останется.
В этом заведении Джаспер обедает без аппетита, потом отправляется в восточную часть Лондона и после продолжительной ходьбы по многим пыльным улицам наконец достигает своей цели – грязного жалкого дворика с ветхими домишками. Он взбирается вверх по полуразрушенной лестнице, открывает дверь в темную, душную комнату и спрашивает:
– Вы здесь одна?
– Одна, голубчик, одна сижу, разорение только. Тем хуже для меня и тем лучше для вас, – отвечает из темноты старый дребезжащий голос. – Войдите, войдите, кто бы вы ни были. Я не могу вас видеть, пока не зажгу спички, но мне кажется, что я узнаю ваш голос. Я вас знаю, не правда ли? Вы бывали у меня?
– Зажгите спичку и попробуйте меня узнать.
– Да, да, голубчик, но рука моя дрожит и я сразу не могу найти спичек. К тому же я так кашляю, что куда бы ни положила спичек, никогда их не найду. Когда я начну кашлять, они прыгают с места на место, словно живые существа. Вы только что приехали из путешествия, из плаванья, голубчик?
– Нет.
– Вы не моряк?
– Нет.
– Ну, у меня есть клиенты и сухопутные, не только моряки. Я мать тем и другим, не то что китаец Джек по ту сторону двора. Он ни тем, ни другим не отец. И к тому же он не умеет приготовлять настоящим образом снадобье, хотя берет ту же цену, что и я, а когда может, то и дороже. Ну, вот и спичка, где же теперь свечка? Если я теперь примусь кашлять, то двадцать спичек потухнут прежде, чем я зажгу свечу.
Но ей удается найти спичку и зажечь ее прежде, чем кашель одолевает ее. В ту же самую секунду, как свечка зажжена, она принимается кашлять и долго покачивается из стороны в сторону, тяжело переводя дух, приговаривая: «Ох, мои легкие, ох, мои легкие!» Пока длится этот приступ, она ничего не видит и не слышит, все ее силы уходят на борьбу с судорогой, но как только она приходит в себя, то начинает пристально вглядываться в пришедшего и, когда дар слова возвращается к ней, как бы не веря своим глазам, восклицает:
– Ба, да это вы!
– Отчего вы так удивляетесь моему приходу?
– Я никогда не думала, что увижу вас еще, голубчик. Я полагала, что вы давно умерли и в царствии небесном.
– Отчего же?
– Я не думала, чтобы вы, если живы, могли так долго не посетить ту, которая умеет приготовлять снадобье. Как же вы обходитесь без курева? И к тому же вы в трауре! Почему же вы не пришли выкурить трубку-другую для утешения? Или вы получили в наследство много денег и вам нечего было утешаться?
– Нет, не получил.
– Кто же это у вас умер, голубчик?
– Родственник.
– А отчего умер?
– От смерти, наверное.
– Вы сегодня не в духе и сердиты, – произносит старуха с заискивающим смешком. – Разговаривать даже не хотите. Но это от того, что вы давно не курили. Это вроде как болезнь, я-то знаю. Но здесь вы можете скоро поправиться и совершенно исцелиться благодаря хорошей трубочке. Правильно сделали, что сюда пришли, мы вас вылечим! Все как рукой снимет!
– Так готовьте же скорей, – поторапливает посетитель.
С этими словами он снимает с себя башмаки, галстук и ложится поперек продавленной кровати, подперев голову рукой.
– Ну, вот вы теперь начинаете больше походить на себя, – одобрительно произносит женщина. – Я теперь узнаю своего прежнего посетителя. Что, дружок, вы все это время старались сами для себя приготовить снадобье?
– Я принимал его иногда по-своему.
– Никогда не принимайте его по-своему, этого никогда не надо делать, это нехорошо для торговли и нехорошо для вас. Но где моя бутылочка, наперсток и моя ложечка? Погодите, голубчик, я вам преподнесу художественно, по всем правилам приготовленное снадобье.
Приступив к своему делу и раздувая уголек, находившийся в ее руках, она время от времени бормочет что-то про себя гнусавым, но довольным голосом, порой заговаривая с посетителем. Что касается его, то он иногда отвечает, иногда молчит, глядя на нее, словно мысли его далеко-далеко, уже в тех снах, в которые он сейчас собирается погрузиться.
– У меня всегда готова для вас, голубчик, трубочка, не правда ли?
– Правда.
– Когда вы впервые явились сюда, то совершенно не привычны были к снадобью, новичком были, не так ли?
– Да, тогда мне достаточно было небольшой порции, сразу смаривало.
– Но мало-помалу вы привыкли и стали покуривать трубочку не хуже самых лучших курильщиков.
– Да, то есть самых худших.
– Ну, вот она и готова. Как вы тогда хорошо пели! Опустите, бывало, головку и станете петь так сладко, словно птичка! Ну, берите же, уже готово.
Он осторожно берет из ее рук трубку и подносит к своим губам. Она усаживается рядом, чтобы при первой надобности вновь наполнить трубку. Втянув в себя несколько раз утешительного зелья, он спрашивает, сомнительно качая головой:
– Оно что, не такое сильное, как раньше?
– О чем вы говорите, голубчик?
– О чем же мне говорить, как не о том, что у меня сейчас во рту?
– Точно такое же, как всегда. Смешение все одно и то же.
– Вкус другой. И действует медленнее.
– Просто вы привыкли, вот что.
– Конечно, и это может быть. Вот видите… Послушайте…
И, не закончив фразы, он закрывает глаза и погружается в дремоту, похоже, забыв, что начал говорить. Женщина наклоняется над ним и произносит ему на ухо:
– Я слушаю. Вы сказали «вот видите…», а я говорю, что вас слушаю. Прежде мы говорили о вашей привычке к зелью.
– Я знаю. Я только думал. Вот видите: предположите, что у вас было бы что-нибудь в голове, что-нибудь такое, что вы намерены исполнить.
– Да, голубчик, что-нибудь, что я намерена исполнить.
– Но на что еще не совсем решились – может, исполните, а может, нет. Понимаете?
– Да, голубчик.
И кончиком длинной иглы она начала шевелить в трубке, направляя раскаленный комочек.
– Не совершили бы вы это самое действие здесь во сне, за этой трубочкой?
– Да! Каждый раз, с начала и до конца! – постоянно отвечает женщина, наклоняя голову в знак согласия.
– Вот и я совершал то, что было в моих мыслях, с начала и до конца сотни тысяч раз в этой комнате.
– Я надеюсь, что это было нечто приятное вам?
– Да! Приятное!
Он произносит эти слова как-то резко, дико и злобно взглядывая на нее, будто готовый на нее наброситься. Она безмолвно наполняет трубку своим зельем, ничуть не испугавшись. Видя, что она полностью занята своим делом, он впадает снова в свой прежний тон.
– Это путешествие. Трудное и опасное путешествие – вот что было в моих мыслях. Смелое, опасное, рискованное путешествие через пропасти, причем довольно было споткнуться, чтобы стремглав полететь в бездну. Посмотрите вниз. Вы видите, что на дне пропасти?
Он быстро приподнимается и указывает на пол, точно далеко под полом находится то, на что он хотел обратить внимание своей собеседницы. Женщина смотрит пристально на него, а не в указанном им направлении. Она, по-видимому, знает, какое действие производит на него спокойное молчание, и не ошибается: действительно, через минуту он снова ложится и возвращается к своему прежнему тону.
– Ну, я вам сказал, что я отправлялся в это путешествие здесь сотни тысяч раз. Да что я говорю? Миллионы, биллионы раз. Я так часто совершал его и так долго, что, когда пришлось это сделать в действительности, то просто не стоило хлопотать, так скоро оно совершилось!
– Значит, пока вас не было, вы совершили это путешествие, и поэтому вас не было так долго? – спокойно спрашивает она.
Он смотрит на нее, продолжая курить свою трубку, и сквозь дымок, устремив на нее свой горящий взгляд, произносит:
– Да, я совершил это путешествие.
Наступает молчание. Его отяжелевшие веки то открываются, то закрываются. Женщина сидит рядом с ним и не сводит глаз с трубки, которая находится в его губах, чтобы вовремя наполнить ее.
– Я уверена, – замечает она после некоторого молчания, в продолжение которого он как-то странно, дико глядит на нее, точно она находилась не рядом, а на далеком расстоянии, – я уверена, что вы совершали это путешествие всякий раз по-разному, если вы отправлялись в него так часто?
– Нет, всегда одинаково.
– Всегда одинаково в воображении?
– Да.
– А когда наконец в действительности – тоже так?
– Да.
– И всегда вы находили в этом одинаковое удовольствие?
– Да.
Он, казалось, теперь не в состоянии был дать другого ответа, кроме этого ленивого, односложного согласия. Вероятно, чтобы убедиться, что эти слова он произносит не в полном бесчувствии, как автомат, она задает следующий вопрос в противоположной, отрицательной форме:
– И вам никогда, голубчик, это не надоедало и вы никогда не пытались вызвать какое-либо другое видение?
Он с трудом приподнимается и раздраженно кричит:
– Что вы хотите сказать? Что еще мне было нужно? Зачем я приходил сюда?
Она нежно укладывает его обратно на кровать и, прежде чем вложить ему в рот трубку, раздувает в ней огонек собственным дыханием.
– Конечно, конечно, – ласково произносит она поощряющим тоном, успокаивая его, как раскапризничавшегося ребенка, – да, да, да. Я теперь понимаю. Вы слишком торопились, я не могла сразу схватить вашу мысль. Теперь я ясно вижу, что вы приходили сюда, чтобы повторить ваше путешествие.
Он отвечает сначала смехом, а потом говорит сквозь зубы:
– Да, я приходил для этого. Когда мне жизнь становилась невтерпеж, я приходил сюда за утешением и утешался. Да, это было облегчение, утешение, это было утешение!
Последние слова он произносит с неистовой страстностью и скрежеща зубами, как волк.
Она пристально смотрит на него, как бы продумывая, как же вытянуть из него то, о чем он хочет сказать, и спрашивает:
– У вас, голубчик, был спутник в этом путешествии?
– Ха, ха, ха! – восклицает он с диким хохотом или скорее лаем. – Как часто он был моим спутником в путешествии, сам не зная того! Сколько раз он совершал это путешествие и никогда не видел дороги!
Женщина становится на колени на пол у кровати и, сложив руки на одеяле, опирается на них подбородком. В этом положении ее лицо очень близко от его головы, и она пристально следит за ним. Трубка выпадает из его рта; она берет ее и водворяет обратно. Потом она начинает тихонько растирать ему грудь, слегка подталкивая его из стороны в сторону. Вскоре он произносит, словно это не он, а она заговорила вслух:
– Да! Я всегда сначала совершал это путешествие, а потом уже появлялись великолепные пейзажи, огромные просторы и блестящие процессии. Они не могли появиться прежде, чем окончится путешествие.
Снова наступает молчание, и снова она тихонько растирает ему грудь, и снова он начинает говорить, как будто это говорит она сама:
– Что? Я же вам сказал, что, когда оно совершилось на самом деле, то оказалось таким коротким, что первый раз показалось мне нереальным. Слышите!
– Да, голубчик, я слушаю.
– Время и место уже близко.
С этими словами он вскакивает на ноги и говорит шепотом, закатив глаза, будто вокруг темнота:
– Время, место и спутник-путешественник, – подсказывает женщина в том же тоне и слегка держа его за руку.
– Как же могло быть время близко без спутника-путешественника? Значит, он здесь. Тише, путешествие свершилось. Все закончилось.
– Так скоро?
– Я вам это и говорил. Погодите, это только видение. Но оно слишком коротко и легко. Слишком скоро и слишком легко. Я хочу лучшего видения, это самое неудачное. Нет ни борьбы, ни сознания опасности, ни мольбы о пощаде… И все же я никогда этого раньше не видел, – прибавил он, вздрогнув.
Он отшатывается, весь дрожа.
– Не видел чего, голубчик?
– Посмотрите, какое это жалкое, гадкое, низкое дело! А-а! Вот это реально. Значит, это на самом деле. Теперь все закончено.
Эти несвязные слова он сопровождал какими-то нелепыми, ничего не означающими жестами; затем его движения слабеют, он впадает в совершенно бесчувственное состояние и лежит на постели, как бревно.
Женщина, однако, продолжает свои расспросы. Она снова растирает ему грудь, поталкивает его, как кошка лапой, и прислушивается. Это она повторяет несколько раз, что-то шепчет ему на ухо и прислушивается. Наконец, убедившись, что он не может очнуться, она тихонько встает с неудовольствием на лице, бьет его пальцами по щеке и отворачивается. Но не отходит от него далее кресла, в котором и усаживается, опершись подбородком на руки и не сводя с него глаз.
– Я слышала, что ты однажды говорил, – произносит она сиплым шепотом. – Я слышала, как ты однажды говорил обо мне, когда я лежала там, где ты теперь лежишь. Непонятно, говорил ли ты обо мне и двух других. Но ты не будь слишком уверен в себе. Не думай, что всегда так будет.
Не сводя с него своего немигающего, кошачьего взгляда, она продолжает:
– Не такое сильное, как всегда? Может быть, поначалу и так. Практика все совершенствуется. Может, я за это время чему-то научилась. Я, может быть, открыла тайну, как заставить тебя говорить, голубчик!
Но сейчас он больше ничего не говорит – ни утвердительно, ни отрицательно, – а лежит молча на кровати, и только время от времени его лицо и тело судорожно подергиваются, затем он снова лежит молча, не двигаясь. Несчастная свеча догорает, и женщина, вынув ее, выдавливает пальцами плавающий в сале фитиль, зажигает об него новую свечу, уминает остаток в подсвечнике и заколачивает вглубь новой свечой, будто заряжая какое-то мерзкое, вонючее колдовское оружие. Постепенно и вторая свеча догорает, а он все лежит в бесчувственном положении. Наконец последняя свеча догорает и первые лучи рождающегося дня проникают в комнату.
Через некоторое время лежащий очнулся, дрожа всем телом и придя мало-помалу к осознанию того, где он и в каком положении. Тогда он встает, поправляет на себе одежду и собирается уходить. Женщина с благодарностью принимает те деньги, которые он ей дает, приговаривая:
– Да благословит вас Бог, голубчик!
После того как он покидает комнату, женщина, по-видимому, очень устав, готовится ко сну. Но эти приготовления ко сну оказались только видимостью, ибо не успел раздаться последний скрип лестницы под его ногами, как она уже отправилась вслед за ним, торжественно произнося себе под нос: «На этот раз я тебя не упущу!»
Со двора нет другого выхода, кроме как через ворота, и она останавливается на лестнице, боясь, чтобы он не оглянулся. Но он исчезает, ни разу не повернув головы. Она выходит из ворот и следует за ним, стараясь не выпускать его из поля зрения. Нерешительными шагами, нетвердой походкой он направляется на Олдерсгей-стрит и, остановившись у двери одного из домов, тихонько в нее стучится; дверь тотчас отворяется, и он исчезает за ней. Женщина прячется в противоположных воротах, откуда хорошо видно дверь, и ожидает его выхода, так как догадывается, что он в этом доме останавливается только на время. Проходит несколько часов, а она все терпеливо ждет. Для подкрепления сил она покупает у проходящих разносчиков кружку молока и маленький хлебец.
В полдень он выходит, переменив одежду, но без чемодана; следовательно, он еще не уезжает домой, в Клойстергам. Она следует за ним на недалеком расстоянии, но потом, вдруг повернувшись, возвращается в тот дом, из которого он вышел.








