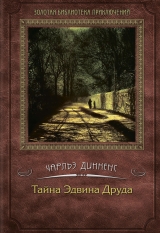
Текст книги "Тайна Эдвина Друда"
Автор книги: Чарльз Диккенс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
– Что вы хотите этим сказать? – неожиданно и почти злобно спрашивает мистер Джаспер.
– Я хочу сказать, что я везде навел справки, и ни один живой человек вокруг, кроме меня, не слышал ни этого вопля, ни этого лая. Поэтому я считаю и говорю, что это были призраки. Но только почему они являлись именно мне, я до сих пор не могу понять.
– Я полагал, что вы совершенно другой человек, – замечает презрительно мистер Джаспер.
– Я и сам так думал, – отвечает Дердлс со своим обычным спокойствием. – Но, что ни говори, эти призраки явились именно ко мне, они меня выбрали.
Джаспер резко встал на ноги, еще когда спрашивал Дердлса, что тот хотел сказать, и теперь твердо произносит:
– Пойдемте, мы здесь замерзнем; показывайте дорогу!
Дердлс повинуется, хотя ступает не совсем твердо; он отпирает дверь наверху лестницы тем же ключом, которым открывал нижнюю, в подземелье, и они входят в собор, в узкий проход около ризницы. Здесь лунный свет тоже льется до того яркий, что от ближайших разноцветных стекол ложатся цветные тени на лица ночных исследователей. Лицо Дердлса, который открывает своему спутнику дверь и останавливается на пороге, пропуская вперед мистера Джаспера, имеет страшный вид, как у вышедшего из могилы: его рот и щеки пересекает пурпурная полоса, а лоб – желтая. Не подозревая об этом, он спокойно выдерживает испытующий взгляд своего спутника, хотя это продолжается довольно долго, пока мистер Джаспер отыскивает в своих карманах вверенный ему ключ от железной двери, которую нужно отпереть, чтобы попасть на лестницу и войти в большую башню.
– Вам достаточно нести ключ и бутылку, – говорит мистер Джаспер, отдавая ключ Дердлсу, – а узелок дайте мне. Я моложе вас и не так скоро запыхаюсь.
Дердлс с минуту колеблется, выбирая, чему отдать преимущество – узелку или бутылке, но все-таки решается оставить бутылку как гораздо более приятную для себя компанию и отдает сухую еду второму исследователю неизвестного – мистеру Джасперу.
После этого они начинают медленно взбираться на башню по винтовой лестнице, поворачивая раз за разом вокруг каменного столба и нагибая голову, чтобы не стукнуться о верхние ступени или о тот же грубый каменный столб. Дердлс зажигает фонарь, извлекая из холодной жесткой стены искру того таинственного огня, который скрыт во всякой материи, и, руководимые этой искрой, они взбираются наверх сквозь залежи пыли и сети паутины. Путь их лежит через странные места. Раза два или три они выходят в низкую сводчатую галерею, из которой открывается вид на освещенный лунным светом собор, и Дердлс, помахивая фонарем, указывает своему спутнику на виднеющиеся в темноте головы ангелов, которые с карниза как будто следят за их шагами и провожают взглядом. Потом они поворачивают на более узкую и более крутую лестницу, где их охватывает свежий ночной воздух и по временам слышится в темноте крик вспугнутой галки или грача, а летучая мышь тяжелым взмахом своих крыльев в этом замкнутом пространстве усеивает пылью и соломой головы Дердлса и мистера Джаспера. Наконец, поставив фонарь за одну из ступеней за поворотом лестницы, ибо ветер становится чересчур уж чувствительным, они бросают взгляд на Клойстергам, этот маленький городок, живописно расстилающийся у их ног, очень красивый при лунном свете: внизу – старинные разрушенные здания, жилища и святилища умерших; украшенные мшистым покрывалом кирпичные дома под красными черепичными крышами – жилища живых; извивающаяся река, выползающая из тумана на горизонте, точно там ее исток, и нетерпеливо несущаяся вперед, покрытая рябью, предчувствующая близость своего слияния с морем.
И все-таки, какая непонятная, странная экспедиция! Мистер Джаспер, двигаясь вперед, все так же очень тихо и осторожно, хотя будто бы для этого нет какой-то видимой причины, с интересом смотрит на раскинувшийся внизу город, особенно на самую тихую его часть, на которую бросает тень громадное здание собора. Но с таким же любопытством смотрит он и на самого Дердлса, и Дердлс время от времени ощущает и ловит на себе его пытливый острый взгляд.
Но только время от времени, потому что Дердлс с каждым шагом все более и более погружается в дремоту. Как воздухоплаватели на воздушном шаре, желая подняться выше, облегчая его, освобождают от груза свою корзинку, так и Дердлс, поднимаясь наверх по лестнице, значительно облегчал свою фляжку. Сон неожиданно одолевает его на ходу, и он прекращает на полуслове свою речь. На него находит какой-то туман, нечто вроде бреда, и ему кажется, например, что земля, лежащая далеко внизу, находится рядом с ним, на одном уровне с башней, что он может легко перешагнуть с башни на землю; он даже пытается перебросить ногу через парапет и пройтись по воздуху. В таком состоянии Дердлс находится, когда они начинают вместе спускаться. Подобно тому как воздухоплаватели, желая опуститься, прибавляют себе тяжести, увеличивая груз, так и Дердлс, чтобы ему легче было спуститься вниз, наполняет себя жидкостью из фляжки.
Мало-помалу они достигают железной решетки, хотя Дердлс раза два падает и, наткнувшись бровью на стену, разбивает себе лоб; потом, затворив решетку, они снова спускаются в склеп, намереваясь выйти из него тем же путем, каким пришли. Но к тому моменту, когда они уже выходят на световые дорожки, освещенные луной, у Дердлса уже подкашиваются ноги и заплетается язык, он путает слова, затем тяжело опускается на пол или даже падает возле одного из тяжелых каменных столбов, почти так же отяжелевший, как они, и невнятно просит своего спутника позволить ему заснуть секунд на сорок.
– Если уж вы так хотите или если вам необходимо, хорошо, – отвечает мистер Джаспер. – Но я вас здесь не оставлю. Спите, а я похожу здесь взад и вперед.
Дердлс тотчас засыпает и видит сон.
Это почти не сон, если принять во внимание громадный объем владений сна и их удивительные причудливые сновидения; этот сон замечателен только тем, что он удивительно беспокоен и удивительно похож на действительность. Он видит во сне, что лежит в склепе и спит, при этом считает шаги своего спутника, который ходит взад и вперед. Ему снится, что эти шаги затихают где-то в пространстве и времени; затем к нему прикасаются и нечто выпадает из его разжатой руки. Потом он слышит какой-то странный звук при падении, и кто-то шарит вокруг, а затем удаляющиеся шаги. Наконец ему снится, будто он так долго остается один, что полосы лунного света принимают другое направление оттого, что луна передвинулась в небе. Из бесчувственного забытья он медленно всплывает, впадает в беспокойный сон, чувствует холод и, проснувшись с болью во всем теле, видит перед собой действительно изменившие направление полосы света, точно как было во сне, и мистера Джаспера, который ходит взад и вперед, похлопывая руками и пристукивая ногами.
– Эй! – восклицает Дердлс, почему-то сильно испугавшись.
– Что, вы, наконец, проснулись? – спрашивает мистер Джаспер, подходя к нему. – Вы знаете, что ваши сорок секунд возросли до тысячи?
– Не может быть.
– Уж поверьте мне.
– Который час?
– Слышите, часы бьют на башне?
И действительно, на башне маленькие колокола бьют три четверти, а затем начинает бить большой колокол.
– Два! – восклицает Дердлс, вскакивая. – Отчего вы не постарались меня разбудить, мистер Джаспер?
– Я старался, но так же легко было бы разбудить мертвого, например ваше «семейство» мертвецов вон в том углу.
– Вы меня трогали?
– Что значит трогал? Я вас изо всех сил тряс!
Тут Дердлс вспоминает свой сон, в котором ему мерещилось, что к нему нечто прикоснулось, и, нагнувшись, видит на полу ключ от двери в склеп, лежащий около того места, где он спал.
– Разве я его уронил? – спрашивает он, поднимая ключ, довольный тем, что разъяснилась эта часть его сна.
Тут он выпрямляется настолько, насколько он сейчас может выпрямиться, и опять чувствует, что его спутник пристально, внимательно на него смотрит.
– Ну? – сказал Джаспер улыбаясь. – Что же вы, готовы? Пожалуйста, поторопитесь.
– Дайте мне поправить мой узелок, и я к вашим услугам, мистер Джаспер.
Пока он вновь завязывает свой узелок, он снова замечает пристальный взгляд Джаспера.
– В чем вы меня подозреваете, мистер Джаспер? – спрашивает он сварливым тоном пьяного. – Кто питает подозрения по отношению к Дердлсу, тот пусть выскажет их.
– Я не имею никаких подозрений по отношению к вам, добрейший мистер Дердлс, но я подозреваю, что моя бутылка была наполнена более крепким напитком, чем я или вы предполагали. И я также подозреваю, что она пуста, – прибавляет Джаспер, поднимая фляжку с земли и обращая ее горлышком вниз.
Дердлс позволяет себе рассмеяться в ответ на эту шутку. Продолжая смеяться, как бы рассуждая сам с собой о своих способностях по части выпивки, он, покачиваясь, подходит к двери и отпирает ее. Когда они оба выходят на улицу, Дердлс запирает дверь и кладет ключ в карман.
– Тысячу раз благодарю вас за интересную и любопытную ночь, – говорит мистер Джаспер, протягивая ему руку. – Вы дойдете один до дома?
– Отчего мне не дойти? Я думаю, – отвечает Дердлс, – если бы вы сделали оскорбительное предложение отвести Дердлса домой, то он и вовсе не пошел бы домой. Какой бы стыд был!
Дердлс не пошел бы домой до утра.
Да и утро придет,
Он домой не пойдет.
Последние слова он произнес почти вызывающим тоном.
– Ну так, доброй ночи!
– Доброй ночи, мистер Джаспер!
Каждый из них повернул в свою сторону, когда неожиданно в безмолвии ночи раздается пронзительный свист и слышится дикий крик:
– Прочь, прочь, по домам!
Коли встречу по ночам,
Закидаю всех камнями…
В ту же минуту беглый огонь камней поражает стену собора, а на противоположной стороне улицы виден беснующийся чудовищный мальчишка, который весело пляшет в лунном свете.
– Как, этот дьяволенок нас подкарауливал?! – восклицает мистер Джаспер вне себя от злости; и эта злость, мгновенно вспыхнувшая в нем, так сильна, что он сам кажется дьяволом, только значительно старше. – Я пущу кровь этой проклятой обезьяне. Я изувечу его! Убью!
И, несмотря на шквал камней, нацеленных на него и раза два в него попавших, он бросается на Депутата, хватает его за шиворот и старается перетащить через дорогу. Но с Депутатом не так легко справиться. С дьявольской хитростью он улавливает сильную сторону своего положения, и, как только его схватили за шиворот, поджимает ноги и таким образом виснет на руках Джаспера; при этом он так корчится всем телом и издает такие хрипы горлом, что можно подумать, словно он задыхается в судорогах удушья или пребывает в агонии. Мистеру Джасперу ничего не остается, как выпустить его из рук. В ту же минуту Депутат вскакивает, перебегает к Дердлсу и кричит своему противнику, злобно скривившись и открыв при этом зияющую дыру во рту на месте передних зубов:
– Я ослеплю тебя! Я выбью тебе камнями глаза! Вот увидишь! Останешься без глаз! Так запущу в себя камнем, что не удержишься!
Между тем он прячется за Дердлса и оттуда угрожает Джасперу. Если последний на него бросится, то он готов бежать от него, ловко ускользая то в одну, то в другую сторону, а когда Джаспер его настигнет, мальчишка упадет на землю и, катаясь в пыли, изо всей силы будет орать:
– Ну, бей лежачего! Бей!
– Не троньте мальчика, мистер Джаспер, – просит Дердлс, заслоняя собой Депутата, – придите в себя, успокойтесь!
– Он следил за нами, еще когда мы сюда только направились.
– Вот и врешь! Я за вами не следил! И не думал! – восклицает Депутат, не зная другой приличной формы возражения, употребляя одну-единственную ему известную.
– Он за нами следил все время, с самого начала.
– Врешь, – повторил Депутат, – не был я здесь. Я только что вышел прогуляться для здоровья на улицу и увидел, что вы выходите из собора. Я же не виноват, у нас же договор был:
– Коли встречу по ночам!.. –
затягивает он снова и начинает, как обычно, плясать позади Дердлса. – Вот он околачивается здесь, так я виноват, что ли?
– Так веди его домой, – говорит мистер Джаспер раздраженно, но делая над собой усилие, чтобы сдержаться, – и не попадайся больше никогда мне на глаза!
Депутат снова издает резкий свист в знак согласия, выражая полное свое удовлетворение, и начинает забрасывать Дердлса камнями, но поспокойнее, и гонит его камнями домой, будто непослушного вола. Между тем Джаспер возвращается к себе, в дом над воротами, погруженный в мрачные размышления. И поскольку всему есть конец на этом свете, заканчивается, по крайней мере на время, и эта странная ночная экспедиция.
Глава XIII
Оба в лучшем свете
В пансионе мисс Твинклтон наступила торжественная тишина. Приближались рождественские каникулы. Завтра кончается то, что в былые, не очень далекие времена даже сама ученая мисс Твинклтон называла полугодием и что теперь более изящно и прилично по-университетски именуется семестром. В последние дни в Монастырском доме заметно было некоторое послабление дисциплины. В спальнях устраивались торжественные ужины, на которых копченый язык резали ножницами и ломти его передавали щипцами для завивки волос. Порции десерта также разносили на импровизированных тарелках из папильоток, а когда дело дошло до наливки, ее по очереди распивали из маленького мерного стаканчика, из которого крошка Риккетс (девочка очень слабого здоровья) принимала ежедневно свои железистые капли. Служанки были подкуплены различными обрезками лент и более или менее стоптанными ботинками за то, что не упоминали ничего о найденных в постелях сдобных крошках; самые легкомысленные костюмы были в ходу на этих торжественных банкетах, а смелая мисс Фердинанд однажды поразила все общество, исполнив художественное соло на гребешке, обернутом бумагой для папильоток, за что ее едва не задушили подушками два юных палача с развевающимися волосами, уложенными в локоны.
Но не только подобные мероприятия свидетельствовали о предстоявшем закрытии школы на каникулы. В спальнях появились чемоданы (в другое время это было бы тягчайшим нарушением дисциплины), которые укладывались с энергией, совершенно несоразмерной с количеством укладываемых вещей, да и с непостижимым количеством времени. Щедрые милости сыпались на помогающих укладываться служанок в виде остатков помады и кольдкрема, а также булавок и шпилек. Под строжайшим секретом девицы признавались друг другу, что дома им предстоят встречи с весьма интересными молодыми людьми. Только одна мисс Джигглс (совершенно бесчувственная, бессердечная девочка) заявила, что она покажет язык или скорчит рожу при появлении такого молодого человека, но девицы подавляющим большинством заставили ее замолчать, осудив за такую точку зрения.
В последнюю ночь перед каникулами считалось неприличным спать, а наоборот, следовало всеми возможными способами вызывать привидения. Однако это намерение обычно не приводилось в исполнение, так как все девицы очень скоро засыпали и на другое утро рано вскакивали.
Заключительная церемония происходила в двенадцать часов, в день отъезда воспитанниц. Мисс Твинклтон при содействии миссис Тишер устраивала торжественный прощальный прием в своей комнате (глобусы были уже покрыты коричневой парусиной), где на столе стояли на подносах стаканчики с белым вином, рюмки и кекс, нарезанный на мелкие ломтики. Мисс Твинклтон, как всегда, произнесла речь:
– Милостивые государыни, прошел еще год, и настало то праздничное время, когда радостное чувство наполняет нашу… – мисс Твинклтон ежегодно намеревалась сказать «грудь» и ежегодно, спохватившись вовремя, заменяла это слово более приличным: «сердце», – наши сердца. Гм… Да, наши сердца. Еще год привел нас, милостивые государыни, к перерыву наших, будем надеяться, успешных занятий, и, подобно моряку на своем корабле, воину в своей палатке, узнику в своей темнице и путешественнику в его странствиях в далекой стране, мы жаждем очутиться у домашнего очага. Говорим ли мы в подобном случае известными словами знаменитой трагедии Аддисона:
«Рассвет печален, мрачно утро.
Средь черных туч рождался день,
Великий день, день роковой!»
Нет, для нас от горизонта до зенита все было в розовом цвете, ибо все напоминало нам о родственниках и друзьях, которые ждут нас. Дай Бог нам найти их процветающими, как мы того желаем, и дай Бог им найти нас процветающими, как они того ожидают. Милостивые государыни, с любовью в сердце расстанемся, пожелая друг другу всяческого счастья, и простимся до новой встречи в этих стенах. Когда же придет время снова начать те занятия, – при этом слове все лица вытянулись, – которые… занятия… которые… то припомним слова спартанского полководца (слишком хорошо известные, чтобы их повторять) перед битвой, время и место которой не будем уточнять.
Служанки в праздничных одеждах и нарядных наколках стали разносить подносы с угощением, а молодые девицы – прикладываться к вину и отщипывать кусочки кекса. Между тем экипажи начали все больше загромождать улицу, и наконец настала минута прощания. Мисс Твинклтон, целуя каждую ученицу, одновременно вручала ей небольшой конвертик с адресом ее родителей, родственника или опекуна, с надписью: «От мисс Твинклтон с поклоном». Она так торжественно вручала это послание, словно оно не имело никакого отношения к оплате за пансион, а было каким-то приятным и веселым сюрпризом.
Роза так часто присутствовала при этих расставаниях и так мало знала других домов, кроме Монастырского, что она спокойно и даже с удовольствием оставалась здесь, тем более что теперь у нее появилась новая подруга. Однако в этой дружбе был один пробел, о котором она не могла не сожалеть. Елена Ландлес, став свидетельницей признания ее брата в любви к Розе и дав слово Криспарклу никогда об этом не говорить ни слова, при общении избегала всякого намека на имя Эдвина Друда. Почему она избегала такого разговора, было тайной для Розы, но не заметить этого факта она не могла. Если бы не это, Роза могла бы облегчить свое взволнованное сердечко, поделившись с Еленой всеми своими сомнениями и тревогами. А так она не могла этого сделать, ей приходилось самой обдумывать свое затруднительное положение и втайне удивляться тому, что Елена постоянно упорно старается не говорить о брате, тем более что, по словам той же Елены, должно было состояться примирение между молодыми людьми, когда Эдвин приедет на Рождество.
Прелестную картину представляли эти хорошенькие девочки, дружно целовавшие Розу под мрачным портиком Монастырского дома, и это блестящее маленькое существо, выглядывавшее из-под портика и махавшее платочком вслед удалявшимся экипажам, казалось воплощением радостной юности, остававшейся в этом мрачном доме, чтобы поддержать там свет и тепло, когда все его покинут. Между тем на девочку иронически поглядывали хмурые лица с каменных желобов и фронтонов. Глухая Большая улица оглашалась мелодичными возгласами на различный лад: «Прощай, Роза, прощай, голубушка!» А изображение отца мистера Сапси над противоположной дверью, казалось, говорило всему человечеству: «Господа, сделайте одолжение, обратите ваше внимание на этот последний, еще оставшийся прелестный участочек, покинутый всеми, и предлагайте цену, достойную такого редкого случая!» Через несколько минут эта уединенная улица снова пришла в свое обычное положение, блестящие существа исчезли, веселые юные голоса замолкли, щебет и лепет прекратились и Клойстергам снова стал таким, каким он был всегда.
Возвратившись в свою комнату, Роза с беспокойством в сердце ожидала прихода Эдвина Друда. Эдвин, со своей стороны, был также неспокоен. Хотя он и не отличался такой силой воли, как юная красавица, увенчанная единогласно титулом волшебной царицы учебного заведения мисс Твинклтон, все же он имел совесть, и мистер Грюджиус ее разбередил. Убеждение этого человека в том, что честно и что бесчестно в тех обстоятельствах, в которых находился Эдвин, было настолько твердым, что с ним невозможно было не считаться, а тем более отмахнуться от него презрительной улыбкой или смехом. Это бы не помогло. Если бы не обед в Степл-Инне и если бы у него в нагрудном кармане не было кольца, Эдвин Друд преспокойно прожил бы до дня свадьбы, серьезно не задумываясь о своей ситуации и легкомысленно надеясь, что в конце концов все закончится хорошо и ни во что не следует вмешиваться. Но торжественная клятва в верности живым и умершим, которую он дал, заставила его задуматься. Ему предстоял выбор: отдать кольцо Розе или возвратить его мистеру Грюджиусу. Однажды поставленный перед такой проблемой, он, что удивительно, начал думать о праве Розы на него уже не так эгоистично, как прежде, начал сомневаться в себе, что никогда не приходило ему в голову в его прежние беззаботные дни.
– Я поступлю так, как скажет она, как у нас все сложится, – сказал он себе, идя в Монастырский дом. – Что бы ни произошло, как бы ни обернулось, я всегда буду помнить его слова и постараюсь быть верным живым и умершим.
Роза была уже одета для прогулки и ждала его. День был светлый, морозный, и мисс Твинклтон милостиво разрешила им подышать свежим воздухом. Таким образом, молодые люди вышли из Монастырского дома прежде, нежели мисс Твинклтон или ее наместница, миссис Тише, успели принести хоть одну обычную жертву на алтарь приличий.
– Дорогой Эдди, – сказала Роза, когда они, обогнув Большую улицу, пошли по уединенной тропе, ведущей от собора к берегу реки, – я хочу поговорить с тобой очень серьезно. Я уже об этом давно думала, очень давно.
– И я тоже, милая Роза, хочу говорить с тобой совершенно серьезно и откровенно.
– Спасибо, Эдди. Ты не подумаешь дурно обо мне, оттого что я первая начинаю этот разговор? Ты не подумаешь, что я беспокоюсь только о себе, если первая заговариваю на эту тему? Это было бы с твоей стороны неблагородно, а я знаю, ты человек благородный.
– Я надеюсь, что всегда поступаю с тобой благородно и никогда плохо о тебе не думал, – ответил Эдвин.
Он не называл ее больше Кошуркой и никогда больше не назовет ее так.
– И наверное, нам нечего бояться, что мы поссоримся, – продолжала Роза, – ведь мы, Эдди, оба часто бывали неправы и должны быть по многим причинам очень снисходительны друг к другу.
– Мы и будем снисходительны, Роза.
– Вот славный, хороший мальчик! Эдди, будем мужественны и решим, что с этого дня мы станем друг для друга только братом и сестрой.
– И никогда не будем мужем и женой?
– Никогда!
В продолжение нескольких минут оба молчали. Наконец, Эдвин с некоторым усилием сказал:
– Конечно, я знаю, что эта мысль уже давно нам обоим приходила в голову, как честный человек я должен признаться, что она впервые зародилась не у тебя.
– Но и не у тебя, милый, – горячо воскликнула Роза. – Она вдруг появилась сама по себе. Что для нас с тобой эта помолвка? Ни ты, ни я не были по-настоящему счастливы от мысли о предстоящем браке. О, как мне жаль, как мне обидно!
И она залилась слезами.
– Я также глубоко сожалею. Мне обидно за тебя.
– А мне за тебя, мой дорогой Эдвин! Мне за тебя!
Этот чистый искренний порыв, бескорыстная нежность и жалость друг к другу принесли с собой награду, осветив их каким-то мягким умиротворяющим светом. Отношения между ними теперь больше не казались искусственными, нарочитыми, сопровождающимися капризами, обреченными на неудачу; напротив, они стали искренними, нежными, честными, полными самопожертвования, они возвысились до подлинной дружбы.
– Если бы мы знали вчера, – сказала Роза, отирая слезы, – а ведь мы знали это вчера и гораздо, гораздо раньше, что наши отношения, не нами самими созданные, были нам в тягость, так что же лучшего мы можем сделать сегодня, как не изменить их? Совершенно естественно, что нам обоим грустно и горько, но лучше грустить и огорчаться теперь, чем потом.
– Когда потом, Роза?
– Когда было бы уже слишком поздно. Тогда к сожалению и огорчению примешалась бы и злость, мы бы сердились друг на друга.
Снова наступило минутное молчание.
– И знаешь, – наивно пояснила вдруг Роза, – ты меня тогда уже не любил бы. А так ты можешь всегда меня любить, потому что я не буду тебе надоедать, не буду тебе обузой, не причиню тебе лишнего беспокойства. И я смогу теперь всегда тебя любить и как сестра не буду тебя мучить, дразнить, придираться по мелочам. Когда я еще не была твоей сестрой, то часто это делала и во многом была перед тобой виновата. Пожалуйста, прости меня за это!
– Не будем говорить о прощении, Роза, или мне придется просить прощения гораздо больше, чем хотелось бы: я больше виноват, чем ты.
– Нет, Эдди, ты слишком строг к себе, мой благородный мальчик. Сядем, милый брат, на этих развалинах, и дай мне высказать тебе все, что я думаю о нашем прежнем положении. Я много размышляла об этом после твоего отъезда. Я тебе нравилась, не правда ли? Ты думал, что я славная, хорошенькая девочка.
– Все так думают, Роза.
– Неужели? – спросила она задумчиво, насупив брови, но через минуту весело воскликнула: – Положим, но, согласись, этого недостаточно, чтобы ты думал обо мне, как другие, не правда ли?
Вопрос не требовал ответа. Очевидно, этого не было достаточно.
– А вот именно это я и хотела сказать, мы находились именно в таком положении, – сказала Роза. – Я тебе нравилась и ты привык ко мне, привык к мысли о нашей будущей свадьбе. Ты принимал все как нечто неизбежное, не правда ли? Ты полагал, что наша свадьба обязательно должна состояться, потому лучше ни над чем не задумываться и не размышлять по этому поводу.
Странно было Эдвину увидеть себя как точное отражение в зеркале, которое держала перед ним Роза. Он всегда относился к ней покровительственно, считая себя гораздо умнее, абсолютно уверенный в превосходстве своего мужского интеллекта над ее незначительным женским умишком. Не было ли это новым доказательством того, что в их отношениях, грозивших связать их вечными узами, было что-то неправильное, что могло бы привести их обоих к рабству на всю жизнь?
– Все, что я сейчас говорю о тебе, Эдди, также в полной мере относится и ко мне. Иначе я, вероятно, никогда не осмелилась бы сказать это тебе. Только между нами существует разница: я мало-помалу стала задумываться о наших отношениях, а не отгоняла от себя все подобные мысли. Моя жизнь не так заполнена, я ведь не так занята, как ты, и у мня не столько дел, о которых приходится думать. Вот я и думала об этом много и плакала много (ты в этом, дорогой мой, абсолютно не виноват); вдруг приехал мой опекун, чтобы познакомить меня с необходимыми приготовлениями к моему выходу из Монастырского дома, к будущим переменам. Я старалась намекнуть ему, что еще колеблюсь, сама ни в чем не уверена, но не могла все вразумительно объяснить, и он не понял меня. Но он такой добрый, хороший человек! Он так по-доброму, но вместе с тем так твердо дал мне понять, как серьезно мы должны обдумать наше положение, как мы все серьезно должны взвесить, что я решилась поговорить с тобой при первой возможности, когда мы останемся вдвоем и у нас будет соответствующее настроение. Если я так легко коснулась этого вопроса, то не думай, Эдди, что мне было это легко сделать. О, как мне все это было тяжело, ты не поверишь! Мне так жалко, так жалко, поверь мне.
Ее сердце было так переполнено, что она снова залилась слезами. Эдвин обнял ее, и они молча стали ходить взад и вперед по берегу.
– Я тоже разговаривал с твоим опекуном, милая Роза. Я видел его перед тем, как выехать из Лондона.
При этих словах он сунул руку в карман и хотел было вынуть кольцо, но в ту же минуту остановился, подумав: «Если я все равно должен вернуть его, то зачем говорить об этом Розе?»
– И после этого ты стал серьезнее думать о нашем положении, Эдди, не правда ли? Если бы я не заговорила, то ты первый начал бы этот разговор, не так ли? Я надеюсь, что так. Подтверди это, Эдди, облегчи мне душу. Я бы не хотела, чтобы только я одна была причиной, хотя мы оба теперь понимаем, что сейчас для нас все сложилось лучше и мы чувствуем себя счастливее.
– Да, я сказал бы то же самое. Я шел с тем же намерением, чтобы тебе все сказать, но я никогда не сумел бы это сделать так, как ты, Роза.
– Не говори «так холодно и бессердечно», пожалуйста, Эдди, ведь ты это хочешь сказать. Пожалей меня, не говори так!
– Напротив, так разумно и деликатно, с таким чувством и так умно! Я это имел в виду.
– Ах, милый мой брат! – воскликнула Роза и, схватив его руку, с жаром ее поцеловала. – Но как ужасно будут разочарованы бедные девочки! – прибавила она, уже засмеявшись, хотя две крупные росинки дрожали в ее блестящих глазках. – Они с таким нетерпением ждали нашей свадьбы, бедняжки!
– А какое это будет разочарование и огорчение для Джака! – неожиданно воскликнул Эдвин. – Я и не подумал о нем.
Она быстро, внимательно взглянула на него и, казалось, тотчас бы взяла назад этот взгляд, если бы можно было взять назад блеск молнии. Она смущенно опустила глаза и тяжело задышала.
– Ты представляешь, Роза, какой это будет тяжелый удар для Джака?
Она быстро и уклончиво пробормотала, что не думала об этом и вообще ничего не представляла, так как Джак, кажется, не имеет к этому никакого отношения.
– Дорогая моя, неужели ты думаешь, что человек, настолько преданный другому человеку (это выражение миссис Тишер, а не мое), как Джак мне, не будет поражен такой неожиданной и серьезной переменой в моей жизни? Я говорю – неожиданной, потому что, ты понимаешь, для него это будет неожиданностью.
Она раза два кивнула головой в знак согласия, и губы ее зашевелились, словно она хотела ответить. Но она не промолвила ни слова и еще тяжелее перевела дух.
– Как же мне сказать Джаку? – продолжал раздумывать Эдвин, целиком поглощенный этой мыслью и не замечая странного волнения молодой девушки. – Я и не подумал о Джаке. Однако ему надо сказать раньше, чем весь город узнает и заговорит об этом. Я обедаю у него завтра и послезавтра – в сочельник и в первый день Рождества, но я ни за что не хотел бы ему испортить такой праздник. Он всегда так носится со мной и расстраивается из-за всякой безделицы. Такая неожиданная новость его страшно огорчит. Как бы это нам лучше ему об этом сообщить?
– А обязательно надо сказать? – спросила Роза.
– Ах, милая Роза, кому же знать все, что нас касается, как не Джаку; какие у нас могут быть секреты от него?
– Мой опекун обещал приехать, если я приглашу его. Я сейчас же напишу ему и попрошу его приехать. Не лучше ли ему предоставить все это, пусть он сам скажет.
– Блестящая мысль! – воскликнул Эдвин. – Совершенно естественно, чтобы эту новость передал Джаку наш второй опекун. Он приедет сюда, отправится к Джаку и расскажет ему гораздо лучше нас все, что произошло, что мы решили. Он так сочувственно говорил и с тобой, и со мной, что, конечно, объяснит все Джаку так же спокойно и деликатно. Знаешь что, Роза, я не трус, но, признаюсь тебе, я немного боюсь Джака.








