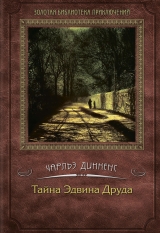
Текст книги "Тайна Эдвина Друда"
Автор книги: Чарльз Диккенс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 22 страниц)
Глава XVII
Филантропия официальная и неофициальная
Прошло полгода, и мистер Криспаркл сидел в приемной главной лондонской конторы Приюта Филантропии, дожидаясь аудиенции у мистера Гонетундра.
В университетские годы в дни занятий спортом мистер Криспаркл знавал нескольких профессоров благородного искусства бокса и бывал на двух или трех их профессиональных собраниях, где главные действующие лица выступали в боксерских перчатках. Теперь ему выпал случай заметить, что по френологической формации затылка профессора филантропии чрезвычайно походили на профессоров бокса. У филантропов были чрезвычайно развиты те органы, благодаря которым человек приобретает наклонность «заехать в физиономию» своего ближнего. Перед ним через приемную из кабинета мистера Гонетундра прошло несколько профессоров филантропии с тем самым воинственным, агрессивным видом, которым отличались виденные Криспарклом профессора искусства бокса, как будто рвущиеся немедленно вступить в бой с любым оказавшимся поблизости новичком. Вероятно, готовилось маленькое нравственное побоище на выездной сессии, и эти профессора толковали о том, как лучше нанести удары красноречия, словно речь шла между профессорами бокса о нанесении физических ударов. Филантропы заключали пари, ставя на того или другого тяжеловеса, известного и знаменитого своими ораторскими изысками или трюками, – они были весьма похожи на любителей бокса, готовящихся в трактирах спорить о каждом раунде (как филантропы – о каждой резолюции). В официальном распорядителе этих зрелищ, который пользовался большой известностью и прославился искусной тактикой во время председательства на подобных собраниях, Криспаркл увидел точную копию покойного благодетеля человечества или менее известного общественного деятеля, который некогда распоряжался кулачными боями, надзирая за действиями на ринге. Только в трех отношениях профессора филантропии не походили на профессоров искусства бокса. Во-первых, филантропы были не в форме: дурно дрессированы и слишком жирны телом и лицом – с тем избытком, который знатоки называют «колбасным салом». Во-вторых, филантропы не отличались таким характером и добродушием, как боксеры, и выражались гораздо грубее. В-третьих, воинственный кодекс филантропов требовал пересмотра, так как он давал им право преследовать противника не только до веревки, а до края света, бить его лежачим сзади и спереди, лягать, топтать ногами, наносить увечья, калечить и всячески уничтожать, без пощады порочить его доброе имя у него за спиной. В этом последнем отношении профессора искусства бокса были гораздо благороднее профессоров филантропии.
Мистер Криспаркл был так поглощен этими мыслями, а также наблюдениями за входившими и выходившими людьми, которые все, похоже, стремились стащить что-нибудь у первого встречного и не дать что-либо кому бы то ни было, что не услышал, когда его вызвали. Наконец он отозвался и был введен в кабинет мистера Гонетундра несчастным, исхудалым, видимо, плохо оплачиваемым слугой-филантропом, который вряд ли мог находиться в худшем положении, даже если бы служил отъявленному врагу человеческого рода.
– Садитесь, сэр, – пригласил мистер Гонетундр своим громовым голосом, точно учитель, отдающий приказание ученику, о котором он очень дурного мнения.
Мистер Криспаркл сел, а мистер Гонетундр продолжал подписывать два-три десятка из двух-трех тысяч циркуляров, в которых он приглашал бедные семейства тотчас откликнуться, выложить денежки и стать филантропами или убираться ко всем чертям. Когда он подписал последние циркуляры, лежавшие перед ним, появился другой, столь же несчастный, оборванный слуга филантропов (вероятно, бескорыстнейший из людей, если он серьезно воспринимал свою филантропическую деятельность), который вынес их из комнаты, собрав в корзину.
– Ну-с, мистер Криспаркл, – произнес затем Гонетундр, поворачиваясь к нему вместе со своим креслом, скрестив руки на коленях и насупив брови, словно говоря про себя: «Я с тобой скоро покончу». – Ну-с, мистер Криспаркл, мы с вами, сэр, имеем совершенно различные взгляды на святость человеческой жизни.
– Неужели? – спросил младший каноник.
– Да, сэр.
– Могу я вас спросить, – сказал младший каноник, – в чем состоят ваши взгляды на этот предмет?
– Человеческая жизнь должна считаться святой и неприкосновенной, сэр.
– А смею спросить, – продолжал младший каноник, – в чем заключается мой взгляд на этот предмет?
– Клянусь святым Георгом, сэр, – ответил филантроп, еще более насупив брови, – вам самому он должен быть лучше известен.
– Согласен, но вы только что заявили, что наши взгляды противоположны, следовательно, вы приписываете мне какой-нибудь особый взгляд; прошу вас, объясните мне, какой, по вашему мнению, я имею взгляд на этот предмет?
– Речь идет о человеке, о молодом человеке, – произнес мистер Гонетундр, делая ударение на последних словах, словно он еще кое-как смирился бы с потерей человека старого, – который насильственным путем стерт с лица земли. Что это такое, по-вашему? Как это назвать?
– Убийством, – отвечал младший каноник.
– А как вы назовете того, кто совершил это?
– Убийцей, – ответил младший каноник.
– Я очень рад, что вы хоть это признаете, сэр, – заявил мистер Гонетундр самым вызывающим тоном. – И скажу откровенно, я этого не ожидал.
И он еще более грозно уставился на мистера Криспаркла.
– Будьте так добры – объясните мне, что значат ваши ни на чем не основанные непозволительные выражения?
– Я здесь не для того, сэр, чтобы на меня повышали голос, – заявил филантроп, голос которого перешел в дикий рев.
– Поскольку в этой комнате нет никого, кроме нас, то никто лучше меня не может этого знать, а я очень ясно отдаю себе в этом отчет, – абсолютно спокойно заметил младший каноник, – но я перебил ваши объяснения.
– Убийство! – продолжал Гонетундр, театрально скрещивая руки на груди и столь же театрально, как бы трагически, наклоняя голову при каждом слове. – Кровь! Авель! Каин! Я не имею никаких отношений с Каином. Я отталкиваю с отвращением протянутую мне руку, обагренную кровью.
Вместо того чтобы вскочить на стул и кричать до исступления «браво», как поступил бы любой филантроп на общем собрании Братства при таких словах оратора, мистер Криспаркл только спокойно переложил одну ногу на другую и примирительно сказал:
– Я не хочу перебивать ваших объяснений, когда вы их начнете.
– В заповедях сказано: «Не убий» – слышите, сэр, «не убий»! Никогда не убивай! – торжественно произнес мистер Гонетундр, словно он был на кафедре, а мистер Криспаркл утверждал, будто в заповедях сказано: «Немножко поубивай, а потом брось», то есть можно совершить маленькое убийство и потом избавиться от этой дурной привычки.
– В заповедях также сказано: «Не лжесвидетельствуй на твоего ближнего», – добавил мистер Криспаркл.
– Довольно! – загремел Гонетундр с такой торжественной строгостью, что будь он на митинге, то, наверное, все присутствующие залились бы слезами. – Довольно! Молодые люди, у которых я был опекуном, достигли теперь совершеннолетия, и я освобожден от обязанности, о которой я не могу вспомнить без ужаса. Вот отчеты по расходам на их содержание, которые вы согласились принять от их имени, и которые чем скорее вы заберете, тем для меня лучше. Да еще вам следует получить балансовый остаток. Позвольте мне при этом заметить, сэр, что я желал бы видеть вас как человека и младшего каноника занятым лучшим делом… – Он кивнул головой. – Лучшим делом… – Он снова кивнул головой. – Да, лучшим делом… – Он в третий раз кивнул головой (и еще три кивка).
Мистер Криспаркл встал и, хотя несколько покраснел, совершенно спокойно принял бумаги из рук Гонетундра, безупречно владея собой.
– Мистер Гонетундр, – сказал он, забирая передаваемые бумаги, – является ли дело, которым я занят в настоящую минуту, хорошим или плохим, зависит от вкуса и убеждения. Вы, например, вероятно, полагаете, что для меня было бы гораздо лучшим занятием, если бы в это время я записывался в члены вашего общества.
– Конечно, без сомнения! – ответил Гонетундр, угрожающе потрясая головой. – А еще лучше было бы, если бы вы уже давно записались.
– Я этого мнения не разделяю.
– Я также полагаю, – добавил Гонетундр, продолжая потрясать головой, – что человек в вашем сане был бы лучше занят, посвятив себя уличению и наказанию преступников, чем предоставляя эту обязанность мирянину.
– Я могу смотреть на мой сан, – сказал мистер Криспаркл, – с другой точки зрения, согласно которой мой главный долг – заниматься униженными и оскорбленными, теми, кто пребывает в горе, нужде и угнетении. Но так как я не считаю необходимой частью моего долга делать публичные заявления о себе, то ничего более не скажу об этом. Но я обязан, выполняя свой долг относительно мистера Невила, его сестры и, в меньшей мере, относительно самого себя, сказать вам, что в те дни, когда случилось это печальное происшествие, мне было прекрасно известно состояние души и сердца мистера Невила. Именно по этой причине, нимало не стараясь скрыть или смягчить то, что есть нехорошего в нем и что надо стремиться исправить, я убежден: его показания в этом таинственном деле абсолютно правдивы. Я уверен в этом и потому отношусь к нему по-дружески. Пока это убеждение сохраняется во мне, я не изменю этим дружеским чувствам. И если бы какие-либо соображения смогли заставить меня изменить мою решимость, то мне так стыдно было бы перед самим собой, что никакое уважение мужчины или женщины, приобретенное мной таким низким поступком, не могло бы вознаградить меня за потерю самоуважения.
Хороший человек! Мужественный человек! И притом – какой скромный! В младшем канонике самоуверенности было столько же, сколько в школьнике, играющем в крикет и защищающем ворота. Он просто и стойко выполнял свой долг как в больших, так и в малых делах. Так всегда поступают и будут поступать настоящие люди. Для великой души не существует мелочей.
– Так кто же, по-вашему, убийца? – неожиданно воскликнул Гонетундр, резко повернувшись к нему.
– Боже меня избави! Желая защищать одного, я не могу обвинять другого. Я никого не обвиняю.
– Каково! – воскликнул Гонетундр с отвращением, ибо не таков был принцип, которым руководствовались филантропы. – Вы, сэр, к тому же не беспристрастный свидетель, мы не должны этого забывать.
– И в чем же моя пристрастность? – спросил Криспаркл с наивной, удивленной улыбкой. Его воображения не могло хватить на то, чтобы понять такое замечание.
– Вам платили за вашего ученика известную сумму денег, которая могла иметь некоторое влияние на ваше суждение, – грубо произнес мистер Гонетундр.
– Может быть, я надеюсь получать эти деньги и впредь? – снова спросил Криспаркл. – Вы это хотели сказать?
– Ну, сэр, – ответил официальный филантроп, специалист по любви к ближнему, встав и положив руки в карманы панталон, – я ни на кого шапок не примеряю. Если же кому-то кажется, что у меня есть для него подходящая, пусть берет и носит. Если же на воре шапка горит, то это его дело, а не мое.
Мистер Криспаркл бросил на филантропа взгляд, полный справедливого негодования, и обратился к нему со следующими словами:
– Мистер Гонетундр, входя сюда, я надеялся, что не буду поставлен в необходимость изложить свое мнение об уместности ораторских манер и приемов ваших собраний в обыкновенной мирной частной жизни. Но вы мне подали такой блестящий пример того и другого, что я считал бы себя справедливо подвергнутым подобному обращению и заслуживающим его, если бы не высказал вам своего мнения. Так вот, сэр, ваши манеры мне отвратительны.
– Они, вероятно, не подходят для вас, сэр.
– Они отвратительны, – повторил Криспаркл, не обращая никакого внимания на слова Гонетундра. – Они одинаково противны чувству справедливости, присущему христианам, и чувству приличия, присущему джентльменам. Вы предполагаете, что страшное преступление совершил тот человек, которого я считаю совершенно невиновным, имея на то основание, хорошо зная все обстоятельства. И вот потому, что мы расходимся с вами в этом важном вопросе, что делаете вы? Вы прибегаете к вашей официальной уловке: немедленно обрушиваетесь против меня, обвиняя чуть ли не в соучастии, укрывательстве и подстрекательстве и в том, что я не в состоянии понять всей глубины этого преступления. Точно так же при прежней нашей встрече, назначив меня в свои противники, вы заявили официальную, единогласно признанную вашими собраниями веру в какое-то нелепое вздорное заблуждение. Я отказался этому верить, и вы, прибегнув к всегдашней вашей уловке, объявили, что я ничему не верю, что я не верю в истинного Бога, потому что не хочу поклоняться идолу, созданному вами! В другой раз вы на одном из ваших собраний делаете официальное удивительное открытие, что война – великое бедствие, и предлагаете уничтожить ее целым рядом нелепых резолюций, направляя и распространяя их повсюду. Я не признаю, что это было ваше открытие, и не верю в ваши способы. Вы тогда снова прибегаете к вашей уловке и представляете меня врагом человеческого рода, упивающимся ужасами кровопролития на полях битвы, словно воплощенный дьявол! Наконец в одной из ваших нелепых официальных нападок вы заявляете, что следует наказывать трезвых за излишества пьяниц. Я прошу позаботиться об удобстве, покое и возможности поднять настроение и подкрепить силы трезвых – и вы тотчас восклицаете с официальной торжественностью с трибуны, что я испытываю нечестивое желание и одержим гнусным замыслом превратить существа, созданные по подобию Божьему, в свиней и диких животных! Во всех этих случаях вы, ваши сторонники, помощники и единомышленники – филантропы всех чинов и профессора официальной филантропии всех степеней – так же жестоко заблуждаетесь и ведете себя, как обезумевшие малайцы: вы бросаетесь на всех несогласных, всем приписываете с непостижимым легкомыслием самые низкие, подлые побуждения (вспомните хотя бы, что вы мне только что приписывали, и краснейте от стыда). Вы всегда приводите примеры, которые, как вам очень хорошо известно, так же односторонни, как финансовый баланс, в котором был бы учтен только один приход или только один доход. Поэтому, мистер Гонетундр, я считаю вашу официальную филантропию, ваши приемы и способы вредным примером и вредной школой даже в общественной жизни, а когда их переносят в частную жизнь, они просто невыносимы, отвратительны!
– Это чересчур сильные выражения, сэр! – воскликнул мистер Гонетундр.
– Надеюсь, так как именно этого я и хотел, – ответил Криспаркл. – Прощайте!
Он вышел из Приюта Филантропии быстрыми шагами, но вскоре походка его стала обычной, шаг легким и ровным, а на лице показалась улыбка. Он думал о том, что сказала бы фарфоровая пастушка, если бы видела, как он отделал Гонетундра в этой последней схватке. Мистер Криспаркл был несколько тщеславен, и ему приятно было считать, что он нанес своему противнику тяжеловесный удар и серьезно подпортил настроение официальному филантропу.
Он отправился теперь в Степл-Инн, но не к мистеру Грюджиусу. Взобравшись по нескольким лестницам, он добрался до мансардного помещения и очутился перед незапертой дверью в углу коридора и, отворив эту незапертую дверь, вошел в комнату и остановился перед столом, за которым сидел Невил Ландлес.
Эта и соседняя комнаты под крышей, как и их обитатель, имели какой-то заброшенный вид и были будто проникнуты неким духом уединения и замкнутости. Молодой человек очень исхудал и побледнел; какое-то изнурение в его взгляде как бы отпечаталось на всем, что его окружало. Покосившиеся потолки, громадные заржавевшие замки и засовы, деревянные сундуки, тяжелые, полусгнившие изнутри балки чем-то напоминали тюрьму, а бледное, осунувшееся лицо молодого человека напоминало лицо узника. Однако сейчас солнечные лучи весело проникали в уродливое слуховое окошко, выступавшее над черепицей крыши; на подоконнике, потрескавшемся и черном от копоти, несколько легкомысленных воробышков неуклюже прыгали, словно маленькие пернатые калеки, забывшие свои костыли в гнездах; в воздухе был слышен шелест живых листьев, напоминавший слабое подобие приятной мелодии, которую издает ветер в деревне.
Комнаты были плохо меблированы, но книг здесь находилось много. Все доказывало, что это жилище бедного студента. По тому дружескому взгляду, который мистер Криспаркл, входя, бросил на книги, можно было легко заключить, что они выбраны и одолжены или подарены (а может быть, и то и другое) им.
– Как поживаете, Невил?
– Я не унываю, мистер Криспаркл, не теряю времени и работаю.
– Я бы хотел, чтобы ваши глаза были не такими большими и не так блестели, – сказал младший каноник, медленно освобождая руку молодого человека, которую он пожал, как только вошел.
– Они блестят оттого, что видят вас, – ответил Невил. – Если бы вы меня бросили, они быстро бы потускнели.
– Мужайтесь, мужайтесь, – бодрым голосом воскликнул Криспаркл, – мужайся и борись с судьбой!
– Если бы я умирал, то, мне кажется, ваши слова возвратили бы мне жизнь, – сказал Невил. – Если бы мой пульс остановился, то от одного вашего прикосновения он снова бы забился. Но я, право, не унываю, не сдаюсь и работаю без устали.
Мистер Криспаркл повернул его лицом к свету.
– Я бы желал, чтобы вот здесь было порозовее, – сказал он, указывая на свою щеку цвета крови с молоком. – Я бы хотел, чтобы вы чаще были на солнце.
– Я еще не дошел до этого, – ответил Невил глухим голосом и неожиданно поник. – Может быть, мое мужество позже окрепнет, но сейчас я еще не в состоянии. Если бы вы видели, как, проходя по улицам Клойстергама, я замечал, что при встрече со мной все от меня отворачивались, а лучшие люди молча давали мне дорогу, чтобы я нечаянно их не задел или не прикоснулся к ним, то вы не считали бы неблагоразумным мое желание не выходить из дому днем и не осуждали бы меня за это.
– Бедный мой юноша! – сказал младший каноник с таким глубоким сочувствием, что Невил в порыве благодарности схватил его руку. – Я никогда не говорил и не думал, что это было бы неблагоразумно, но я очень хотел бы, чтоб вы гуляли днем.
– Ваше желание было бы для меня самым сильным побуждением, и я рад бы гулять днем, но сейчас я еще не могу на это решиться. Я не могу убедить себя в том, что даже здесь, в этом большом городе, толпы встречаемых мною незнакомых людей смотрят на меня без подозрения. Даже когда я выхожу ночью, я чувствую, что на мне лежит какое-то пятно, что я заклеймен. Но тогда ничего не видно, и темнота делает меня храбрее.
Мистер Криспаркл положил руку на его плечо и продолжал по-прежнему молча смотреть на него.
– Если бы я мог изменить свое имя, то я непременно бы это сделал, – сказал Невил. – Но, как вы совершенно разумно заметили, я не могу этого сделать, не возбудив против себя еще большего подозрения. Для меня было бы лучше всего уехать куда-нибудь в отдаленное место, но об этом нечего и думать по той же причине. Скрываться или бежать значило бы признать себя виновным! Тяжело, конечно, быть пригвожденным к позорному столбу, когда ты ни в чем не виноват, но я не жалуюсь.
– И вы не должны ожидать никакого чуда, которое бы вам помогло или вас спасло, – сказал Криспаркл с сочувствием и сожалением.
– Да, сэр, я это знаю. Мне можно только надеяться на время и самое обыкновенное течение событий.
– Я убежден, что ваша невиновность в конце концов будет доказана.
– Я тоже в это верю и надеюсь, что доживу до этой минуты.
Но, заметив, что грусть, отчаяние и тоска, овладевшие им, омрачили младшего каноника, и чувствуя, что рука его не так твердо и уверенно лежит на его плече, как вначале, он вдруг, улыбнувшись, произнес:
– Во всяком случае, здесь отличные условия для занятий, а вы знаете, мистер Криспаркл, как много мне еще надо заниматься, чтобы иметь право называться образованным человеком. Вы мне посоветовали готовиться к трудной профессии юриста, и я, конечно, во всем следую и буду следовать совету такого друга и помощника. Такого доброго друга и надежного помощника!
Он снял со своего плеча руку Криспаркла, в которой черпал силу, и поцеловал ее. Младший каноник еще раз бросил быстрый взгляд на книги, но уже не такой сияющий и безоблачный, как в первую минуту своего появления в этой комнате.
– Судя по вашему молчанию, мой бывший опекун, вероятно, не только не сочувствует мне, но и настроен против меня? – спросил Невил.
– Ваш бывший опекун – просто очень неблагоразумный человек, – ответил младший каноник. – А каждому благоразумному человеку не должно быть никакого дела до его его мнения – никто не станет считаться с ним.
– Хорошо еще, что у меня есть на что прожить при разумной экономии, – сказал Невил отчасти грустно, отчасти шутя, – а то я умер бы с голода, пока учился и дожидался своего оправдания. Я мог бы тогда доказать справедливость пословицы: пока трава вырастет, конь издохнет. А так я могу учиться, стать ученым и со временем дождусь, что буду признан невиновным.
С этими словами он открыл одну из лежавших перед ним книг с закладками и многочисленными пометками, и они оба углубились в чтение: Криспаркл исправлял ошибки, объяснял все непонятное и давал советы молодому человеку. Служебные обязанности младшего каноника не позволяли ему часто ездить в Лондон, поэтому такие поездки предпринимались им с промежутками в две-три недели. Но эти редкие посещения были столько же полезными, сколько ценными и утешительными для Невила Ландлеса.
Окончив свои занятия, они подошли к окну и, опершись на подоконник, стали смотреть вниз на маленький садик, расположенный у дома во дворе.
– На будущей неделе, – сказал мистер Криспаркл, – закончится ваше одиночество. С вами будет преданный товарищ.
– Все же это не слишком подходящее место для моей сестры, – возразил Невил.
– Я так не думаю, – ответил младший каноник. – Здесь ее ждут обязанности, здесь ее дело, здесь нужны женское сердце, женский ум и женское мужество.
– Я хотел сказать, – пояснил Невил, – что это место слишком скучное, а обстановка простая и грубая для женщины; кроме того, здесь у Елены не будет ни подруги, ни подходящего общества.
– Вам надо помнить только одно, – сказал Криспаркл, – что здесь находитесь вы, поэтому она должна будет – это ее задача! – вывести вас на свет Божий.
В продолжение нескольких минут они оба молчали. Наконец первым заговорил мистер Криспаркл:
– В первой нашей беседе с вами, Невил, вы мне сказали, что ваша сестра вышла из всех испытаний вашей прошлой жизни гораздо достойнее вас, трудности не затронули ее и что она выше вас настолько, насколько клойстергамский собор выше дома младшего каноника. Помните вы это?
– Очень хорошо помню.
– Я полагал тогда, что эта был восторженный, преувеличенный отзыв о вашей сестре, которую вы так любите. Что я теперь думаю об этом, не имеет значения и к делу не относится. Но я должен сказать: что касается гордости, то ваша сестра именно сейчас должна стать для вас великим и полезным примером.
– Она, со своим благородством, во всех отношениях является для меня примером.
– Продолжайте придерживаться этого же мнения, имея в виду тот пример, о котором я вам сейчас говорю. Ваша сестра умеет побороть свою гордость, даже когда она страдает и терпит оскорбления из-за своего сочувствия к вам. Без сомнения, она жестоко страдала при встрече с людьми на тех самых улицах, где вы пережили столько мучительного для себя. Без сомнения, ее жизнь омрачена той же тенью, которая падает на вас. Но, поборов свою гордость и приняв вид спокойного достоинства – не высокомерного, не вызывающего, а основанного на полной вере в вашу невиновность, – она мужественно каждый день показывается на тех улицах, которые вас так страшат. И в результате такой тяжелой борьбы она добилась того, что теперь ходит по этим улицам, столь же уважаемая всеми, как и любой прохожий, каждый встречающийся ей человек. Со времени исчезновения Эдвина Друда она ежедневно, ежечасно сталкивалась лицом к лицу с людской злобой, безумием и тупостью с таким мужеством и спокойствием, на которые способен только смелый, гордый, целеустремленный человек. И все – ради вас! Так она будет вести себя до самого конца. Другая, низшего рода, гордость могла бы впасть в отчаяние, сломиться, но ее гордость – никогда; ваша сестра не дрогнет, но при этом и гордости не даст взять верх над собой.
Бледные щеки Невила покрылись румянцем при этом сравнении и скрывавшемся в нем упреке.
– Я постараюсь последовать ее примеру, – сказал он.
– Постарайтесь и будьте таким же по-настоящему гордым и смелым мужчиной, как она по-настоящему гордая, мужественная женщина, – серьезно ответил Криспаркл. – Но уже темнеет. Проводите меня, пока еще не стало совсем темно? Помните, что мне вовсе незачем дожидаться темноты.
Невил ответил, что он тотчас готов идти с ним. Но Криспаркл сказал, что ему надо из вежливости на минуту забежать к мистеру Грюджиусу, жившему напротив, и попросил Невила сойти вниз и подождать его у подъезда.
Мистер Грюджиус сидел выпрямившись, как всегда, и пил вино у открытого окна. Графин и рюмка стояли на круглом столе у самого его локтя, а он с ногами расположился на диванчике в оконной нише. Прямой, как палка, с ногами, вытянутыми под прямым углом, он напоминал колодку для снимания сапог.
– Как ваше здоровье, достопочтенный сэр? – спросил мистер Грюджиус, после того как любезно предложил гостю все, чего требовало гостеприимство, и получил такой же любезный отказ. – Ну, а как поживает ваш воспитанник, живущий напротив, в комнатах, которые я имел удовольствие вам рекомендовать, узнав, что они свободны и могут вам подойти?
Мистер Криспаркл ответил, как того требовало приличие.
– Я очень рад, что эти комнаты нравятся вам и вашему питомцу, – сказал мистер Грюджиус, – потому что у меня есть своего рода каприз: я хочу, чтобы он всегда был у меня на глазах.
Поскольку мистеру Грюджиусу приходилось бы очень высоко поднимать глаза, чтобы увидеть комнаты, занимаемые Невилом, эту фразу, должно быть, следовало скорее понимать не в прямом, а в переносном смысле.
– А в каком состоянии вы оставили мистера Джаспера, достопочтенный сэр? – поинтересовался мистер Грюджиус.
Мистер Криспаркл ответил, что он его оставил совершенно здоровым.
– А где вы оставили мистера Джаспера, достопочтенный сэр?
Мистер Криспаркл ответил, что оставил его в Клойстергаме.
– А когда вы оставили мистера Джаспера, достопочтенный сэр?
Мистер Криспаркл ответил, что сегодня утром.
– А не говорил ли он, что собирается приехать?
– Куда?
– Куда-нибудь.
– Нет.
– А вот и он, – произнес мистер Грюджиус, который, задавая все эти вопросы, не сводил глаз с окна. – И, кажется, не очень-то он добродушно настроен.
Мистер Криспаркл потянулся к окну, но мистер Грюджиус, остановив его, поспешно прибавил:
– Будьте так добры, встаньте позади меня, где потемнее, отсюда вы легко заметите в окне лестницы второго этажа противоположного дома тайком выглядывающего человека, в котором я узнаю нашего клойстергамского друга.
– Вы правы! – воскликнул мистер Криспаркл.
– Уф! – произнес мистер Грюджиус и, повернувшись неожиданно резко, так что едва не столкнулся головой с мистером Криспарклом, прибавил: – Как вы полагаете, что же задумал наш клойстергамский друг?
Последняя страница, показанная мистером Джаспером в его дневнике, неожиданно всплыла в памяти мистера Криспаркла (его от этого словно что-то сильно толкнуло в грудь), и он спросил мистера Грюджиуса, не считает ли тот возможным, что Джаспер задумал следить за Невилом?
– Следить? – повторил мистер Грюджиус. – Э! Ну да. Конечно!
– Это невероятно! – горячо воскликнул мистер Криспаркл. – Это гнусно и подло. Такая постоянная слежка не только стала бы для мистера Невила бесконечным мучением, но и подвергла бы его незаслуженным страданиям из-за постоянного напоминания о подозрении, куда бы он ни пошел и что бы он ни делал.
– Да, да, – рассеянно произнес мистер Грюджиус. – Что это? Я вижу, он вас дожидается там, у подъезда.
– Да, это он.
– Тогда извините меня, я не стану вас провожать, а вы отправляйтесь туда, куда хотели, не обращая никакого внимания на нашего клойстергамского друга. У меня сегодня такой каприз: проследить за ним собственными глазами.
Мистер Криспаркл утвердительно кивнул головой, вышел из комнаты и, зайдя за Невилом, отправился с ним гулять. Они вместе пообедали и расстались на станции железной дороги, перед недостроенным, незаконченным зданием вокзала. Мистер Криспаркл поехал домой, а Невил пошел по улицам и набережной по городу, чтобы вдоволь утомиться. Он переходил через мосты, бродил по кривым незнакомым переулкам до самой темноты.
Было уже около полуночи, когда он возвратился после своей уединенной прогулки и стал взбираться на высокую лестницу. Ночь стояла теплая, и все окна были открыты настежь. Очутившись наверху, он с изумлением увидел (кроме его комнат, других там не было), что на подоконнике сидит какой-то незнакомый человек, похожий скорее на привыкшего к риску стекольщика, чем на мирного обывателя, всегда берегущего свою шею; действительно, он скорее сидел снаружи, за окошком, чем на нем, будто бы он влез сюда по водосточной трубе, а не поднялся, как положено, по лестнице.
Незнакомец молчал, пока Невил не отпер своей двери; тогда, словно убедившись, что это именно тот, кто ему нужен, он приветливо произнес, вставая с окна и добродушно улыбаясь:
– Извините… бобы…
Невил с изумлением смотрел на него.
– Вьющееся растение, – продолжал незнакомец, – красное. Рядом с вами по заднему фасаду. Квартира с другого подъезда.
– А, – ответил Невил, – еще резеда и левкои?
– Да.
– Сделайте одолжение, войдите.
– Очень благодарен.
Невил зажег свечи, и незнакомец сел у окна по его приглашению. Это был красивый коренастый мужчина с моложавым лицом, но солидной фигурой: судя по крепким мышцам и ширине плеч, ему могло быть не более двадцати восьми или тридцати лет. Лицо его было до того загорелым, что контраст между его густым бурым загаром, белым лбом, сохранившим естественный цвет под шляпой, и белой шеей, видневшейся из-под его галстука, мог быть чрезвычайно комическим, если бы не его блестящие ярко-голубые глаза, густые каштановые волосы и сверкающие в улыбке белые зубы.
– Я заметил… – начал он, но тут же спохватился и представился: – Меня зовут Тартар.
Невил наклонил голову в виде поклона.
– Я заметил (извините меня), что вы очень много сидите дома взаперти и что вам нравится мой садик, устроенный на крыше. Если желаете, чтобы он был ближе к вам, то я могу натянуть веревки между моими и вашими окнами, и вьющиеся растения тотчас поползут к вам. У меня есть несколько ящиков с резедой и левкоями, и я могу их прикрепить к вашим окнам по желобу с помощью лодочного крюка, которым я мог бы их снова притягивать к себе для поливки и прополки, так что для вас не было бы никакого беспокойства. Я не смел решиться на такую вольность без вашего позволения и потому явился к вам. Я живу с вами рядом, только в другом подъезде.








