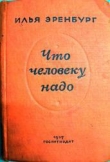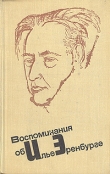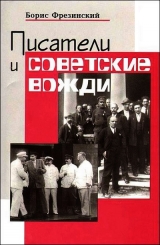
Текст книги "Писатели и советские вожди"
Автор книги: Борис Фрезинский
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 38 страниц)
В феврале – мае 1924 г. М. А. Волошин предпринял первую после революции и длительную поездку в Москву и Ленинград (переименованный так сразу после смерти Ленина Петроград). Поездка была связана не столько тем, что Максимилиан Александрович изголодался по обеим столицам, сколько с его стремлением хоть как-то укрепить свое сильно пошатнувшееся за последние месяцы политическое положение [90]90
В ответ на зарубежные публикации стихов Волошина эпохи Гражданской войны (книги «Стихи о терроре» и др.) в советской печати появился ряд враждебных Волошину статей; наиболее опасной была статья Б. Таля «Поэтическая контрреволюция М. Волошина» (На посту. 1923. № 11) – ответ Волошина Талю см.: Лавров А. В.Русские символисты. Этюды и разыскания. М., 2007. С. 333–338.
[Закрыть]. В Москве, пытаясь прояснить властям свою политическую позицию и смысл своих стихов последних лет, а также ища протекции на предмет литературных публикаций и изданий, Волошин посетил в Кремле председателя Совета труда и обороны и председателя Моссовета Л. Б. Каменева [91]91
В. П. Купченко датировал эту встречу 2 апреля 1924 г. (см.: Купченко В.Странствие Максимилиана Волошина. С. 369).
[Закрыть].
Об этой встрече повествуют эмигрантские воспоминания ее участника Л. Сабанеева (впервые опубликованы в Нью-Йорке в 1953 г.).
Леонид Сабанеев – писатель, музыковед, композитор, в 1924 г. председатель Совета Московского музыкально-научного института; в 1926-м уехал из Советской России; в эмиграции много писал о музыке. Его мемуары впервые напечатаны в двух номерах нью-йоркского «Нового русского слова», спустя почти три десятилетия после описываемых событий. Воспоминания живописно дополняют портрет Л. Б. Каменева послереволюционной поры, хотя следует отметить, что, как и всякие мемуары, не основанные на дневниковых записях, они не дают полной уверенности в точности мемуариста по части конкретных деталей, реплик, подробностей описанного поведения участников встречи и т. д. Вот интересующий нас эпизод:
«Я, Петр Семенович Коган и бородатый, огромный Максимилиан Волошин – уже известный поэт, проживающий в Крыму, в Коктебеле, – шествуем втроем в Кремль на свидание с Каменевым. Волошин хочет прочесть Каменеву свои „контрреволюционные“ стихи [92]92
Волошин читал стихи из книг «Путями Каина» и «Неопалимая купина».
[Закрыть]и получить от него разрешение на их опубликование „на правах рукописи“. Я и Коган изображали в этом шествии Госуд. академию худож. наук, поддерживающую ходатайство.
Проходили все этапы, неминуемые для посетителей Кремля. Мрачные стражи деловито накалывают на штыки наши пропуска. Каменевы обитают в дворцовом флигеле направо от Троицких ворот, как и большая часть правителей. Дом старый со сводчатыми потолками – нечто вроде гостиницы: коридор и „номера“, в него выходящие. Все, в сущности, чрезвычайно скромно. Я и раньше бывал у Ольги Давыдовны по делам ЦЕКУБУ и Дома ученых, и обстановка мне, как и П. С. Когану, хорошо знакома, но Волошин явно нервничает. Хозяева, которые были предупреждены, встречают нас очень радушно. Каменева подходит ко мне с номером парижских „Последних новостей“ и говорит:
– Послушайте, что „они“ о нас пишут!
И действительно, выясняется из статьи, что Россией управляет Каменев, а Каменевым… его жена.
Она страшно довольна и потому в отличном расположении духа.
Волошин мешковато представляется Каменеву и сразу приступает к чтению „контрреволюционных“ стихов.
Это было в высшей степени забавно созерцать со стороны. „Рекомый“ глава государства (он был тогда председателем Политбюро) внимательно слушал стихотворные поношения своего режима, которые громовым пророческим голосом, со всеми проклятиями, в них заключенными, читает Волошин, напоминая пророка Илию, обличающего жрецов. Ольга Давыдовна нервно играет лорнеткой, сидя на маленьком диванчике. Коган и я с нетерпением ждем, чем кончится эта контрреволюция в самых недрах Кремля.
Впрочем, в самой семье Каменевых гнездилась контрреволюция в лице его сына – это был партийный секрет, но все его знали.
Волошин кончил.
Впечатление оказалось превосходное. Лев Борисыч – большой любитель поэзии и знаток литературы. Он хвалит, с аллюром заправского литературного критика, разные детали стиха и выражений. О контрреволюционном содержании – ни слова, как будто его и нет вовсе. И потом идет к письменному столу и пишет в Госиздат записку о том же, всецело поддерживая просьбу Волошина об издании стихов „на правах рукописи“.
Волошин счастлив и, распростившись, уходит. Я и Коган остаемся: ему необходимо кое-что выяснить с Каменевым относительно своей академии. Тем временем либеральный Лев Борисыч подходит к телефону, вызывает Госиздат [93]93
Директором Госиздата до 9 июня 1924 г. был А. К. Воронский; надо полагать, Каменев говорил с ним.
[Закрыть]и, совершенно не стесняясь нашим присутствием, говорит:
– К вам приедет Волошин с моей запиской. Не придавайте этой записке никакого значения.
Даже у искушенного в дипломатии П. С. Когана физиономия передернулась. Он мне потом говорил:
– Я все время думал, что он это сделает. Но не думал, что так скоро и при нас» [94]94
Сабанеев Л.Мои встречи. «Декаденты» // Воспоминания о серебряном веке. М., 1993. С. 352–353.
[Закрыть].
Следует сказать, что Волошин, будучи у Каменева, очень волновался и, опасаясь оказаться слишком навязчивым, не успел после чтения стихов обсудить еще один, важный для него, вопрос – о Коктебельской художественной колонии. Уже после визита в Кремль Волошин говорил об этом с влиятельным партийным издателем Н. С. Ангарским, который отдыхал у него в Коктебеле и был волошинским «болельщиком». Ангарский порекомендовал написать о делах Колонии обстоятельное письмо Каменеву и обещал при случае с ним об этом переговорить. Сразу по возвращении в Крым Волошин осознал, что все трудности Колонии не кончились и набрался духу советом Ангарского воспользоваться. Написанное им письмо Каменеву было отправлено в Москву с В. В. Вересаевым.
В доступной исследователям части архива Л. Б. Каменева, письма Волошина нет, но несколько редакций его черновика, по счастью, уцелели в доме поэта в Коктебеле.
Все зачеркнутые в черновиках значимые выражения приводятся в квадратных скобках; в угловых скобках раскрываются сокращения.
М. А. Волошин – Л. Б. Каменеву.<Коктебель, 20 ноября 1924>
Многоуважаемый Лев Борисович,
после долгой нерешимости, но предполагая, что т. Ангарский, который мне советовал обратиться к Вам, уже успел переговорить с Вами, решаюсь просить Вас оказать содействие делу Художественной колонии, организованной мною в Коктебеле.
В Коктебеле я живу уже тридцать лет, имея здесь клочок земли, дом, мастерскую, большую французскую библиотеку <около 5 тыс. томов> и литературный архив, что представляет большую личную ценность, но весьма малую рыночную. О скромности обстановки моего жилища может свидетельствовать то, что во время всеобщего грабежа, сопровождавшего смены Крымских правительств, во всем поселении оно единственное не было ни разу разграблено. Сюда из года в год шла ко мне тяга писателей и художников с севера и создала из Коктебеля, который я застал совершенно пустынным заливом, небольшой литературно-художественный центр.
Раньше – при жизни моей матери – комнаты в доме отдавались в наем, а после ее смерти я открыл его для бесплатного пользования, расширив этим и углубив установившуюся традицию. С начала Советской Власти ни одна комната не была отдана за плату. Двери моего дома раскрыты всем и без всякой рекомендации – в первую голову писателям, художникам, ученым и их семьям, а если остается еще место – всякому, нуждающемуся в солнце и отдыхе, кому курортные цены не по средствам. Ставится одно условие: каждого вновь прибывающего принимать как своего гостя. Поэтому емкость моих 25 комнат среди лета достигает иногда ста человек. Срок пребывания не ограничен. Налажено коллективное питание для экономии. Летом сюда приезжают отдыхать, весной – работать. За 1923 год через мой дом прошло 200 человек, а за текущий – 300.
Юридическое мое положение таково: Советская власть – Крымская и Центральная – были всегда внимательны ко мне и периодически выдавали Охранные Грамоты, а бесплатный дом отдыха признан и рекомендован Наркомпросом СССР Что касается самого дома, то он, как ни разу не национализированный с начала Революции, согласно действующему праву СССР остается в моем владении. [Как бесплатный Дом отдыха рекомендован А. В. Луначарским].
Местные власти сами стали эксплуатировать Коктебель как курорт и усмотрели во мне неприятного конкурента. В порядке бытовом это формулировалось так: «Ишь – буржуй – комнаты даром сдает: нашей власти признавать не хочет», или же «В Коктебеле можно было бы расторговаться, если бы не Волошинский странноприимный дом…»
Видя количество людей, живущих у меня, они наивно думают, что все они были бы в состоянии оплачивать высокие курортные цены. (В этом году местные цены на комнаты поднялись в двадцать раз по сравнению с прошлогодними, что сразу делало весьма убогой в смысле культурных удобств Коктебель, лишенный пресной воды, врача, гостиницы, аптеки, самым дорогим из Крымских курортов: дороже Алупки и Ялты).
В истекающем году было сделано несколько попыток уничтожить К<октебельскую> Х<удожественную> Колонию путем произвольных обложений и налогов, что, конечно, не трудно, т. к. она существует без всяких средств и не принося никаких доходов. Мне предлагалось в ультимативной форме немедленно выбрать «промысловый патент на содержание гостиницы и ресторана», т. е. записаться в «нэпманы» со всеми налоговыми последствиями этого, под угрозой выселения всех «жильцов» и запечатания дома. А все мои «Грамоты» и «Удостоверения» объявлялись «Властью на местах» – недействительными.
Приходилось сломя голову скакать в Симферополь искать защиты у Крым-ЦИК. А когда Крым-ЦИК заступился за меня и признал обложение незаконным, это воспринималось как оскорбление и создавало вокруг ту напряженную атмосферу, в которой ежеминутно ждешь, откуда и в какой плоскости будет сделано новое нападение.
Я думаю, что Коктебельская Художественная Колония является для Республики организацией полезной, а для искусства органически необходимой. Вы сами знаете, как тяжело сейчас экономическое положение писателей, поэтов, художников, как переутомлен каждый службой и напряженностью городской жизни, и как важен при этом для одних возрождающий летний отдых, для других – возможность уединиться для личной творческой работы, и как мало может сделать в этом отношении одно ЦЕКУБУ, все время сокращающее свою деятельность.
Поэтому я обращаюсь к Вам, Лев Борисович, как к лицу, которому понятны и дороги интересы русской литературы и искусства, с просьбой стать патроном Коктебельской Художественной Колонии и дать мне право обращаться к Вам за защитой в критические моменты ее существования.
Это очень обще… В сущности, мне следовало бы просить у Вас:
I) Мандата на устройство в моем доме Художественной Колонии.
II) Официального утверждения за мной права владения моим участком в 1/2 десятины и домом с пристройками в Коктебеле.
III) Полного освобождения его от местных налогов и обложений, как предприятия, не дающего никаких доходов.
Это бы сразу оградило, думаю, Колонию от всяких притязаний и нападений. Но боюсь просить слишком многого и, может быть, тактически невозможного.
Не подумайте, что я сам заинтересован здесь как-нибудь экономически: как Вы можете видеть по прилагаемым документам, я сам, мой угол, моя мастерская и библиотека защищены достаточно и не они являются мишенью. Пользуясь Ак<адемическим> обеспечением от ЦЕКУБУ, я сам употребляю весь свой – правда скудный и непостоянный – литературный заработок на поддержание и ремонт дома. Ни на какую материальную помощь, ни на какие субсидии я не рассчитываю. Что дело Художественной Колонии вполне бескорыстно и «чисто», Вам могут подтвердить все гостившие у меня, все знающие мою жизнь. Среди них назову: из писателей – Валерия Брюсова (увы, покойного), В. В. Вересаева, Андрея Белого, К. Чуковского, Шенгели, С. Шервинского, Адалис, А. Соболя, Е. Замятина… Из Академии Художественных наук – Леонида Гроссмана, А. Габриневского. Из общества научного изучения Крыма – д-ра Саркизова-Серазини. Из коммунистов: Майского (редактора «Ленинградской правды» и «Звезды»), А. Ф. Женевского (редактора «Красной Газеты», брата Раскольникова), Иннокентия Сергеевича Кожевникова (бывшего полпреда Латвии), И. С. Кондурушкина (помощника прокурора СССР), Л. З. Каменского (московский представитель Укрмахортреста), наконец, Ангарского.
Но самое лучшее было бы, конечно, если бы Вы сами с Ольгой Давыдовной во время летней поездки на юг навестили бы меня в Коктебеле, чтобы почувствовать стиль и дух моего дома.
P. S. Весной перед моим отъездом из Москвы Воронский [95]95
Именно Воронский в 1922 г. печатал стихи Волошина в журнале «Красная новь» и альманахе «Наши дни» и выпустил в Госиздате его книгу «Стихи».
[Закрыть]взял у меня полный текст моих книг ПУТЯМИ КАИНА и НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА, отрывки из которых я читал у Вас, с тем, чтобы дать на просмотр Вам, с Вашей помощью провести через цензуру и издать. Должен ли я считать его молчание указанием на то, что Вы нашли обе эти книги цензурно безнадежными? [96]96
В фонде Л. Б. Каменева в РГАСПИ письмо Волошина отсутствует. Текст письма печатается по анонимной публикации его в книге «Память. Исторический сборник» (Вып. 1. М., 1978; Нью-Йорк, 1978. Chalidze Publ. USA. С. 298–301), сверенной и выправленной по любезно предоставленной Р. П. Хрулевой и переписанной В. П. Купченко в коктебельском музее М. А. Волошина в 1970-е гг. копии с черновика волошинского письма, наиболее близкого к напечатанному в «Памяти».
[Закрыть]
Приведем еще два фрагмента из другого черновика письма Волошина Каменеву, содержащего существенные подробности и автохарактеристики политических взглядов М. А. Волошина. От включения их в окончательную, отосланную Каменеву, редакцию письма Волошин, скорее всего благоразумно, отказался. Здесь также зачеркнутые им значимые слова заключены в квадратные скобки:
«Я очень далек от политики, но социальное устройство, текущая история и смысл современной машинной культуры – поглощают все мое внимание. Я отношусь отрицательно: к государственности, всеобщей воинск<ой> повинности, [к суду], к собственности, к заработной плате, считая, что государство это монополия всего кустарного зла и насилий, но практически выгодная [и необходимая] и потому неизбежная, что Всеоб<щая> воинс<кая> повинность была главным фактором, понизившим моральный уровень Европы в XIX в., что собственность есть только то, что можно подарить, что заработная плата [есть безнравственна] антисоциальна, т. к. социальный идеал будет осуществлен в том обществе, где никто не будет отдавать тому, от кого получил, а третьему, третий четвертому и т. д.: Всякое даяние будет жить в обществе неугасимо. Эти идеи я провожу в личной жизни без насилия и без дон кихотства. Худож<ественная> колония – одно из применений их.
<…>
К Сов<етской> Вл<асти> в 1918 г. я относился отрицательно из-за Брестского Мира. В 1919 признал ее как единственный и неизбежный путь России, не закрывая глаз на ее ущербы, ни на жестокость переживаемых моментов, но считая, что все это было бы пережито Россией, независимо оттого или иного правительства. Единственная моя общественная деятельность во время Революции была борьба с террором – то с белым, то с красным в зависимости от смены правительств в Крыму, считая, что всякое разумное правительство должно использовать силы, ему данные в руки, а не истреблять их.
Я не марксист. Вернее: я принимаю анализ [и критику] марксизма, но не его идеологию. Считая, что главная революционная борьба человека это борьба: против законов природы им самим формулированных, т. к. в этой борьбе он пересоздает себя, идя таким образом не путем пассивного приспособления, а путем творческой эволюции.
Все это, конечно, не совпадает с текущими государственными задачами и тенденциями. Но от конечных идеалов коммунизма мысли мои не так уж далеки и у меня вовсе нет мании их проповедовать и распространять. И сейчас я сообщаю все это для того, чтобы Вы знали, с кем Вы имеете дело и если Вы считаете возможным принять меня таким, как я есть, то помогите мне» [97]97
Текст этих фрагментов из черновика письма Волошина Каменеву, переписанный в Коктебеле в 1970-е гг. В. П. Купченко, любезно предоставлен Р. П. Хрулевой.
[Закрыть].
Об ответе Л. Б. Каменева на это письмо ничего не известно. Имя Каменева в почте Волошина еще встречалось. Так, скажем, в 1925 г. директор издательства «Недра» Н. С. Ангарский, напечатавший в шестом номере альманаха «Недра» поэму Волошина «Россия» и намеревавшийся издать его книжку, сообщал Волошину, что неожиданно для него поэма понравилась Каменеву и Дзержинскому… [98]98
См.: Купченко В.Странствие Максимилиана Волошина. С. 393.
[Закрыть]Имя Л. Б. Каменева в связи со стихами Волошина возникает также в воспоминаниях Д. Новоселова [99]99
Согласно картотеке В. П. Купченко, Д. Новоселов – псевдоним Р. М. Акульшина – эмигранта второй волны, оказавшегося после мировой войны в США.
[Закрыть], жившего в Коктебеле в мае 1927 г.: «У Волошина был большой цикл стихов об ужасах, переживаемых Россией и другой цикл – об ужасах которые несет человечеству политика. Эпиграфом к этому циклу были строка: „Политика – есть дело грязное“. Как-то мы все, гостившие у него, поинтересовались:
– Пытались ли вы, Максимилиан Александрович, издать свои стихи?
– Я показывал их Льву Каменеву, он сказал: „Все это увидит свет, когда не будет нас“. Я спросил, долго ли ждать этого времени? „Лет тридцать“, – ответил он»… [100]100
Грани. 1949. № 5. С. 53.
[Закрыть]
Волошинские беды, связанные с его домом в Коктебеле, продолжались, еще несколько лет; 2 мая 1925 г. Волошин писал Е. Л. Ланну: «Только что была снова сделана попытка отнять у меня дом, чтобы пустить его в эксплоатацию. Местным властям претит „бесплатность“ моей колонии – им кажется, что я подрываю их курортные доходы. Я об моих желаниях писал кое-кому (Вересаеву, Ангарскому…) Об этом уже осведомлены и Каменев, и Енукидзе»… [101]101
«„…Темой моей является Россия“. Максимилиан Волошин и Евгений Ланн. Письма. Документы. Материалы». М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2007. С. 58.
[Закрыть]
Похоже, что последняя попытка отобрать у Волошина дом и выслать его из Коктебеля была предпринята местным комбедом 6 октября 1928 г. Тогда Волошин сам написал Енукидзе и Луначарскому, в свою очередь Е. Ланн по просьбе Волошина обращался к П. С. Когану, а тот в свой черед – к А. В. Луначарскому и О. Д. Каменевой (Ланн писал 1 ноября Волошину: «Петр Семенович <Коган> устно рассказал обо всем Ольге Давыдовне, которая очень возмущена произволом» [102]102
Там же.С. 119.
[Закрыть]). Наконец, в декабре 1928 г. Крымский ЦИК окончательно решил этот вопрос, и дом Волошина остался за ним навсегда.
Летом 1928 г. у Волошина гостил поэт, прозаик, и журналист из Калуги Константин Алтайский, ставший впоследствии переводчиком казахского акына Джамбула. Он познакомился с Каменевым в Калуге, куда в конце 1927 г. на полгода сослали бывших членов Политбюро Зиновьева и Каменева (они служили там соответственно в Наробразе и в Губплане). 5 сентября 1928 г. Алтайский писал Льву Борисовичу в Москву: «…приехав в Калугу из Крыма не застал уже Вас, хотя весть (газетную) о Вашем назначении прочел в Калуге. Поздравляю Вас с новой работой.
…В Коктебеле встречался с Макс. Волошиным. Он просил всенепременно кланяться Вам. Волошин, по его словам, пишет мало, больше рисует. Видел его акварели: своеобразная насыщенная настроением, комбинация коктебельских ландшафтов: небо, море, горы…» [103]103
РГАСПИ. Ф. 323. Оп. 2. Ед. хр. 162. Л. 5.
[Закрыть]Похоже, что это последний привет, посланный Каменеву от Волошина.
Вместо эпилога
(Писатели о Каменеве до и после 16 декабря 1934 г.)
В связи с «делом Рютина» в октябре 1932-го Л. Б. Каменев был снова исключен из ВКП(б) и сослан. 27 ноября 1932 г. Горький из Сорренто писал Ромену Роллану: «Буржуазная пресса сообщила об аресте Каменева и Зиновьева, это – неверно. Они оба исключены из партии, как раньше, в 28 г., были исключены из ее Центр. Комитета. Зиновьев – болен и лежит в Москве, в частной больнице, Каменев – выслан в Тобольск. Он будет продолжать работу в издательстве „Академия“, где он – мне кажется, – более на своем месте, чем в политике» [104]104
М. Горький и Р. Роллан. Переписка (1916–1936). М., 1995. С. 244.
[Закрыть].
В мае 1933 г. Каменев под безусловным нажимом Горького был освобожден из ссылки и возвращен в Москву, где принят Сталиным. В декабре его восстановили в партии и назначили директором издательства «Academia». Поощряемый Горьким, Каменев делал все, что было в его возможностях для издательства «Academia» – в короткий срок оно стало наиболее культурным издательством СССР: по содержанию и ассортименту изданий, по серьезности их литературной подготовки, качеству переводов, наконец, по уровню полиграфии и художественности иллюстраций. «Academia» работала в условиях, до некоторой степени привилегированных; в других издательствах, например, в ГИХЛе, политический режим был более жестким; но и там случалось, что авторитетное «советское» предисловие могло открыть книге дорогу к читателю. Каменев, не ограничивавший себя литературной работой для издательства «Academia», когда к нему обращались с предложением написать предисловие-паровоз, в этом не отказывал. Он написал в предисловии к изданию в ГИХЛе второй книги воспоминаний Андрея Белого, что «автор воспоминаний ничего существенного не видел, не слышал и не понимал в воссоздаваемой им эпохе» [105]105
Белый А.Начало века. М., Л. 1933. С. XIV.
[Закрыть]. Понятно, каково было Белому это читать; неудивительно, что давно покинувшие страну литераторы (например, Ходасевич), с гневом и сарказмом ополчились на эти страницы, но сегодня, зная советскую жизнь 1930-х гг., как мы ее знаем, нельзя не согласиться с непредвзятым выводом ученого: «Вторая книга воспоминаний Белого вышла в свет только благодаря тому, что издательское предисловие к ней написал Л. Каменев» [106]106
Лавров А. В.Андрей Белый. Размышления и этюды. М., 2007. С. 263. Сошлюсь еще на работу Моники Спивак «Смерть „на задворках культуры“: Андрей Белый и Л. Б. Каменев» // Stanford: A Century’s Perspective. Essays on Russian Literature in Honor of Olga Raevsky Hughes and Robert P. Hughes, 2006. P. 194–218.
[Закрыть]– в 1935 г. издание такой книги уже непредставимо.
В июне 1933 г. Горький в письме Сталину рекомендовал именно Л. Б. Каменева назначить вместо себя главным докладчиком на готовившемся Первом съезде советских писателей. Сталин этого не одобрил и на трибуну писательского съезда Каменева не выпустил, но Горький все-таки настоял на избрании Каменева в Правление вновь созданного Союза писателей. Кроме того, в 1934-м, и снова с подачи Горького, Каменев был назначен еще и директором Института мировой литературы, а также Института русской литературы (Пушкинский Дом). Предполагалось также избрание Каменева действительным членом Академии наук СССР. Словом, 1934 год оказался временем интенсивных и разнообразных контактов Каменева с писателями – особенно с Горьким, в частности, периодом обширной их переписки. Многим казалось, что карьера бывшего лидера левой оппозиции вышла на стабильный уровень.
1 декабря 1934 г. был убит Киров. В начале декабря того же года Горький из Тессели отправил Каменеву два деловых письма (первое из них кончалось строчкой «Совершенно ошеломлен убийством Кирова»), Но 16 декабря Каменев был арестован по обвинению в руководстве контрреволюционной группой «Московский центр», подготовившей убийство Кирова. Похоже, что свое последнее письмо Горькому Каменев отправил уже из тюрьмы 17 января 1935 г., на следующий день после вынесения ему приговора: к пяти годам заключения (суд прошел в Ленинграде, Каменеву было вынесено самое легкое наказание, – Зиновьев получил десять – как «менее активному участнику указанной выше группы»; отбывать наказание заключенных отправили в Верхнеуральский политизолятор). Из последнего письма Каменева Горькому опубликовано три фразы [107]107
Горький М.Неизданная переписка. М., 2000. С. 236. Письмо хранится в Архиве Горького.
[Закрыть]. Первая: «К тяжести переживаемого мне было бы бесконечно горько добавить мысль, что Вы имеете право усомниться в правдивости и искренности моего поведения с Вами, в правдивости того, что я говорил Вам при наших встречах». В коротких второй и третьей речь идет о второй жене Каменева Т. И. Глебовой, которую Горький хорошо знал: «Ей будет тяжело. При нужде поддержите ее духовно, подкрепите ее бодрость». Неизвестно, разрешили Горькому прочесть это письмо или нет. 18 января «Литературная газета» продолжила публикацию его статьи «Литературные забавы» [108]108
Об этой статье «начальник» Союза писателей А. С. Щербаков докладывал Л. М. Кагановичу: «Сегодня 29/ XII <1934> с ведома А. М. Горького я прочитал оригинал его новой статьи „Литературные забавы“. Статья написана в духе той, которая не появилась в печати в период съезда писателей. В статье – резко отрицательное отношение к Панферову, Фадееву, а также к группе писателей: Бахметьеву, Березовскому, Никифорову, Евдокимову, Шухову, Герману и др. Обращает особое внимание то место статьи, где автор, беря под защиту критика Д. Мирского – сына дворянина, аргументирует в его пользу тем, что Ленин и другие революционные деятели – тоже дети дворян. Мною переданы через Крючкова А. М. соображения: 1) дать предварительно статью в ЦК 2) обращено внимание А. М. на ряд, по моему, – ошибочных мест. А. Щербаков. 29/XII 34» (РГАСПИ. Ф. 81. Оп. 3. Ед. хр. 428. Л. 111).
[Закрыть], в которой сказано: «Вот – мерзавцы убили Кирова, одного из лучших вождей партии <…> Убили Кирова – и обнаружилось, что в рядах партии большевиков прячутся гнилые люди, что среди коммунистов возможны „революционеры“, которые полагают, что если революция не оканчивается термидором, так эта – плохая революция <…> Не удалось убить Димитрова – убили Кирова, собираются убить Тельмана…». Это неопределенная фраза, странная. Никаких фамилий и конкретных обвинений Горький не называет, а цепочка Димитров – Киров – Тельман лишь путает планы Сталина. В любом случае, расстрелять Каменева при жизни Горького вождь не решился; он сделал это сразу после смерти писателя – в августе 1936 г.
Напоследок возвращаемся к 1934 году.
Писательская почта Каменева была на редкость обширной. Приведем одно письмецо, полученное им в августе, перед съездом писателей. Автор письма – писатель не без способностей, политически человек с тонким нюхом и ушлый, в ту пору – редактор популярного литературного ежемесячника «30 дней». Речь идет о Петре Павленко, о котором у нас еще будет подробный разговор в специальной главе. Это письмо отражает общие иллюзии по части каменевской судьбы.
П. А. Павленко – Л. Б. Каменеву.<Москва, лето 1934>.
Дорогой Лев Борисович
Есть на свете такой журнал «30 дней», который Вас очень любит и уважает, и искренне хочет видеть Вас на своих страницах. Наша редколлегия самая молодая и, возрадовавшись некоторыми успехами журнала, пытается сделать из «30 дней» самый острый журнал, журнал новеллы, рассказа, маленькой пьесы.
Мы очень хотели бы Вас видеть в предсъездовском номере.
Тема – по Вашему выбору. В качестве пожелания, позволяем себе перечислить, что нас и читателей интересовало бы в первую очередь – о новелле, о русской новелле в частности, о работе редактора над классическими вещами и, наконец, диалог о литературе в той Вашей простой и свободной манере, которая делает Вас самым интересным публицистом.
Может быть, Вы хотели бы поспорить о литературных делах? Помечтать? Покритиковать кого-нибудь?
Единственно главное, чтобы Вы дали нам что-нибудь.
Крепко жму Вашу руку
Не пройдет и четырех месяцев, как Павленко даже имя «самого интересного публициста» сотрет из своей памяти, надеясь, что его письмецо 1934 г., адресованное, как было объявлено, «фашистскому шпиону, диверсанту и убийце», не будет поставлено ему в вину…
Из письма Корнея Чуковского, вернее, из сохранившейся у Каменева рабочей записки без обращения, приведем введение (Опустим деловое, конкретное содержание – замечания к вступительной статье Каменева для двухтомника полного собрания стихов Некрасова). Это письмо коллеге-писателю: «Я люблю язык Ваших позднейших писаний: даже при изложении сложных и запутанных мыслей он остается свободен, изящен и прост. Тем придирчивее я отношусь к случайным погрешностям Вашего стиля…» [110]110
РГАСПИ. Ф. 323. Оп. 1. Ед. хр. 165. Л. 9.
[Закрыть].
Дневники Корнея Чуковского содержат ценнейший для нашего сюжета материал; грех им не воспользоваться:
5 декабря 1934, Москва:
«…Вчера я весь день писал и не выходил из своего 114 номера „Национали“. Вечером позвонил к Каменевым, и они пригласили меня к себе поужинать. У них я застал Зиновьева, который – как это ни странно – пишет статью… о Пушкине („Пушкин и декабристы“). Изумительна версатильность этих старых партийцев. Я помню, как Зиновьев не удостаивал меня даже кивка головы, когда он был недосягаемым мифом (у нас в Ленинграде). <…> Татьяна Ивановна <Глебова> угостила меня луком, ветчиной, пирожками – очень радушно. А потом мы пошли по Арбату к гробу Кирова. На Театральной площади к Колонному залу очередь: человек тысяч сорок попарно. Каменев приуныл: что делать? но, к моему удивлению, красноармейцы, составляющие цепь, узнали Каменева и пропустили нас, – нерешительно, как бы против воли. Но нам преградила дорогу другая цепь. Татьяна Ивановна кинулась к начальнику: „это Каменев“. Тот встрепенулся и даже пошел проводить нас к парадному ходу Колонного зала. Т. И.: „Что это, Лева, у тебя за скромность такая сказал бы сам, что ты Каменев“. – „У меня не скромность, а гордость, потому что а вдруг он скажет: никакого Каменева я знать не знаю“. В Колонный зал нас пропустили вне очереди. В нем даже лампочки электрические обтянуты черным крепом. Толпа идет непрерывным потоком, и гэпеушники подготовляют ее: „скорее, скорее, не задерживайте движения!“ Промчавшись с такой быстротой мимо гроба, я, конечно, ничего не увидел. Каменев тоже. Мы остановились у лестницы, ведущей на хоры, и стали ждать, не разрешит ли комендант пройти мимо гроба еще раз, чтобы лучше его разглядеть. Коменданта долго искали, нигде не могли найти – процессия проходила мимо нас, и многие узнавали Каменева и не слишком почтительно указывали на него пальцами. Оказалось, Каменев добивался совсем не того, чтобы вновь посмотреть на убитого. Он хотел встать в почетном карауле. Наконец явился комендант и ввел нас в круглую „артистическую“ за эстрадой. Там полно чекистов и рабочих, очень печальных, с траурными лицами <…>– и каждые 2 минуты из их числа к гробу отряжают 8 человек почетного караула. Каменев записал и меня. Очень приветливый, улыбающийся, чудесно сложенный человек, страшно утомленный, раздал нам траурные нарукавники – и мы двинулись в залу. Я стоял слева у ног и отлично видел лицо Кирова. Оно не изменилось, но было ужасающе зелено…» [111]111
Чуковский К.Т. 12. С. 547–548.
[Закрыть]
20 декабря, Москва:
«В „Academia“ носятся слухи, что уже 4 дня как арестован Каменев. Никто ничего определенного не говорит, но по умолчаниям можно заключить, что это так. Неужели он такой негодяй? Неужели он имел какое-нб. отношение к убийству Кирова? В таком случае он лицемер сверхъестественный, т. к. к гробу Кирова он шел вместе со мною в глубоком горе, негодуя против гнусного убийцы. И притворялся, что занят исключительно литературой. С утра до ночи сидел с профессорами, с академиками – с Оксманом, с Азадовским, толкуя о делах Пушкинского Дома, будущего журнала и проч. Взял у меня статью о Шекспире, которая ему очень понравилась, звонил мне об этой статье ночью – указывал как переделать ее, спрашивал о радловском переводе „Отелло“ – и казалось, весь поглощен своей литературной работой. А между тем…» [112]112
Там же.С. 549–550.
[Закрыть]
18 января 1935, Ленинград:
«Очень волнует меня дело Зиновьева, Каменева и других. Вчера читал обвинительный акт. Оказывается, для этих людей литература была дымовая завеса, которой они прикрывали свои убогие политические цели. А я-то верил, что Каменев и вправду волнуется по поводу переводов Шекспира, озабочен юбилеем Пушкина, хлопочет о журнале Пушкинского Дома и что вся его жизнь у нас на ладони. Мне казалось, что он сам убедился, что в политике он ломаный грош, и вот он искренне ушел в литературу – выполняя предначертания партии. Все знали, что в феврале он будет выбран в академики, что Горький наметил его директором Всесоюзного Института Литературы, и казалось, что его честолюбие вполне удовлетворено этими перспективами <…> Мы, литераторы, ценили Каменева: в последнее время, как литератор, он значительно вырос, его книжка о Чернышевском [113]113
Каменев Л. Б.Чернышевский. Серия «Жизнь замечательных людей». М.: Журнально-газетное объединение. 1933.
[Закрыть], редактура „Былого и дум“ стоят на довольно высоком уровне. Приятная его манера обращения с каждым писателем (на равной ноге) сделала то, что он расположил к себе: 1. всех литературоведов, гнездившихся в Пушкинском Доме; 2. всех переводчиков, гнездящихся в „Academia“ и проч, и проч., и проч. Понемногу он стал пользоваться в литературной среде некоторым моральным авторитетом – и все это, оказывается, было ширмой для него, как для политического авантюриста, который пытался захватить культурные высоты в стране, дабы вернуть себе утраченный политический лик. Так ли это? Не знаю. Похоже, что так» [114]114
Чуковский К.Т. 12. С. 555–556. Не исключено, что весь этот текст предназначен для посторонних глаз, чтобы уберечь Дневник, попади он в «чужие руки».
[Закрыть].
Разговаривая в своем узком кругу, писатели чувствовали себя свободнее, чем перед листом белой бумаги (притом, конечно, что вероятность напороться на тайного агента НКВД в середине 1930-х резко возросла). Вот устное высказывание И. Э. Бабеля, записанное в сентябре 1936 г. сексотом НКВД: «Мне очень жаль расстрелянных потому, что это были настоящие люди. Каменев, например, после Белинского – самый блестящий знаток русского языка и литературы <…> Мне известно, что Гитлер после расстрела Каменева, Зиновьева и др. заявил: „Теперь я расстреляю Тельмана“»… [115]115
Власть и художественная интеллигенция. С. 326. Историкам не обойтись без уцелевших записей сексотов, хотя эта информация оплачена жизнью тех, на кого стучали.
[Закрыть]