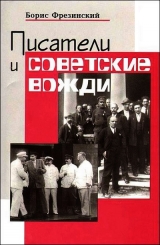
Текст книги "Писатели и советские вожди"
Автор книги: Борис Фрезинский
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 38 страниц)
6 февраля 1934 г. Павленко, редактировавший тогда журнал «30 дней», сообщает Слонимскому:
Отрывок у меня, задержан до окончания съезда, как впрочем, и весь роман, насколько я знаю. Никаких других отзывов не было, и я готовлю отрывок для след. №-ра. Гонорар переведем по возможности скорее. Я видел Ермилова и спрашивал самым дотошным образом – нет ли в подначке других соображений – ровным счетом ничего.
Возможно, с романом связана и недатированная телеграмма Павленко:
Место для отрывка из романа Слонимского в № 1 «30 дней» за 1934-й заняла глава из доклада Сталина на XVII съезде партии; в следующем номере отрывок тоже не появился (отмечу, что в конце 1933 г. «30 дней» анонсировали Слонимского осторожно – не главы из романа, как в случае с Фадеевым, а новые рассказы, которых не было).
Главу «Коновод» перепечатал журнал питерской пролетарской литературы «Резец» (№ 3. 1934) с примечанием редакции: «Глава из романа „Крепость“, посвященного показу борьбы троцкистско-зиновьевской оппозиции против генеральной линии партии» (Слонимский старался обходиться словами «ленинградская оппозиция»). Публикацию завершала жирно набранная цитата из доклада Сталина XVII съезду: «Если на XV съезде приходилось еще доказывать правильность линии партии и вести борьбу с известными антиленинскими группировками, а на XVI съезде – добивать последних приверженцев этих группировок, то на этом съезде – и добивать нечего, да, пожалуй, и бить некого; все видят, что линия партии победила»; эта цитата придавала публикации из книги Слонимского характер неопасного исторического материала.
23 апреля 1934 г., отмечая вторую годовщину «исторического» постановления ЦК о роспуске РАППа, «Литературный Ленинград» поместил интервью писателей о том, как сказалось это постановление на их практической работе; осторожный М. Слонимский говорил о завершенном и давно лежащем в журнале романе, как о еще находящемся в работе. Впервые он употребил термин «партийный роман»:
Вы знаете, что я поставил своей задачей написать «партийный роман» – книгу о ленинградской оппозиции. Лишнее, я думаю, говорить о том, насколько трудна и ответственна взятая тема. И целое, и мельчайшие детали надо выверить до предельной точности. Бывали моменты, когда я думал, что работа закончена, но затем мне становилось ясным, что многое еще надо доделывать. Та помощь и внимание, которые я получаю в своей работе от авторитетнейших товарищей, лишний раз подчеркивает, что в нашей стране писатель перестает быть «кустарем-одиночкой», а становится участником общего большого дела. Когда роман будет закончен? Не знаю. Особая торопливость всегда вредна, а здесь в особенности. Дело в том, чтобы книга и политически, и художественно звучала так, как мне этого хочется. Я обязан так выполнить свою работу, чтобы она была полной мерой моих писательских сил, максимумом того, что я могу дать. Во всяком случае, роман все время находится в работе и из нее не выбывает.
По-видимому, летом 1934 г. (письмо без даты) Павленко снова и вполне оптимистично написал Слонимскому:
Как твой роман? Я еще никого не видел из наших москвичей и ничего не знаю о происшедших событиях в нашей общественности оргкомитетской, но не пострадало ли от всего этого положение твоего романа? Читался ли он наверху? Что сказали? Пожалуйста, напиши. Интерес к твоему роману у меня не только товарищеский, но и глубоко творческий. Каким бы ни вышел твой роман – он начало того тематического возрождения, которого мы все ждем и начать которого все боимся по причинам мало принципиальным и, по-видимому, более шкурным, чем творческим. Надо писать большие, острые вещи. По-видимому, масштаб и острота – качества. Язык, метафоры, форма – прикладное искусство. Хорошо, когда они есть, но отлично, когда их не замечаешь. Тема – вот главное. Черт возьми, когда сплю, я очень хорошо вижу, как надо писать прекрасные произведения. Форма должна раздвигаться как театральный занавес, написанный рукой мастера, и оставлять перед читателем – одно голое действие. Акт закончился – занавес сдвигается. Форма, мне кажется, открывает и приостанавливает содержание, как занавес. Она граница содержания. Но театр не в занавесе, он в действии, что за занавесом.
Следующее упоминание романа Слонимского в письмах Павленко появится только в 1937 г. …Что же касается вопроса: «Читался ли он наверху?», то Серапион Каверин в мемуарах «Эпилог», не слишком ласковых к Слонимскому, утверждал: «Он написал и послал Сталину свой роман об оппозиции, направленный против Бухарина, Зиновьева и Каменева, и пережил постыдную неудачу, связанную с этим романом» [554]554
Каверин В.Эпилог. М., 1989. С. 81.
[Закрыть]. Замечу, что очевидная неточность этой фразы (роман – о ленинградской, то есть левой, оппозиции, а Бухарин – правый) снижает надежность ее информации, хотя, разумеется, без разрешения Сталина такой роман не мог быть ни напечатан, ни запрещен.
8 августа 1934 г. в преддверии Первого съезда советских писателей (Павленко будет избран в его президиум, а Слонимский – только в секретариат) «Литературный Ленинград» напечатал интервью со Слонимским. В нем, разумеется, ни слова о запрете романа, но зато снова о желании работать над ним дальше:
Уже давно я занят большим романом, который находится в органической связи с «Лавровыми» и «Фомой Клешневым». Хронологически этот роман должен подвести читателя к первым годам реконструктивного периода, а в тематическом отношении дать картину роста пролетарской интеллигенции, столкновения и соприкосновения двух культур – старой буржуазной и новой советской – все на фоне политической борьбы в преддверии реконструктивного периода. Партийная интеллигенция, рабочие, интеллигенты – вот основные персонажи этого будущего романа. Первая его часть закончена вчерне, но я не собираюсь ее печатать. Избранная мною тема – достаточно ответственная, сложная и трудная. Вот почему мне хочется немного отойти от моей вещи и взглянуть на нее со стороны, спокойно и трезвым взглядом. Может быть, я подвергну ее дальнейшей переработке.
Обратим внимание на то, что в этих словах о романе «ленинградская оппозиция» вообще уже не упоминается, как будто речь идет о совсем другой книге!
В следующем номере «Литературного Ленинграда» напечатан отчет о ленинградской писательской конференции. В произнесенной там речи Федина, посвященной ленинградской прозе, подробно говорилось о работе практически всех, даже мелких, прозаиков; разговор о Слонимском Федин отнес в самый конец речи, в раздел «Политический роман»:
Писатели довольно робко стоят в стороне от клокочущего жизнью материала, от неизбежной публицистической темы, от обостренной ответственности всей задачи. Но наш век, перенасыщенный политикой, толкает литературу к политическому роману. Им занят Михаил Слонимский, продолжающий серьезную работу над романом «Крепость», отдельные куски которого известны из печати. Во всем развитии писателя за последние годы характерно тяготение к политической теме и желание раскрыть ее прямо, как математическую формулу. Путь этот для Слонимского вполне логичен.
Это было последнее упоминание о романе Слонимского «Крепость» в советской печати. После 1934 г. его не упоминали никогда – даже в справочной статье о Слонимском в КЛЭ…
Поиск романа «Крепость» я начал с Москвы, с главного литературно-художественного архива страны – РГАЛИ. Но среди скромно представленных материалов М. Л. Слонимского там этого романа не оказалось. Выяснилось, что почти весь архив писателя хранится в его (и моем) родном городе, в архиве, который раньше красноречиво назывался ЛГАЛИ, а теперь торжественно именуется ЦГАЛИ СПб. Фонд Слонимского (Ф. 414) начал комплектоваться там еще при жизни писателя; после его смерти родные Михаила Леонидовича завершили эту фундаментальную работу, передав на хранение государству тысячи листов – рукописи его произведений (беловые и черновые), переписку, критико-биографические материалы. Романа «Крепость» среди этих бумаг не было. Слонимский либо его уничтожил, либо родные писателя сочли, что эта рукопись будет компрометировать автора. Впрочем, среди бумаг фонда 414 отыскалась беловая авторская машинопись одного из вариантов первой главы романа «Крепость»; на ней дата – 14 марта 1933 [555]555
ЦГАЛИ. СПб. Ф. 414. Оп. 1. Ед. хр. 2.
[Закрыть]. Судя по этому тексту, роман начинался эпической картиной Питера периода нэпа. В первой главе появлялся персонаж – вернувшийся из эмиграции в нэповскую Россию профессор-экономист и политический литератор Воскобойников; его глазами Слонимский глядел на жизнь города: пристально, замечая невидимое другими, и с явным привкусом иронии. Эпичность не помешала быстро перейти к сути дела: «Всякий мог заметить, что жизнь в Ленинграде – несколько иная, чем в Москве, – настороженней и тише, словно город этот стремился жить отдельной от страны жизнью, словно он готовился к некоему прыжку, чтобы вернуть себе прежнее значение и власть. Было похоже, что местные вожаки только и ждут момента, чтобы доказать свою особую и единственную правоту. „Зиновьевской вотчиной“ называли остряки всю эту область». Профессор Воскобойников думает так, как надо автору – он «сам не понимал, почему эта особенность Ленинграда, вначале неприятно поразившая его, затем стала нравиться ему. Он иногда даже удивлялся себе – например, тогда, когда испытывал неожиданное удовольствие, узнав, что ленинградская организация требует исключения Троцкого из партии. Ну какое ему до этого дело? Но в этом, как и в жестах Троцкого, было нечто смутно успокаивающее, несмотря на всю резкость и революционность произнесенных при этом слов» (так писатель выдает за проницательность героя всего лишь авторское подчинение сталинской фальсификации!). «Все эти ощущения профессор Воскобойников копил в себе, ни с кем не делясь ими, потому что никто из его друзей и знакомых, как казалось ему, не испытывал их, – а из всех прежних своих качеств профессор особенно развил в себе сейчас осторожность». Однажды все-таки Воскобойников поделился этими соображениями со знакомым историком и получил в ответ: «Я занят смутным временем, да. За их драками не слежу. Но уверяю вас, когда нужно будет нас раздавить, они сразу помирятся». Проницательный Воскобойников «осторожно промолчал, но удивился недальновидности собеседника», начисто не понимавшего высокой принципиальности сталинского ЦК… Однако в первоначальном варианте романа Воскобойникову отводилась куда более скромная роль. Обнаружилось это неожиданно.
В 1934 г. все сохранившиеся к тому времени черновые листочки своей прозы (не беловики!) Слонимский, очень серьезно относившийся и к работе, и к архивному делу, передал в Пушкинский Дом, где к тому времени уже хранились многочисленные бумаги его родственников (отца, матери, дядюшки и тетушек). Продолжатель дела литературного клана естественно должен был пополнить это собрание своими бумагами. Находился он тогда на пике известности и благосклонности властей, входил в число «ведущих» писателей, и Пушкинский Дом принял его черновики. Среди рукописей, отданных Слонимским, находился и пакет в 370 листов плотной бумаги формата А4, как сказали бы теперь, исписанной темными чернилами с двух сторон [556]556
РО ИРЛИ. Ф. 521. Оп. 1. № 18. Работники рукописного архива, не вникая в суть трудов молодого писателя и не спросясь его, датировали эту работу 1926 г., хотя ее содержание относится к 1925–1928 гг. Далее указываются лишь номера листов рукописи.
[Закрыть]. Это были абсолютно разрозненные черновые страницы романа «Крепость» – десятки раз переписываемые набело варианты отдельных страниц отдельных глав. Почти 70 лет они пролежали в рукописном отделе ИРЛИ, и за это время лишь один аккуратный диссертант заглянул в них в 1963 г., да вот я теперь.
При очевидной хаотичности листов (не всегда даже текст на обороте страницы продолжал написанное на ее лицевой стороне) и невозможности уяснить полную структуру романа (нет начала всех глав), по листам этим все же можно углядеть не только канву книги, но и некоторые существенные ее подробности. Маниакальное упорство, с которым автор старательно переписывает одно и то же, чуть варьируя, убирая политически не аккуратные (или успевшие стать неаккуратными) места – впечатляет.
Название романа возникло из представления о стране как о крепости социализма, которая должна быть сильной и единой [557]557
Л. 68 (об.).
[Закрыть]. Прямая авторская речь то и дело открывает повествование глав, придавая ему политическую недвусмысленность: «Все было разрушено вокруг. Громада русских пространств, обмахнув одним крылом своим Азию, другим Европу, осталась в одиночестве – единственная страна непобежденной революции… Имея немало врагов у себя, революционная страна уже имела немало друзей по всему миру И уже рабочие всех стран усыновляли единственное свое отечество и в нем видели будущее свое спасение. Только б оно не пало, только б оно укрепилось и выросло в мощную непобедимую державу!..» [558]558
Л. 115 (об.).
[Закрыть]
«Крепость» – роман о разоблачении левой оппозиции (сверху и изнутри), а не о Зиновьеве лично. Лишь однажды вождь ленинградцев мелькнет на страницах книги – в сцене работы районной партконференции в актовом зале Технологического института, причем увиден Зиновьев был глазами одного из главных персонажей проницательного оппозиционера Антона Андреевича Ливака: «На трибуну всходил кучерявый мужчина в сером просторном пиджаке, внешностью своей несколько похожий на Антона Андреевича. Мировой авторитет его имени, которое уже может быть вошло и заняло свое видное место в истории, его долголетнее спутничество с Лениным, мировой авторитет его революционного имени – все это подавляло всех здесь присутствующих». Тут автор забеспокоился, не слишком ли он переусердствовал; последние фразы были зачеркнуты и вместо них написано: «Его долголетнее сотрудничество с Лениным, мировой авторитет его революционного имени – все это подавляло всех здесь присутствующих. И привычным холодом захлестнуло сердце Ливака при виде вождя… Какой блистательный оратор!» [559]559
РО ИРЛИ. Ф. 521. Оп. 1. № 18. Л. 345 (об.).
[Закрыть]А затем герой подумал о Зиновьеве: «Не выдержит он… нет, не годится… Сильный человек нужен» [560]560
Л. 347.
[Закрыть].
В романе нет главного героя; основных персонажей несколько. Подробно выписан темпераментный, решительный, жесткий и даже жестокий деятель ленинградской оппозиции (а до того – революции и гражданской войны) Роберт Юльевич Краузе (поначалу у Слонимского – Юлий Робертович, потом, возможно вспомнив о Мартове, он поменял имя с отчеством); любопытно: что-то удержало автора и он не сделал одного из центральных героев-оппозиционеров евреем, хотя и русский ему тоже не сгодился. Из других фигур назовем: упоминавшегося уже Ливака, понимавшего всю революцию «как некую громадную склоку» [561]561
Л. 173.
[Закрыть], участника губернской партконференции Лапушкина, прозревающего оппозиционера Виктора («Ленинград начинает страшное дело, то, против которого предостерегал Ильич» [562]562
Л. 38.
[Закрыть]); прозревают, конечно, и преданная жена Краузе, пытающаяся в конце покончить с собой, и его любимая дочь Леночка…
Подготовка к XIV съезду ВКП(б) и проигранное на нем ленинградцами сражение – в центре романа. Вот характерная лексика:
«Страна напрягала все силы, готовясь к решительному повороту, и все, что было враждебного, чуя близкую свою гибель, собирало свои ответные силы» [563]563
Л. 184.
[Закрыть];«Квартира Краузе превращалась не то в постоялый двор, не то в проходную контору, не то, скорей всего, в некий явочный пункт, куда сходились всякого рода оппозиционеры. В ожидании новостей, инструкций, распоряжений тут толклись и знакомые, и незнакомые. Надежда, отчаяние, пафос и страх поселились здесь, бросаясь на каждого приезжего из Москвы. Иной делегат, примчавшись утром, устраивал нужную встречу с кем-нибудь именно здесь, в этой квартире, а к ночи мчался обратно в Москву, торопясь на съезд» [564]564
РО ИРЛИ. Ф. 521. Оп. 1. № 18. Л. 121 (об.), 200 (об.).
[Закрыть];«Съезд сказал свое слово. „Оппозиция разоблачила себя на съезде целиком“, – обратился съезд к Ленинграду… Съезд одобрил и овациями подтвердил правильность пути, указанного в политическом отчете ЦК» [565]565
Л. 123.
[Закрыть].
Важным для автора было показать, как прозревают рядовые ленинградцы. Некоторым персонажам хватает примитивных соображений: «Сталин и Ворошилов – это же в гражданской войне мои вожди! Как же это выходит? – они, что ли, обманывают? Нет, скорей уж эти из кафе заграничных» [566]566
Л. 68.
[Закрыть](читатель должен думать, что по ходу Гражданской войны лидеры оппозиции продолжали сидеть в зарубежных кафе, где прежде, между прочим, они сиживали с Лениным). Мыслителей более глубокого ранга автор заряжает рассуждениями историко-партийного порядка. Во-первых, конечно, мысли об изобличающем сотрудничестве ленинградских оппозиционеров с Троцким. (Кроме слов «самонадеянный и самовлюбленный» [567]567
Л. 173.
[Закрыть], характеризующих создателя Красной армии, Слонимский использует, как синоним предательства, и само его имя-отчество; Троцкого в романе поддерживают отпетые мерзавцы, и сами их формулы: «У Льва Давыдовича есть программа… Лев Давыдович вождь первого сорта, не в пример другим. Иллюзий насчет мужика у него нет. Мужик – это реакция» [568]568
Л. 168.
[Закрыть]– говорят, по мысли автора, сами за себя). Эти рассуждения переносятся со страницы на страницу: «Будников не мог понять… как могло случиться, что люди, годами боровшиеся против Троцкого, внезапно объединились с ним, взяв от него даже программу… Ведь разговоры о термидоре начались именно с того, что руководство партии обвинялось ленинградцами в предоставлении чрезмерного влияния Троцкому! Как это можно, вчера требуя исключения Троцкого из партии, сегодня объединяться с ним?» [569]569
РО ИРЛИ. Ф. 521. Оп. 1. № 18. Л. 177 (об.).
[Закрыть]. Альянс Троцкого со своими вчерашними противниками действительно был его политической ошибкой, однако после 1924 г. поражение Льва Давыдовича было предопределено. Заметим попутно, что везде в книге под «руководством партии» понимается Сталин, а здесь явно имеется в виду Ленин, поскольку Сталина в потворстве Троцкому никто никогда не обвинял (впрочем, возможно, Слонимский ничего сам и не придумывал, а просто списал это у какого-нибудь тогдашнего сталинского борзописца, вроде Ем. Ярославского).
Второй аргумент, вкладываемый автором в уста прозревающих персонажей романа, – избирательно читаемое ими «завещание» Ленина: «Будников не пошел на секретное, уже почти подпольное совещание оппозиционеров. Взяв перепечатанный экземпляр письма Ленина, известного под названием „завещание“, он надел очки и стал перечитывать его. И как бы впервые почувствовал он значительность строк, посвященных в этом письме нынешним оппозиционным вождям. Без всяких оговорок „неслучайным“ назывался поступок их в ответственнейшие дни Октября и категорически отмечался „небольшевизм“ Троцкого. Эти слова выпирали сейчас перед Будниковым ярче, чем все то, на чем пыталась спекулировать оппозиция» [570]570
Там же.
[Закрыть]. Переписывая в очередной раз эти строки, Слонимский понял, что надо убрать все еще остающийся в них намек на то, что помимо критики Троцкого, Зиновьева и Каменева в «завещании» Ленина есть и нечто иное – требование убрать Сталина (конечно, в погоне за временем осмотрительнее было бы вообще опустить упоминание о «завещании» Ленина, но Слонимский за временем не поспевал…).
Последние главы романа относятся к периоду полного разгрома левых, написаны они автором, который, как и весь мир, уже знал имя победителя, и написаны патетически: «Страна поворачивала к пятилетке, к ликвидации врага как класса, к реконструкции всего огромного хозяйства на новой технической базе. Страна ускорила темп жизни, и в этом напряжении всех сил уже бесспорно ясной становилась роль кучки все еще несдавшихся протестантов. Они уже протестовали против всего, даже против семичасового дня, введенного в десятилетие Октября, они, выбрасываемые с рабочих собраний, на улицах Москвы и Ленинграда в день десятилетия выступали со своими призывами и ответная злоба рабочих (имеется в виду, видимо, подразделения ГПУ. – Б.Ф.) загнала главного руководителя города („главного“ зачеркнуто на „бывшего“. – Б.Ф.) на четвертый этаж первого попавшегося дома. Вожди оппозиции вели себя так, словно им, как занимающим особое место в партии, все дозволено. Терпение партии, напрягавшейся у руля, истощалось» [571]571
РО ИРЛИ. Ф. 521. Оп. 1. № 18. Л. 190.
[Закрыть].
Сталина, как и других реальных персонажей, в романе нет: лишь цитаты из его докладов на партийных съездах и ответные аплодисменты зала; имя его упоминается нечасто, но суровая тень «отца народов» чувствуется повсеместно, и употребляемая автором сталинская аббревиатура «Цека» обозначает именно его. Известно, что в пору отчаянной борьбы с противниками их позиции левые считали своим самым главным идейным врагом не организатора их уничтожения Сталина, а теоретика партии Бухарина (была такая формула левых: «со Сталиным компромисс возможен, с Бухариным – никогда»). Поэтому многие левые лидеры, находившиеся в ссылке, после разгрома Бухарина «клюнули» на предложение присягнуть Сталину. Вопреки этому герой Слонимского рассуждает, как кажется автору, с тупым упорством: «Краузе не желал отделять руководство партии от ошибок Бухарина. Ему казалось, что отмежевание Бухарина, осуждение руководством его позиции – все это только маневр для подготовки более серьезных атак. Не в Бухарине дело» [572]572
Л. 362.
[Закрыть]. Дело было действительно не в Бухарине…
Вернемся, однако, к издательской судьбе романа «Крепость».
На Первом съезде советских писателей, проходившем в Москве с 17 августа по 1 сентября 1934 г., Слонимский (впрочем, как и Павленко) не выступал, о его романе никто не упомянул, даже редактор «Красной нови» Ермилов, прежде собиравшийся печатать «Крепость», отметил, как достижение, переход Слонимского, «который много времени и дарования отдавал теме об интеллигенции», к повести о Левинэ (стенографистки не расслышали и в отчете напечатали «повести о Ленине» [573]573
Первый съезд советских писателей. Стенографический отчет. М., 1934. С. 166.
[Закрыть]).
К. И. Чуковский приносил на съезд свой альманах «Чукоккалла», и писатели в нем резвились. Вс. Иванов 17 августа записал: «Миша Слонимский ходит без романа. Идет два съезда: Писателей и „Серапионов“. А он без романа». 18 августа Слонимский ответил: «Роман, между прочим есть, и лежит в столе. Сам Волин сказал: „Слово запрет исключено“. Тем не менее…» [574]574
«Чукоккалла». С. 486.
[Закрыть]Конечно, Б. Волин был тогда начальником Главлита, т. е. Цензуры, но вопрос о судьбе романа Слонимского решал не он…
В конце съезда Слонимского включили в комиссию по уставу Союза. 1 сентября 1934 г. Политбюро приняло списки: «Наметить следующий состав Правления, Президиума, Секретариата, Ревизионной комиссии и бюро Ревизионной комиссии Союза советских писателей». На заключительном вечернем заседании 1 сентября съезд за эти списки проголосовал единогласно [575]575
Власть и художественная интеллигенция. С. 237–238, 762.
[Закрыть]. Слонимский, как и Павленко, был включен в правление ССП из 101 человека во главе с Горьким. Но в президиум из 37 человек его, в отличие от Павленко, не включили. Иначе говоря, в политическом доверии ему не отказали, но и особенной расположенности к нему не проявили.
Отметим, что еще 7 мая 1932 г. Оргбюро ЦК ВКП(б) утвердило организационный комитет Союза советских писателей, которому еще только предстояло создать Союз. В оргкомитет вошло (не по алфавиту!) всего 24 человека; первым в списке значился почетный председатель А. М. Горький, вторым – председатель И. М. Гронский (его сняли уже перед съездом, заменив А. С. Щербаковым), третьим – секретарь В. Я. Кирпотин, четвертым – А. А. Фадеев, седьмым П. А. Павленко, а последним 24-м (в числе всего восьми чистых «попутчиков») – М. Л. Слонимский [576]576
Там же.С. 175–176.
[Закрыть].
Что же, определившее отношение к Слонимскому, произошло между 7 мая 1932 г. и 1 сентября 1934 г.? В интересующем нас смысле – только одно: была завершена первая редакция романа Слонимского об оппозиции. Теперь, однако, можно сказать и еще – нечто в высшей степени для Слонимского важное.
В 2006 г. были опубликованы многие страницы дневниковых записей В. Я. Кирпотина. В них описываются две встречи писателей со Сталиным у Горького, на которых Кирпотин присутствовал. Первая (в узко партийном составе писателей) – 20 октября 1932 г. и вторая (в более широком составе, включавшем и «попутчиков») – 26 октября. По версии Кирпотина, идея этих встреч Сталину была подсказана Кировым, который еще в 1931 г. провел встречу с ленинградскими писателями на квартире у М. Слонимского и, видимо, посчитал ее полезной. Кирпотин на этой встрече тоже присутствовал (по его мнению, «встреча была задумана, чтобы „прощупать настроения“ беспартийных писателей и писателей-коммунистов» [577]577
Кирпотин В. Я.Ровесник железного века. Мемуарная книга. М., 2006. С. 177.
[Закрыть]).
Описывая вторую встречу со Сталиным у Горького 26 октября 1932 г., где как обычно писателей щедро угощали и было много выпивки, Кирпотин приводит эпизод, случившийся уже под утро, когда Сталин надел шинель, чтоб уходить, и после выразительной сцены между Сталиным и Бухариным. Этот эпизод приведем целиком:
«В последний момент произошла еще одна колоритная сценка, характерная для всего вечера, для всего застолья. Сталин затягивал шинель, около него юлил пьяненький Павленко. Я застал конец разговора:
– Говно ваш Слонимский, – сказал Сталин.
– Говно, но свое, – быстро нашелся Павленко.
Сталину понравился ответ. Он засмеялся и еще раз повторил:
– Говно ваш Слонимский.
Павленко видит, что Сталину нравится ответ, и снова повторяет:
– Говно, товарищ Сталин, говно, но свое.
И Сталину понравилась эта игра:
– Говно, говно ваш Слонимский.
Стоящие вокруг радостно посмеивались» [578]578
Там же.С. 204.
[Закрыть].
Об этом диалоге Павленко Слонимскому не сказал ни слова и, разумеется, не по забывчивости; диалога этого Павленко не забывал, учитывал его, надо думать, и в январе 1939-го, когда распределялись ордена для писателей. Но все эти годы переписка Павленко со Слонимским продолжалась и все положительные новости из Москвы Слонимскому сообщались. Так, скажем, 12 июня 1935 г. Павленко писал о распределении машин для ленинградского литначальства: «Говорил о 2-х машинах и узнал, что первая из них не то уже получена, не то получается и есть уже решение Секретариата ее предоставить Федину, вторая будет тебе…»
Выстрел, прогремевший 1 декабря 1934 г. в Смольном, поставил окончательный крест на романе Слонимского.
Писатель, по-видимому это понимал и о настроении его можно судить по докладной записке Управления НКВД по Ленинградской области, направленной 28 мая 1935 г. сменившему убитого Кирова Жданову. Эта записка имела выразительный заголовок «Об отрицательных и контрреволюционных проявлениях среди писателей города Ленинграда»; она составлена на основании агентурных данных, поступивших в НКВД. Имя Слонимского упоминается в ней семь раз. В связи с арестом «контрреволюционной националистической» группы молодых ленинградских писателей (в нее входили Б. Корнилов, Н. Чуковский и др.) в записке приводилось такое высказывание Слонимского: «Я думаю, что последние аресты молодежи только начало, скоро будут арестовывать и нас, представителей более старого поколения, ведь мы тоже считаемся „политически неустойчивыми“». На прямой вопрос его собеседника (писатель М. Козаков): «Какой выход из создавшегося положения?» – последовал ответ, что «наиболее целесообразным отойти от всякой общественной работы, сидеть дома, заниматься творчеством и нигде не показываться» [579]579
Власть и художественная интеллигенция. С. 259.
[Закрыть]. (В этой фразе сквозит обида и досада, но никак не практическая программа действий: соскочить с литературной дорожки «Лавровы» – «Фома Клешнев» – «Крепость» – вряд ли было реально, что и подтвердила изданная в 1939-м повесть Слонимского «Пограничники»), Характерно сообщение со слов М. Козакова, что реально правивший Ленинградским отделением Союза писателей его ответственный секретарь А. Е. Горелов прислал Слонимскому текст резолюции по поводу действий НКВД (приветствующую их, понятно) с требованием подписать ее к следующему утру (председатель Союза Н. Тихонов под благовидным предлогом текст не принял, Федин якобы уехал работать на дачу, Зощенко и Форш подписать отказались). Слонимский отказаться не посмел, но, как говорил Козаков, «мы со Слонимским вырабатывали, вырабатывали новый текст, пока не пришлось покончить с этим делом и замять его, а ведь дело большой политической важности»… [580]580
Власть и художественная интеллигенция. С. 259.
[Закрыть]
С декабря 1934 г. давно уничтоженная ленинградская оппозиция официально аттестовывалась простенько – презренные шпионы, диверсанты и убийцы, лишь до поры до времени маскировавшиеся. Новая трактовка требовала совершенно иного романа об оппозиции. Слонимский, надо думать, был к этому не готов. Впрочем…
В январе 1937 г. в Москве шел процесс по делу Радека, Сокольникова, Пятакова… Павленко – спецкор «Правды», автор трех пылких репортажей с процесса – пишет по окончании суда работающему над повестью о пограничниках Слонимскому:
На последнем процессе несколько раз вспоминал твой роман об оппозиции. Надо тебе вернуться к нему. Обязательно. Тема пограничников хороша, но не остра. Она слишком спокойна, если ее брать изолированно и показывать одних пограничников, не показывая шпионов и диверсантов, т. е. давать картину исполненную только со стороны героической. Если не хочешь возвращаться к тому роману – обязательно разверни в «Пограничниках» западную тему, тему вредителей. Тогда работа пограничников будет звучать остро политически. Процесс был для всех нас, на нем присутствующих, колоссальной школой. Я думаю, что все в той или иной форме будут писать о нем. <…> Сейчас писать и писать. Никогда не было такой горы, такого колоссального хребта величайших тем, как сегодня, а мы стали взрослее, смелее, открытее. Сажать бы романа по 2 в год!
По-видимому, Слонимский (может быть, лишь из предосторожности – не знаю) пообещал вернуться к роману, потому что 1 июня 1937 г. Павленко спрашивал:
Что ты поделываешь? Помимо заседаний. Кончил ли о пограничниках всё, что хотел, и вернулся ли к роману об оппозиции? <…> Я торчал в Ялте, писал, много бродил по горам и лечился в каком-то диатермическом кабинете… Был у меня там Саша Фадеев. Вспоминали тебя, твой роман.
30 октября 1937 г. в письме Павленко И. И. Слонимской тот же вопрос о работе ее мужа:
И снова 4 декабря 1937 г.:
Как подвигается Мишин роман? Должно быть нелегко, а – главное – жизнь все время усложняет его развитие.
Это последнее упоминание в письмах Павленко о романе Слонимского. Жизнь действительно, как писал Павленко, «все время усложняла его развитие». Чем дальше, тем больше. Возник новый социальный заказ – на роман о врагах народа, но Слонимский с такой задачей справиться не мог. Пришли иные времена, взошли иные имена. В 1937 г. «Знамя» напечатало роман Н. Вирты «Закономерность» (в конце его стоят даты 1927–1936, но это скорее для понта, вряд ли молодой автор десять лет терпеливо переделывал роман, пока не довел его до кондиции 1937 г.). В романе Вирты, оснащенном для монументальности библейским эпиграфом, троцкистские бандиты являются уголовниками и наймитами империализма, глубоко чуждыми советскому народу. Этот роман неоднократно переиздавался (последний раз аж в 1972-м в «Московском рабочем»…)

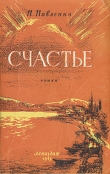





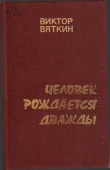
![Книга Первый всесоюзный съезд союза советских архитекторов, №2, 4-9 ноября 1934 года [Сборник документов] автора авторов Коллектив](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-pervyy-vsesoyuznyy-sezd-soyuza-sovetskih-arhitektorov-2-4-9-noyabrya-1934-goda-sbornik-dokumentov-439768.jpg)