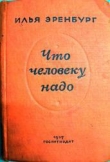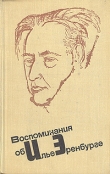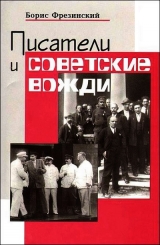
Текст книги "Писатели и советские вожди"
Автор книги: Борис Фрезинский
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 38 страниц)
Эренбург знал, что любое сопротивление замыслу вождя могло вызвать лишь его гнев и, стало быть, помешать попытке остановить им задуманное. Потому Эренбург недвусмысленно написал вождю, что тотчас подпишет письмо, если он сочтет это полезным для Родины. Поскольку Сталин считал Эренбурга неплохо знающим Запад и хорошо – положение дел в Движении сторонников мира, а со взглядами специалистов он, бывало, считался, Эренбург избрал в качестве аргументов против публикации письма в «Правду» не принципиально гуманистические, но сугубо прагматические соображения об отрицательном влиянии планируемого акта на западные компартии и организованное по команде Сталина Движение сторонников мира. Эти аргументы были единственными из уст Эренбурга, которые могли произвести впечатление на Сталина и остановить реализацию задуманного.
Письмо Эренбурга Сталину Минц и Маринин доставили главному редактору «Правды» Д. Т. Шепилову. Прочесть его он, надо думать, не решился, но и адресату сразу не отправил. Вместо этого вызвал Эренбурга к себе в «Правду».
Обратимся снова к рассказу писателя, записанному Б. Г. Биргером: «Шепилов сказал, что письмо ИГ к Сталину находится у него и что он его до сих пор не отправил дальше, так как очень хорошо относится к ИГ, а отправка письма с отказом от подписи коллективного письма в „Правду“ равносильна приговору. Шепилов добавил, что не будет скрывать от ИГ, что письмо в „Правду“ написано по инициативе Сталина и, как понял ИГ из намеков Шепилова, Сталиным отредактировано, а возможно и сочинено. ИГ ответил, что он настаивает на том, чтобы его письмо было передано Сталину и только после личного ответа Сталина он вернется к обсуждению подписывать или не подписывать письмо в „Правду“. Шепилов довольно ясно дал понять ИГ, что тот просто сошел с ума. Разговор продолжался около двух часов. Шепилов закончил его, сказав, что он сделал все, что мог для ИГ, и раз он так настаивает, то передаст его письмо Сталину, а дальше пусть ИГ пеняет на себя. ИГ уехал от Шепилова в полной уверенности, что его в ближайшие дни арестуют».
Текст письма Эренбурга Сталину Биргер не знал, но, сравнивая его дальнейший рассказ с приведенным текстом письма, можно убедиться и в правдивости рассказа Эренбурга, и в точности записок Биргера: «Я спросил ИГ, что же он написал Сталину. ИГ ответил мне, что он прекрасно понимал, что вслед за опубликованием письма избранных евреев с отказом от своего народа последуют массовые репрессии по отношению ко всем евреям, живущим в Советском Союзе, и поэтому, когда он писал свое письмо к Сталину, он старался прибегать только к тем доводам, которые могли бы оказать хоть какое-нибудь воздействие на Сталина. У ИГ было слишком мало времени, чтобы как следует обдумать, так как в соседней комнате сидели эти два мерзавца и довели почти до обморочного состояния Любовь Михайловну. ИГ пытался как можно убедительнее довести до сознания Сталина, что опубликование такого письма покончит с коммунистическими партиями Европы. Правда, добавил ИГ, он был уверен, что максимум – поредели бы ряды компартий Европы. Но других доводов, способных дойти до сознания Сталина, у него не было».
Здесь к месту будет напомнить единственное упоминание об этих событиях в подцензурных мемуарах Эренбурга «Люди, годы, жизнь». Написано это было примерно в ту же пору, когда писатель рассказывал о событиях начала 1953 г. Б. Г. Биргеру, написано осторожно, так, чтобы хотя бы эти несколько фраз прошли не изуродованными через цензуру – ни слова не говоря о существе дела, лишь намекая понимающему читателю. Рассказав про начавшуюся в советской прессе оголтелую антисемитскую кампанию в связи с делом врачей, Эренбург написал: «События должны были развернуться дальше. Я пропускаю рассказ о том, как пытался воспрепятствовать появлению в печати одного коллективного письма. К счастью, затея, воистину безумная, не была осуществлена. Тогда я думал, что мне удалось письмом переубедить Сталина, теперь мне кажется, что дело замешкалось и Сталин не успел сделать то, что хотел. Конечно, эта история – глава моей биографии, но я считаю, что не настало время об этом говорить» [1218]1218
Эренбург(3, 277).
[Закрыть].
Этот абзац (теперь, когда известно, о чем в нем идет речь, достаточно внятный) был опубликован и прокомментирован нами в первом бесцензурном издании мемуаров 1990 г., а тогда, в 1964–1965 гг., цензура не пропустила его, и в новомировской публикации мемуаров появился существенно более туманный абзац (коллективное письмо в нем не упоминалось вообще, отсутствовала и оценка готовившегося акта): «Февраль оказался для меня очень трудным, о пережитом мною я считаю преждевременным рассказывать. В глазах миллионов читателей я был писателем, который мог пойти к Сталину, сказать ему, что я в том-то с ним не согласен. На самом деле я был таким же „колесиком“ и „винтиком“, как мои читатели. Я попробовал запротестовать. Решило дело не мое письмо, а судьба» [1219]1219
Новый мир. 1965. № 4. С. 58–59; см. также: Эренбург И.Собр. соч. в 9 т. М., 1967. Т. 9. С. 730.
[Закрыть]. Редакция журнала предлагала Эренбургу снять процитированные здесь и разрешенные цензурой строки: все равно-де непонятно, о чем идет речь, но он настоял на сохранении этого упоминания, надеясь, что внимательные читатели хотя бы задумаются над его словами. (Заметим, что в книге Костырченко «Тайная политика Сталина» дается ссылка именно на обкорнанное цензурой изложение событий, а не на полный текст мемуаров.) Важно подчеркнуть, что не готовившуюся публикацию коллективного письма Эренбург называет «затеей, воистину безумной», а, разумеется, то, что должно было последовать за ней, угрозу чего он сразу ощутил.
В записках Биргера далее говорится: «Получил ли Сталин его письмо и сыграло ли оно хоть какую-нибудь роль во всей этой истории, ИГ не знал». Точно не знал, но безусловно догадывался. Теперь мы знаем точно: Сталину письмо Эренбурга вручено было (вплоть до 17 февраля он приезжал в Кремль и работал в своем рабочем кабинете, в частности, 2, 7, 16 и 17 февраля принимал там Маленкова [1220]1220
Исторический архив. 1998. № 4.
[Закрыть]; некоторые члены Политбюро регулярно, вплоть до 1 марта, посещали вождя на ближней даче). Именно с ближней дачи 10 октября 1953 г. письмо Эренбурга поступило в архив Сталина (теперь Президентский архив РФ.) – сегодня это факт установленный [1221]1221
См.: Источник. 1997. № 1. С. 143.
[Закрыть].
Письмо Эренбурга Сталин прочитал. Его первая реакция была эмоциональной: сообщить писателю Эренбургу, что его подпись под письмом в редакцию «Правды» товарищ Сталин считает необходимой. Но, как можно понять из дальнейших событий, над письмом Сталин продолжал раздумывать и форсировать его публикацию не стал.
Указание товарища Сталина Эренбургу было передано, и он ему подчинился.
Приведу здесь записанный мною рассказ Али Яковлевны Савич, вдовы ближайшего друга Эренбурга Овадия Герцовича Савича [1222]1222
В течение примерно 10 лет, приезжая в Москву, я записывал воспоминания А. Я. Савич «Минувшее проходит предо мною»; у нас установились очень добрые и доверительные отношения.
[Закрыть]. В один из февральских дней 1953 г., когда Савичи были в гостях у Эренбургов в их московской квартире, Илью Григорьевича срочно вызвали в «Правду». Уезжая, он сказал Савичам: «Не уходите», и они остались ждать его возвращения. Эренбург вернулся поздно и совершенно подавленный. Он сказал, вытирая ладонью лоб (что делал всегда в минуты сильных переживаний): «Случилось самое страшное – я подписал…». Рассказав это, А. Я. Савич почувствовала, что я ей не поверил. Зная тогда воспоминания Эренбурга и содержание черновиков его письма Сталину, я действительно счел рассказ Али Яковлевны какой-то аберрацией ее памяти и даже не включил его в беловую машинопись ее воспоминаний. «Боря, вы мне не верите? – печально спросила А. Я. – Я помню это, как сейчас». Много позже, когда от надежного человека мне стало известно, что подпись Эренбурга в подписных листах действительно имеется, стало понятно, что рассказ Али Яковлевны отнюдь не противоречит тому, что я знал тогда. Сперва я решил, что Эренбург подписал второйвариант письма в «Правду» (о нем речь впереди) и не мог понять, почему он так убивался, поставив под ним свою подпись. И лишь когда я в 2005 г. своими глазами увидел в РГАНИ подписной лист, на котором было собственноручно выведено: «Илья Эренбург, писатель» [1223]1223
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 25. Ед. хр. 504. Л. 181.
[Закрыть], и убедился, что подписные листы относятся именно к первомуварианту письма в «Правду», я поверил рассказу Али Яковлевны во всем его трагизме, и мне стало грустно, что я уже не могу сообщить ей об этом. Скажу еще, что на подписных листах проставлены подписи всехлиц, о которых ходили устойчивые слухи, что они письмо неподписали (возможно, их подписи были поставлены не сразу) – и Рейзена, и Ерусалимского, и Крейзера, и Дунаевского…
Подписные листы – важный документ в этой истории, и о них стоит сказать подробнее. Всего подписных листов шесть. Их первоначальная нумерация в середине верхней строчки тщательно зачеркнута, новая нумерация начинается с л. 180 (листы 173–177 – текст первого варианта письма в «Правду», листы 178 и 179 – отпечатанные на машинке фамилии подписантов, начиная с Драгунского). Порядок расположения подписей от руки ничего общего с порядком расположения подписей в верстках и машинописях не имеет. Подписи ставились на нелинованных листах отнюдь не плотно и не нумеровались. На листе 180 – десять подписей, начиная с академика С. И. Вольфковича, кончая академиком И. И. Минцем [1224]1224
Подпись Я. С. Хавинсона, пятьдесят первая по счету, на л. 186.
[Закрыть]. На листе 181 – девять подписей: генерал-полковник А. Д. Цырлин, генерал-лейтенант С. Д. Кремер, дважды Герой ДА. Драгунский, начальник цеха С. В. Лившиц, композитор Ю. С. Мейтус, поэтесса М. И. Алигер, министр Д. Я. Райзер, генерал-полковник, министр Б. Л. Ванников, писатель И. Г. Эренбург. На листе 182 – девять подписей от академика И. А. Трахтенберга до академика Л. Д. Ландау. На листе 183 – девять подписей от артиста М. И. Прудкина до конструктора М. И. Гуревича. На листе 184 – восемь подписей от учителя Д. Я. Райхина до сталевара Д. Л. Харитонского. На листе 185 – три подписи от зав. РОНО в Москве К. И. Золотаря до директора Коломенского завода тяжелого станкостроения Н. Э. Носовского. На листе 186 – восемь подписей от генерал-полковника Я. Г. Крейзера до врача О. А. Чурлионской. Всего 56 подписей (в машинописи значатся 57, но подпись Кагановича стоит на отдельном экземпляре письма).
Неизвестно, совпадает ли порядок новой нумерации подписных листов с порядком их первоначальной нумерации. «Подписанты» вызывались в «Правду» индивидуально и в разное время, чтобы они не могли встретиться друг с другом, а подписывая письмо, они не могли узнать, сколько человек поставило свои подписи до них. Установить порядок заполнения подписных листов теперь практически не представляется возможным (скажем, Эренбург оказывается девятнадцатым по счету, а подписавший письмо существенно раньше его Гроссман – двадцать первым; заметим, что подпись Эренбурга значится последней на листе 181 и могла быть поставлена в конце любого негусто заполненного листа). Отметим еще, что следующая по порядку 41-й неразборчивая подпись маляра Московского часового завода в машинописях и верстках письма вообще отсутствует; зато фигурирующая там подпись рабочего вагоноремонтного завода им. Войтовича А. И. Ямпольского отсутствует на подписных листах. На листе 185 подписи пианиста Э. Г. Гилельса и директора Коломенского завода тяжелого станкостроения Н. Э. Носовского наклеены.
Теперь о том, как развивались события после того, как Эренбург выполнил указание Сталина и расписался под письмом в «Правду».
Первые дни после этого он пребывал в отвратительном состоянии: мысль о том, что его попытка переубедить вождя и остановить замышляемое им оказалась безуспешной, была неотвязной. Но проходили дни, а еврейское письмо в «Правде» не появлялось…
Что же произошло? Понятно, что Сталин взял тайм-аут, приостановивпубликацию письма. Фактически, для точного ответа на этот вопрос мы располагаем лишь одним документом – второйредакцией письма евреев в «Правду» [1225]1225
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 25. Ед. хр. 504. Л. 160–168.
[Закрыть]. Ее сопровождала следующая записка:
(Заметим, что на этом листе имеется важная и не опубликованная Костырченко надпись наискосок: «В архив. 16 III 53. (Подпись неразборчива, может быть, Михайлов. – Б.Ф.)», говорящая о том, что решение об отмене публикации письма в «Правду» было принято еще за две недели до письма Л. П. Берии в Президиум ЦК КПСС о реабилитации арестованных по «Делу врачей-вредителей»).
Итак, первый вариант письма в «Правду» Сталин отверг и распорядился подготовить новый текст. Исполнение этого было поручено Д. Т. Шепилову. Не исключено, что Сталин обсуждал с ним содержание нового текста, может быть, даже надиктовывал какие-то его куски (видимо, на ближней даче, так как в кремлевском кабинете Сталина Шепилов последний раз был 20 октября 1952 г. [1227]1227
Исторический архив. 1998. № 4.
[Закрыть]).
Когда именно Сталин пришел к мысли отвергнуть старый и подготовить новый текст письма в «Правду», точно не известно.
Предположение, что задание подготовить новый текст Сталин дал во время встречи с Маленковым 2 февраля, представляется совершенно неверным – 18 дней немыслимо долгий срок для подготовки нового письма (Маленков тщательно следил за быстротой и точностью исполнения всехсталинских поручений, и это была одна из главных его добродетелей, особо ценимая «хозяином»). Кроме того, получи 2 февраля задание переписать текст еврейского письма, Шепилов совершенно бы иначе (без откровенных угроз) говорил с Эренбургом 3 февраля.
Факт отправления Маленковым 2 февраля в архив прежних невыправленных машинописи и верстки этого письма связан, надо думать, не с каким-либо решением Сталина по первому варианту, в частности, с тем, что вождь его отверг, как считает Костырченко [1228]1228
Костырченко.С. 681.
[Закрыть], а именно с промежуточностью, невыправленностью этих документов, и это было решение самого Маленкова: ненужные для дела бумаги, согласно правилам делопроизводства, отправлялись в архив.
Наиболее вероятно, что задание подготовить принципиально другой, существенно более мягкий, текст письма в «Правду» было дано Сталиным в одну из встреч с Маленковым 16 или 17 февраля. Важна именно эта почти двухнедельная пауза, этот сталинский тайм-аут, а уж сразу он засомневался в первом варианте письма или не сразу – исторически несущественно.
То, что Шепилов назвал «исправленным текстом проекта письма» на самом деле было новымтекстом, принципиально отличающимся от первого варианта [1229]1229
Недаром, когда журнал «Источник» в 1997 г. предпринял публикацию документов, связанную с событиями января-февраля 1953 г., и включил в нее письмо Эренбурга Сталину, а также проект письма в редакцию «Правды» – эта публикация воспринималась едва ли не как фальсификация (см., например: Фрезинский Б.Помутневший «Источник», или О чем евреи просили Сталина // Литературная газета. 1997. 26 июля). Второй вариант письма публикаторы выдали за первый. Топорную ошибку заметили многие: в письме Эренбурга Сталину от 3 февраляговорилось о письме в редакцию «Правды», напечатанном в том же номере «Источника», и в нем упоминался взрыв в Тель-Авиве, совершенный 9 февраля.При этом комментаторы сообщали, что «в деле имеются также гранки данного письма, текстуально несколько отличающиеся от машинописного варианта. На полях гранок сделаны редакционные правки, выполненные со ссылкой на мнение И. Г. Эренбурга». Но эта верстка содержала первый, принципиально иной вариант письма, который честный историк не мог спутать со вторым. Имел место откровенный обман читателей, несомненная фальсификация, – возникал вопрос, а чего, собственно, такой ужас объял евреев при чтении подобного письма в начале 1953 г.?
[Закрыть]. Самое главное отличие его в том, что о «врачах-убийцах» теперь упоминалось лишь в одном абзаце – двенадцатом от начала! И в существенно более сдержанном тоне – никакого призыва покарать убийц нет и в помине. Письмо фактически посвящено разоблачению империализма, сионизма и государства Израиль – врагов трудящихся-евреев всего мира, то есть оно целиком направлено только против внешнихврагов. Что же касается внутрисоюзных дел, то письмо заканчивалось предложением издавать международную еврейскую газету, из которой бы граждане СССР и всего мира могли узнать, как хорошо живется советским евреям в Советской стране.
Заметим, что 23 февраля 1953 г. в «Правде» была напечатана большая статья Эренбурга «Решающие годы», содержащая критику правительств США и Англии – обычная риторика того времени (в ней, к слову сказать, не было ни одной ссылки на Сталина). Следующая заказная статья Эренбурга появилась в «Правде» уже 11 марта, и называлась она «Великий защитник мира» (статья кончалась словами «Народы выполнят завет Сталина, народы отстоят мир» – начиналась новая политическая эпоха).
А теперь посмотрим, как о событиях февраля 1953 г. повествует г. Костырченко.
Его схема проста и факт эренбурговского письма Сталину фактически исключает: 29 января Михайлов и Шепилов представили Маленкову готовый текст еврейского письма в «Правду»; 2 февраля Сталин его отверг, и письмо отправили в архив; 20 февраля был подготовлен второй, мягкий вариант письма [1230]1230
Костырченко. С.681.
[Закрыть].
3 февраля в эту схему не вписывалось. Но вообще не сказать ни слова о письме Эренбурга Сталину было даже «историку-центристу» неприлично, и, упомянув, что Каганович не захотел, чтобы его имя члена Политбюро фигурировало в общем списке подписантов, автор «Тайной политики Сталина» далее пишет так: «Возникла и заминка с Эренбургом, который, прежде чем поставить свой автограф, решил заручиться благословением Сталина, направив ему записку, в которой как сторонник полной ассимиляции евреев намекнул на заведомую порочность затеи с посланием, исходящим от людей, объединенных по национальному признаку. Он также выступил против использования в письме определения „еврейский народ“, которое, по его мнению, могло „ободрить националистов и смутить людей, еще не осознавших, что еврейской нации нет“. Что ж, будучи искусным пропагандистом сталинской политики на Западе, Эренбург был очень ценен для режима и потому, особенно не тревожась за свою безопасность, мог позволить себе некоторые вольности, тем более, что в данном случае он вышел за рамки ортодоксального большевизма» [1231]1231
Костырченко.С. 680–681.
[Закрыть].
Вот так!
Правда, каждому непредвзятому человеку понятно: чтобы подписать письмо в редакцию «Правды», благословения Сталина не требовалось. Более того, если, по Костырченко, Сталин уже 2 февраля отверг первый вариант письма и поручил писать другой (смягченный) текст, то спрашивается: зачем вообще Эренбург писал Сталину 3 февраля?
Видимо, этот вопрос приходил Костырченко в голову, но ответить на него он смог только в 2005 г., подготовляя сборник документов «Государственный антисемитизм в СССР. 1938–1953». Ответ оказался радикальным: дата письма Эренбурга Сталину была исправлена: вместо 3 февраляКостырченко написал: не позднее 29 января.Но ведь письмо с датой 3 февраля уже было напечатано в 1997 г. в журнале «Источник», поэтому «историку-центристу» пришлось сделать такое примечание: «В публикации данного письма в „Источнике“ оно датировано 3 февраля 1953 г., что, по нашему мнению, необоснованно, т. к. Н. М. Михайлов (конечно, Н. А. Михайлов! – Б.Ф.)» и Д. Т. Шепилов уже 29 января направили Г. М. Маленкову отредактированный с учетом замечаний Эренбурга вариант «еврейского письма», в котором идет речь о данном обращении к Сталину. В этом месте сделана ссылка на записку Михайлова и Шепилова Маленкову от 29 января 1953 г. [1232]1232
Государственный антисемитизм в СССР. 1938–1953 / Сост. Г. В. Костырченко. М., 2005. С. 478.
[Закрыть]И все!
Заметим, что слово «необоснованно» может применяться только в том случае, если бы публикаторы датировали письмо Эренбурга сами,то есть если бы Эренбург непоставил на письме даты. Надо думать все же, что Костырченко, не доверяя публикаторам «Источника», подлинника письма Эренбурга вождю сам не видел. Между тем на нем, как и на шести других напечатанных на машинке письмах Эренбурга Сталину (1934–1950 гг.) и на всей его деловой корреспонденции советской поры – даты неизменно ставились самим автором.
Вернемся к цитате из Костырченко. Утверждение об эренбурговской безопасности абсолютно нелепо. Да, Сталин считал, что Эренбург ему еще пригодится, но разве ему бы не пригодился, скажем, абсолютно преданный Михаил Кольцов? Надо, мягко говоря, не понимать ту эпоху, чтобы думать, будто кто-то из имевших дело со Сталиным мог чувствовать себя в безопасности – и члены Политбюро не были застрахованы, разве что крупные физики, работавшие над ядерным оружием, и то… Что же касается Эренбурга, то его судьба неоднократно висела на волоске – в 1938 г., когда у него во время процесса над другом его юности Н. И. Бухариным отобрали зарубежный паспорт [1233]1233
Источник. 1997. № 2. С. 115–116.
[Закрыть]; в 1939 г., когда Сталин отдал прямое распоряжение о его аресте [1234]1234
Судоплатов П.Разведка и Кремль. М., 1996. С. 404.
[Закрыть]; в начале 1945 г. (то есть в пору безусловно всемирной славы Эренбурга-публициста), когда Сталин обвинил Фадеева в том, что тот окружил себя шпионами, среди которых был назван Эренбург [1235]1235
Вопросы литературы. 1989. № 6. С. 173.
[Закрыть]; в 1949 г., когда в списке лиц, подлежащих аресту, предоставленном Абакумовым, имя Эренбурга стояло одним из первых [1236]1236
Власть и художественная интеллигенция. М., 1999. С. 788.
[Закрыть]; наконец, если бы за процессом «врачей-убийц» последовали процессы над деятелями культуры еврейского происхождения (чего нельзя было исключить, останься Сталин жив), то чаша эта не обошла бы Эренбурга; не говоря уже о том, из кого только не выбивали на Лубянке показания против Эренбурга – так, про запас…
Рассуждая о событиях января-февраля 1953 г., автор пишет о незаменимости Эренбурга для сталинского режима: «Незадолго до этого он немало потрудился, прикрывая от критики Запада шовинистическую политику Сталина: 27 января писатель во время вручения ему международной Сталинской премии за укрепление мира между народами заявил, явно пытаясь успокоить западное общественное мнение: „Каково бы ни было национальное происхождение того или иного советского человека, он прежде всего патриот своей Родины и он подлинный интернационалист, противник расовой или национальной дискриминации, ревнитель братства, бесстрашный защитник мира“» [1237]1237
Костырченко.С. 681.
[Закрыть]. В 1994 г. Костырченко чувствовал в этих словах и «риск» и «определенный подтекст» [1238]1238
Костырченко Г.В плену красного фараона. С. 347.
[Закрыть]. Теперь он не понимает, как и в случае 1948 г., что стрела этой полемической по отношению к тому, что звучало в тогдашней советской прессе, фразы обращена не за границу, а внутрь СССР. В самый разгар махровой антисемитской кампании, когда евреев огульно обвиняли в предательстве, на всю страну из Кремля прозвучал голос Ильи Эренбурга, отвергшего эти бредни. Известно, что перед церемонией в Кремле ответственный сотрудник ЦК КПСС В. Григорьян рекомендовал Эренбургу в его речи обязательно осудить арестованных врачей – о своей реакции на это Эренбург написал в мемуарах: «Я вышел из себя, сказал, что не просил премии, готов хоть сейчас от нее отказаться, но о врачах говорить не буду…» [1239]1239
Эренбург(3, 276).
[Закрыть]. Приведя далее в мемуарах «Люди, годы, жизнь» слова из своей речи, которые как раз процитировал Костырченко, Эренбург продолжал: «Эти слова были продиктованы событиями, и я снова вернулся к тому, что меня мучило: „На этом торжестве в белом парадном зале Кремля я хочу вспомнить тех сторонников мира, которых преследуют, мучают, травят, я хочу сказать про ночь тюрем, про допросы, суды – про мужество многих и многих…“ В Свердловском зале было тихо, очень тихо. Люба потом рассказала, что, когда я сказал о тюрьмах, сидевшие рядом с нею замерли. На следующее утро я увидел в газете мою речь выправленной – к словам о преследовании вставили „силы реакции“: боялись, что читатели могут правильно понять мои слова и отнести их к жертвам Берии» [1240]1240
Там же;«Берия», конечно, эвфемизм – слово «Сталин» в этом контексте цензура бы зарубила.
[Закрыть].
О последствиях для Эренбурга его письма Сталину Костырченко пишет так: «Сомнения писателя (заметьте: сомнения, раньше говорилось всего лишь о попытке заручиться благословением вождя. – Б.Ф.) дошли до всесильного адресата, который тем не менее не позволил ему уклониться от исполнения номенклатурного долга. Так под обращением наряду с прочими появился и автограф Эренбурга» [1241]1241
Костырченко.С. 681.
[Закрыть].
Там, где мысль Костырченко сосредоточена не на писателе, его суждения менее предвзяты – например, уже после изложения всей канвы событий, говоря о Сталине и его решении отказаться от коллективного письма евреев, автор замечает: «Возможно, что до диктатора в конце концов дошел смысл предостережения, прозвучавшего в письме Эренбурга» [1242]1242
Там же.С. 682.
[Закрыть](заметьте: уже предостережения! – Б.Ф.) и приводит соответствующую цитату из обращения Ильи Григорьевича к Сталину. Там, где его мысль сосредоточена на Эренбурге, автор выискивает возможности выразиться о нем негативно. Но это уже из области психологии «творчества».
Отвергая все свидетельства, подтверждающие версию о задуманной Сталиным депортации еврейского населения СССР, Костырченко выступает с позиций предельно строгого юриста, бракующего сколько-нибудь спорные показания. Но там, где это ему нужно для подтверждения собственных схем, он пользуется любыми сомнительными источниками, как абсолютно достоверными. Так, используется самая недостоверная работа А. Авторханова «Загадка смерти Сталина (Заговор Берии)». Со ссылкой на нее подается как достоверный факт слух из французской газеты, в свою очередь ссылавшейся якобы на Эренбурга. Прямые фальшивки такого рода время от времени появлялись на Западе. Здесь существенен даже не сам эпизод, а то, как он используется, чтобы в очередной раз напомнить: Эренбург – «агент Кремля» на Западе. Заметив, что «в 1956–57 годах наследники Сталина попытались задним числом приписать себе заслугу избавления страны, а может быть, и мира, от катастрофы, которой чревата была безумная авантюра с „делом врачей“, предпринятая диктатором якобы при деятельном участии Берии и „пешек“ вроде Рюмина», Костырченко сообщает: «Для обработки западного общественного мнения в таком духе был опять же использован Эренбург, который распространял в интеллектуальных кругах Франции версию о том, что 1 марта 1953 г. на заседании Президиума ЦК КПСС ближайшие соратники Сталина, прежде всего Молотов и Каганович, решительно потребовали от него организации объективного расследования по „делу врачей“ и отмены будто бы принятого им решения о депортации евреев, причем этот демарш так, мол, ошеломил диктатора, что с ним приключился удар, после которого он уже не оправился». Затем следует комментарий: «Ясно, что это намеренная дезинформация… Так порождались оказавшиеся потом столь живучими мифы и легенды вокруг „дела врачей“…» [1243]1243
Костырченко. С.692–693.
[Закрыть]. Один только вопрос – причем тут Эренбург?. Тем более, что подобную информацию французская печать публиковала еще в 1956 г. со ссылкой на Хрущева [1244]1244
«Le Monde». 1956. 17 avril; на этот материал есть ссылка в известной автору (цитируется в его книге) монографии: Joshua Rubenstein.Tangled loyalties. The Life and Times of Ilya Ehrenburg. Basic Books. 1996.
[Закрыть](не зная, что русскому «историку-центристу» она понадобится только со ссылкой на Эренбурга).
Закончив знакомство с книгой «Тайная политика Сталина», я еще раз перечитал коротенькое предуведомление «От издательства»: «…издательство не считает нужным скрывать, что оно не согласно с отдельными оценками автора, в частности касающимися персональных характеристик ряда государственных и общественных деятелей, представителей культуры». Осторожность солидного издательства можно понять. Куда менее осторожен автор, высокоторжественно формулирующий свое научное credo: «Политически неангажированное, независимое и объективное исследование, основанное на научно-критическом анализе исторических источников, плюс следование традициям классиков мировой и русской исторической науки, основу творчества которых составляли стремление к глубокому проникновению в суть событий и явлений прошлого, а также императив всестороннего осмысления и исчерпывающего объяснения сопряженных с ними причин и следствий» [1245]1245
Костырченко.С. 21–22.
[Закрыть]Voila!