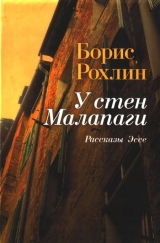
Текст книги "У стен Малапаги"
Автор книги: Борис Рохлин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 27 страниц)
Сравнивать – занятие неблагодарное. Если ты – художник, то ты всегда художник по-своему. Только поэтому ты и есть он.
Но говоря себе, что эта проза не есть рассказывание, описание, сюрреалистические зарисовки быта, не есть… не есть… поневоле обращаешься к другим авторам в поисках ответа.
Увы, ответ не поступает.
Не театр ли это марионеток? Призрачность, но и полновесность бытия. Каково бы оно ни было. Схожесть по несходству.
Создал свой мир, обиходил и заселил? Вселенная Л. Добычина? Или кусок суши, оторвавшийся от литературного континента и ставший островом в океане? Почему нет?
Некоторые мистики считали, что Бога нельзя определить в положительном смысле: Он есть то-то и то-то. Поскольку всякое определение его ограничивает, умаляет. Так, кажется, обстоит дело и с прозой Л. Добычина. Подходят лишь отрицательные дефиниции.
Проза Л. Добычина не есть…
Остаётся одно. Слово, ставшее жить. Своей жизнью.
«Язык… некоторым скрытым образом является отображением реальности, таким отображением, что из природы основных составных частей языка можно вывести основные составные части реальности».
Из природы основных составных частей добычинского слова можно вывести основные составные части реальности. Но это и художественная реальность, им добытая, и ирония, снимающая и ту, и другую. Подставляющая их. С прозой Л. Добычина, как с матрёшкой. Кукла в кукле, Потому что внутри другая, новая реальность, сотворённая из первых двух и включающая в себя своего антипода – иронию.
Ирония – одно из главных орудий его ремесла. Она коснулась даже самого главного для него – творчества. Ерыгин для меня лично – художник. Мученик слова. «Образец» писательского удела. Не в меньшей степени, чем Гран – персонаж романа А. Камю «Чума».
При всей разнице персонажей.
Ерыгин в качестве художника пародиен. Но, может быть, это ещё и горькая ирония по отношению к самому себе. В персонаже – отголосок, эхо писательской судьбы самого Л. Добычина. Именно судьбы. Не слова, не письма. Судьбы деформированной, смещённой зеркалом иронии.
Ирония по отношению к персонажу, его пародийность как «творца» скрывает автора, творца подлинного.
Удивительна фраза: «Настя будет напечатана. Пишите…»
Адресат – персонаж. Но думаю, она печально-хорошо знакома и Л. Добычину.
Но персонаж – персонажем. А судьба автора?
Наполеон оказался прав:
«Кто сейчас говорит о судьбе? Политика – вот судьба».
Или в соответствии с временем – лозунги момента, идеологические кампании, смена генеральной линии.
«Сполитикует», – как говорил дьякон Ахилла Десницын у Н. Лескова.
Одни «сполитиковали». Другому..?
«Мы живём будущим… Восхитительна эта непоследовательность – ведь в конце концов наступает смерть».
Самоубийство Л. Добычина и есть отказ от этой «восхитительной непоследовательности».
Вспоминаются слова персонажа «Носорогов»:
«Я – последний человек на земле. И я останусь им навсегда».
Такие обещания можно давать разве что со сцены. Но бывают исключения. Добычин остался. Остался навсегда. Ему в высшей степени была свойственна нравственная и интеллектуальная трезвость, лишающая возможности приобщаться к угару всеобщего ликования: атеистическому, теистическому, патриотическому, националистическому и всем прочим. Особенность, сильно затрудняющая жизнь.
Руперт Брук писал: «И тогда, за чертой смерти, мы коснёмся сути, больше не нуждаясь в руках, и увидим её, уже не ослеплённые зрением».
Л. Добычин коснулся и увидел. Коснулся и увидел здесь. По эту сторону Леты.
У одного ленинградского поэта есть строчки:
…или точнее, белизна лица
откроет состояние мира,
душа любовного истца
должна явиться на пороге пира.
Л. Добычин своей прозой открыл состояние мира. Состояние это было им отвергнуто. Автор оказался истцом, вчинившим иск миру и людям в нём. Но он – странный истец. Он не потребовал их к ответу. Как выяснилось, он – «истец любовный», которому достаточно самого иска. Иска с осторожной приязнью к ответчикам.
«Мир, каков он есть» – название одной из «Философских повестей» Вольтера. Каков есть, таков и есть. И наказывать человека не имеет смысла.
Но пир реален. Пир слова. Он идёт. По эту сторону Леты.
Нам повезло. Нас пригласили.
Его проза гарантирует постоянное возвращение к ней. Свойство, скорее, присущее поэзии.
Л. Добычин читал сюжетную прозу много и охотно. Но не поддался её «очарованию». И справедливо. Что сюжет? Один из персонажей «Шутовского хоровода» на велосипеде-тренажёре уже переплыл Ла-Манш. С сюжетом только такие плавания и возможны.
У Л. Добычина есть рассказ «Нинон». В письме к К. Чуковскому автор называет его «крошащимся сухарём». Самокритичность, достойная подражания. Он отличается от других, заставляя вспоминать «Жестокие рассказы» Вилье де Лиль-Адана. Но он не менее чем другие.
Тема «Нинон» вполне жестокосердна. Старость в полураспаде, точнее, натуральном распаде. Однако старая любовь не ржавеет. Сколько страсти! И сколько ненависти к почившей, что помешала осущёствить её.
Рассказ важен. Его значение – в окончательном развоплощении «прекрасных чувств». Оно происходит по двум линиям. Первая – любовь двух макабрических старушек. Вторая – патологическая ненависть к трупу.
Жестокий рассказ – «Нинон». Но дело не в теме. Дело в стиле. Нечто, а как. Главная жестокость – стилевая. Хотя и та точка обзора, которую выбрал Л. Добычин для описания любви, не менее показательна.
А любители сопровождать трупсики испытывают приятные чувства. Увлечение художественное и платоническое.
«Вчера она была нехороша, а сегодня… все находили, что она стала очень интересной».
Можно лишь восхищаться столь развёрнутым во времени постоянством. Впрочем, с некоторой оговоркой. Начинаешь подозревать, что подобные чувства и должны быть временны и мимолётны. По определению.
Но с другой стороны, макабрические старушки со своей задержавшейся страстью вызывают больше уважения, чем почитатели трупсиков.
Они искренни.
Многоликий рассказ «Нинон». Как любой добычинский. Может быть, не столь уж и жестокий. Обыкновенный.
У Брейгеля Старшего есть небольшое полотно: «Две скованные обезьяны».
У Л. Добычина все персонажи скованы поодиночке. Героини «Нинон» – единственные, скованные попарно.
Две грустные «обезьянки», обретшие наконец счастье.
Вряд ли осмелишься назвать это «лучом света в тёмном царстве». Макабрический настрой слишком велик. Но из чувства нравственного самосохранения оставим просвет.
«– Ты всё такая же хорошенькая, Барб… —
– И ты, Мари».
Я им верю.
«Всё чаще пассажиры стали умирать в пути, и люди в белых фартуках… уносили их в мертвецкую.
Когда они накапливались там, их вывозили в ямы, выкопанные за кладбищем, глубокие и длинные, как рвы, и присыпали снегом, а землёй забрасывали лишь тогда, когда вся яма набивалась ими».
Что-то знакомое. Давнее.
«Обычно в ямы сваливали трупов по пятьдесят-шестьдесят, потом эти ямы стали делать больше, чтобы умещались в них все, кого успеет телега навозить за неделю…»
Судя по письмам, Дефо не входил в круг чтения Л. Добычина. Тем приятнее. Связь с культурным слоем, который автор не копал и не собирался.
Одна из тайн Л. Добычина – его феноменальное художественное чутьё. Поэтому в прозе могли претворяться авторы, оказавшиеся в поле его зрения непроизвольно, рефлективно. И, – невидимые, невоспринимаемые, неуловимые для рассудка, – задержались на задворках сознания. Вся прелесть заключается в добычинской способности бессознательной переработки.
«Около мертвецкой с раннего утра похаживали жулики… нарядные, сейчас из парикмахерской, в штанах колоколами, в толстых пёстрых шарфах и в цветистых кепках…
За трупами… с грохотом являлась телега, и тогда гуляющие… устремлялись к ямам на песках за кладбищем.
Они присутствовали при разгрузке дрог и, дав им удалиться, обдирали мёртвых».
Он описывает гиен, толкущихся у трупов, как завсегдатаев Невского проспекта. Почти гоголевского Невского проспекта.
По-добычински:
«…гуляющие устремлялись к ямам на песках…»
По-пушкински:
«Есть упоение в бою…»
Почему нет? И упоение есть. И жулики похаживают нарядные. И сейчас из парикмахерской.
«…произведение искусства, которое, совершенно завися от идеи художника, не имело бы другого бытия, кроме этой зависимости, от которой оно существовало бы и под влиянием которой сохранялось…»
Проза Л. Добычина и есть именно такое произведение искусства.
Фрида Белосток, Берта Виноград, Паскудняк, Шмидт, Марья Ивановна Бабкина и Олимпия Кукель.
Имена героев – уже поэзия. Что важнее – принцип, содержащий несколько моментов: разнообразие, множественность миров на малом пространстве прозы, иронию, частичную самостоятельность от носителей, «имперскость» старой России и сдвинутость персонажей, выброшенность их из привычного существования, из быта, с которым они сжились и обвыкли, – в России Советской.
Они и значимы, и диковаты, и живут в известной степени в себе и для себя. Являясь и самостоятельной ценностью, и элементом повествования.
«…в „теперь“, или настоящем, свёрнуто время: прошедшее было настоящим, будущее будет настоящим, и во времени не находим ничего, кроме последовательного порядка настоящих моментов… „теперь“ свёрнуто заключает в себе все времена…»
В добычинской прозе, в её «теперь» свёрнуто заключаются все времена. В ней реализован принцип: всё – во всём, но в каждом – сообразно каждому образом.
Он обладал своим – собственным – «учёным незнанием» об этом мире, в котором не нашлось ни единства, ни гармонии, ни мудрого устроения. Но это обладание позволило ему написать то, что он написал.
«Голубенькое небо блёкло. Тоненькие птички пролетали над землёй. В городе светлелись под непогасшим небом фонари.
Тикали часы. Били. Тикали.
За окном собака лаяла по-зимнему.
„Дориан, Дориан, – там и сям было напечатано в книге:
– Дориан, Дориан“».
«…к чтению нас влечёт… только… мелодия стиля».
Слова Новалиса идеально определяют суть добычинской прозы и наше влечение к ней.
Увидеть мир так, как до этого не видел никто, – вот величайшая удача каждого, взявшегося за перо.
Л. Добычина удача посетила. Грустная удача и печальное счастье.
«Если требуется выразиться текстом из евангелия, то „душа моя скорбит смертельно“».
Всё вышесказанное – не более чем поиск, стремление подойти, приблизиться. Коснуться тайны прозы.
Остаётся читать и перечитывать Л. Добычина. По эту сторону Леты.
Мы на пиру, на который он нас пригласил.
Роман В. Батшева «Потомок Вирсавии»
Начнем не с романа, а с обложки, на которой изображена хрестоматийно-библейская красотка на фоне современной фаллической архитектуры. Как выяснится позднее, блистательное выражение духа и стиля предлагаемого сочинения. Не начав чтения, уже можно осторожно высказываться. Это – на фасаде. На заднике – огненные анонсы рекламы. Вполне соответствуют живописной части: «в трёх измерениях», «на одном дыхании», «шокирует… разрушением привычного синтаксиса», «доводит до логического завершения опыты Андрея Белого».
Вряд ли роман шокирует разрушением синтаксиса. Он вообще не шокирует. Он завораживает. Завораживает другим, гораздо более занимательным. А «довести до… завершения» столь симпатичное дело трудно. Всегда найдётся разрушитель ещё более темпераментный. «Разрушать синтаксис» – развлечение солидное, почти академическое. Возможно, существуют учебники или руководства, объясняющие, как это делать с наибольшей отдачей.
Проблема не в синтаксическом максимализме, а в цели такового. Нарушение синтаксиса в «России, кровью умытой» Артёма Весёлого логично и соответствует. В «Потомке Вирсавии» – не более чем добросовестные упражнения виртуоза. Отдаём должное и понимаем радости, которые, как ребёнку, доставляет это почтенное занятие автору.
Три измерения представлены вполне живописно, но герой одномерный.
Пора расстаться с художественным обрамлением. Читать всё-таки надо. Не будем «на одном дыхании». Будем не спеша, не торопясь и, по возможности, вкушая.
Читая, поневоле задумываешься. Не роман ли это в стихах и прозе, или поэма в прозе и стихах, или стихотворение в прозе, развернутое до поэмы, во всяком случае, по занимаемой площади. Шесть соток прозопоэзии или поэзопрозы. Может быть, симфония, неоконченная, как «Неоконченная…» у Шуберта. Не подходит, слишком мелодична, да и романтизм мешает аналогии. Повод высказаться, вспомнить всё и вся. Не забыть себя. Эмоционально, ускоряя темп, нагнетая и подстёгивая в чрезмерности переживания.
Действительно, «странные мысли приходят просвещённому уму». Автор прав.
Иногда эмоция достигает столь высокого накала, что роман превращается в «Песнь песней». Автор обогащает это несколько архаичное произведение, не ограничиваясь любовными страстишками, смело вводя в свою поэму политический лубок, от всей души аранжированный ненормативной лексикой. Не автор – её инициатор. Она сама настаивает на своём присутствии. Иначе нельзя. Когда вспоминаются гегемоны-пролетарии, коммунисты, курдские повстанцы, оджаланы, Мухтар-Сабиры, Рахат-Лукумы, Сабир-Кучумы и пролетарский интернационализм с ГУЛАГом как высшей и последней стадией его развития. Поддать жару, ещё парку гнева и возмущения. Поэт не выдерживает, и лексика разлетается, как зеркало бокового вида у автомобиля.
Автор колеблется между брутальностью и сантиментом, но преодолевает слабость и выбирает первую. Это не брутальность в житейском смысле, это брутальность эмоции. Слишком много накопилось – и вот прорвало. Всё серьёзно, серьёзно для поэта. Но читателю это не кажется. Он подозревает ироническую гримасу рассказчика: я тебе ещё и не то представлю, а ты скушаешь. Скушаешь, скушаешь! Не сомневайся.
Эмоциональный кольпортаж, по временам пародирующий самого себя, не без иронии над ошалелым читателем. Но это легко сходит автору, потому что наивно-эмоциональный взгляд на мир. Способ подачи реальности, имитирующий невинность возмущения. Возмущаться есть чем, как и восторгаться.
Поэзия романа – поэзия топа. Топ даёт толчок памяти, и происходит монтаж строчки, абзаца, страницы. Насколько хватает эмоционального заряда.
Конечно, память избирательна и определяется персональной судьбой, одноразовой и неповторимой, по крайней мере, для повествователя. Она подсказывает герою или автору текст, очень личностный, вопреки кажущейся безграничности сферы повествования. Настоящее перетекает в прошлое, прошлое торопится от себя освободиться, чтобы вновь оказаться в настоящем. Переходы немотивированы движением сюжета. Если таковой и имеется, он пребывает в неподвижности. Переживания спрессованы, текучесть времени устранена.
Томительное ожидание, траты из скромного эмигрантского, страна вечнозелёных помидор, спасибо товарищу… за нашу счастливую зрелость, сидел три года, ещё два, один почти целиком, стерильная неметчина, грязный, противный Париж, тысячи стихов, рука КГБ и Каганович – управляющий трестом «Асбест».
Поллинная жизнь персонажа, полноценность и абсолютность переживаний там, в стране, где кто-то вечно сидит, что-то вечно зеленеет, а кагановичи управляют асбестом. Это не значит, что туда хочется вернуться и повторить. Пережитое неповторимо. Его можно вспоминать, о нём можно рассказывать. И только. Чем более или менее успешно и занимается повествователь.
Герой прав, когда утверждает, что помнит то, что не нужно.
Следует быть благодарным автору, выступающему часто в несвойственной художнику роли, роли историка.
Никто не забыт, ничто не забыто. Отдадим должное памяти персонажа или его творца. Вероятно, они совпадают. Ни беглый чекист, сброшенный с Эйфелевой, ни… ни… ни…
И всё-таки это чистый кольпортаж.
«…отбросит одеяло, обдавая меня потом, теплом постели и молодостью».
Травануть тянет, но автор не замечает. Какова сила воли. Впрочем, у Л. Толстого есть и почище:
«От него пахло духами, мужчиной и ртом».
Учимся у классиков.
А зрение, каково зрение! Взгляд младоголландского подмастерья натюрморта. Набор яств западных демократий безграничен. Жаль, что в стране недоразвитого социализма теперь один к одному. А хочется многополярности пищеблока. Из чистого идеализма. Вероятно, ностальгия по кильке в томате с «Маленькой». И за рубль сорок девять.
Перечисляемые предметы вызывают аппетит, чему не мешает противостояние сказочного Запада былинному Востоку. Битва в пути папуль и детишек.
«Лучшие, ухоженные и сытые зоопарки», – говорит папан. И справедливо говорит. Озноб пробегает от собственного недомыслия. Откровение рядом, рукой подать, а ты? Нет, авторам романов, точно, что-то дано от бога, богов, богинь и прочих не менее занимательных существ.
Гимнософия не слишком удаётся автору. Она стихийно самопародийна. Дело не в слабости художника, дело в слабости оснований для таковой. Зато на поле салтыковско-свифтовском он – чемпион или по меньшей мере гроссмейстер. Главка, посвящённая персонажам рассеяния, прекрасна по математической точности изображения. И эмоциональный напор здесь уместен. Нет ничего избыточного.
Увы, действительно, «имя им легион и никуда не деться». Глазомер не подвёл, и, как гениальный портной, он идеально снял мерку.
Крепко жму руку автору, если подаст.
А Вирсавия вздохнёт и пойдёт плакать в пустой спальне (Автор).
Что ни говори, а роман по временам завораживает. Догадка оказалась правильной. Читаешь, не торопясь и вкушая… интересно, занимательно, поучительно. Доступно и ракурс свежий. Действительно, с крыши подглядывать – извращение.
В общем, мать их КПСС и минус десять (Автор).
Если художество иногда сомнительно, то фельетон всегда удаётся. Начинает мучить любопытство. Отчего так? Не от чего, а потому. Потому что руками, дрожащими от гнева.
Пролетарий и я, гегемон и интеллектуал, а шпионам, разным филби, отрезать эти самые прелести, так их всех и резать. Крик души, нервной, интеллигентной души. Резать, резать, резать. Превращения чеховского персонажа, смена вех, из глубины, из-под глыб и пр.
Персонаж – неоромантик по накалу страсти. Он не какой-нибудь посторонний, наблюдатель с другого берега, он на этом, он ангажирован.
Он – не скептик и не «беззубый» гуманист. Этим подобные переживания не даны. Венценосная – в некотором роде – фраза «мне мёртвые животные вообще не нравятся» остаётся без ответа. Да ведь и автор всё о живых, а не о благообразных покойничках. Кстати, возможно расширительное толкование. Мёртвые, царство мёртвых не привлекательны, лишены волшебного обаяния живых. Частенько или всегда вполне непотребных. Но других нет и приходится об этих. Писать – и не только. Писать – лишь полбеды, еще и жить рядом и среди. Поневоле сорвёшься. Никакой синтаксис не выдержит.
Автор европоцентрист, он лелеет «камни Европы». Вот только ходят по ним не те.
Герой говорит о раздвоении сознания, которое заключается в постоянном сравнении, ежедневном, из года в год. Память каждого работает по индивидуальному заказу, неосознанному и часто немотивированному. В каком-то смысле память – это сонник, она и трактует сновидения прошлого. Память героя не исключение. Сколь бы реальны ни были события прошлого, механизм припоминания подвергает их метаморфозе, хотя бы в силу естественного отбора, что-то отвергая, а что-то вынося на поверхность сознания.
«Почтовый ящик», грязь, глина, грязная бетонная стена. Опять глина, снег, снег с глиной. Смрад. Сплошной серый цвет. Ржавая узкоколейка. Заказы, распределение, пайка.
Вероятно, можно вспомнить и более пристойное, куст рябины при дороге, например. Вспоминался одной поэтессе. Но сантимент чужд герою. Память не стреножена, отпущена на свободу.
В главе «Очередное вторжение забытого всеми персонажа» слабый отголосок набоковского рассказа «Посещение музея». Что-то оттуда. Или показалось. Настаивать не будем.
«Во сне нет запахов. Там без осязания. Значит… Украли, выкрали, Москва».
Насчет запахов и осязания, у кого как. А у В. Набокова – Петроград. Разница невелика, в географии. Не более.
«…как же они затащили его в Русландию, в эту гнусную развалившуюся империю Туловища?»
Без посещения музея, однако, не обошлось. Можно было бы ограничиться бредом-сном. «Красивому мужчине», – так аттестует себя сам герой, – по временам кажется, что он снова в Москве. «Красота» не помогает избавиться от наваждения. «Московское» измерение довлеет и в настоящем.
«Моя река (Майн), мой город, моя страна, моё небо».
Можно сколько угодно повторять это заклинание. Оно не способно героя уберечь от наваждения. Если не автора, то героя. В воде всё равно будут отражаться другие «крыши». Как бессмертны персонажи с волосами на пробор, гладенькими и гаденькими, без лица, но с ухмылкой.
Впрочем, всё это игра, сцена для излияний лирических, публицистических, саркастических и яростного мата. Не от лексической бедности, для объёмности, панорамности изображаемого. Прелестно библейское измерение. Царь Давид – фермер среднего достатка, но с непомерным аппетитом в удовлетворении естественной потребности. Вспоминается герой У. Фолкнера в «Деревушке», который при этом деле даже шляпы не снимал. Совершенно согласен с автором: плевать с моста в Рейн не одно и то же, что плевать с моста в Майн.
Но при чём тут шляпа? Да при том же, при чём дивный ассортимент речений затонувшей Атлантиды, – затонувшей ли, – вроде того, что дам сначала раздевают, потом надевают, потом одевают. Сделайте выборку из романа и составите небольшой словарь для тамады, очередной шестнадцатой и нового поколения аркановозадорновогориножванецких.
Стереопространство поэмы позволяет.
Да, роман поучителен, его прелесть в этом.
Автору мало, всегда мало. Неугомонный. Хочется большего. Речитативитъ, ритмить, мелодировать. Аранжировать, аранжировать свою поэму возмездия, расчёта и нежности на периферии романной сферы. Обогащать… считалками, частушками, да чем угодно.
– Он в тюрьме сидел,
Он жену убил,
Он богатый, он сопатый, он носатый.
«Эх, размахнись рука, раззудись плечо».
Есть удаль молодецкая, но авторская перещеголяла и её. Она превосходит известную народную.
– Но они – в костюмах,
Но они – в нейлонах,
Они – в дакронах.
Много всего и разного вместил роман. Он больше чем роман. Опись, перечень, амбарная книга событий, лиц, меню, нравов целой эпохи.
Кукурузные хлопья, первый в Москве автомат по изготовлению пончиков, все – с партией, требуем расстрела, единодушно осуждаем, все – за Ельцина, все – против коммунистов, кто не с нами, тот… если враг не сдаётся, его… почтовые марки Тувы, «…непонятная ненависть, связанная в единый пучок со страхом, когда проходишь мимо кухни… а там они и кривятся, и хихикают, и подхихикивают», – атмосфера коммуналок во время процесса врачей, – красная пачка «Примы», «Шипка» и «Джебел», фабрика «Ява» и фабрика «Дукат», «Варна», «Гамза», коньяк «Плиска», Галич и торфоперегнойные горшочки.
– Я помню всё, я всё запоминаю,
Любовно-кротко в сердце берегу.
(А. Ахматова)
Вряд ли, любовно-кротко, но всё – несомненно. Спонтанное вкрапление деталей, мелочей быта на пользу вещи, несколько отягощённой замерами, разрушениями, логическими завершениями и пр. Отдыхаешь. Отдых на пути в Египет или в гости к библейскому пастуху, кулаку, фермеру, сельскому старосте с царскими функциями.
Катехизис времени. Автор сам добровольно сообщает о своем методе письма:
«…моя цепь ассоциаций идёт от языка, а только потом от рождённого им образа. От звука. От буквы. От слова».
А язык и до Киева доведёт. Куда же ведёт язык автора и куда приводит? Похоже, если не за пределы солнечной системы, то системы романной. Дальше половецкие степи или половецкие пляски в оперном исполнении.
Язык, звуки, буквы, слова, образы удаляются в погранзону смысла под действием центробежной мощи авторских ассоциаций.
Как и герой, надеюсь, что в новом романе жизнь станет иной. И не только она.
К месту персонаж или автор вспоминают классика:
«Время проходит?.. Время стоит, проходите – вы».
В романе время остановилось, а действующие лица ушли. Покинули сцену.
Добавим общее замечание на общую тему.
Современная русская проза, – поэзия в меньшей степени, – производит странное впечатление. Литература ли это или ширпотреб по бросовым ценам для литературных туристов. Возьмите, не пожалеете. Роман, рассказ, стихотворение, поэма на память о посещении литературного Диснейленда. Пребываешь в приятном настроении, чувствуешь себя посвящённым, не обделённым культурными ценностями. Воспринимается легко, не оставляя «камня на сердце». Жизнь так сложна. Хочется рождественских историй. Будут.
На самом деле сегодня нет изящней словесности. Есть заменитель, товарец.
«Конец прекрасной эпохи» дорого обошелся русской литературе. Встреча с миром обернулась летальным исходом. Навсегда ли или предстоит воскрешение? Вопрос.
Скорее, это не летальный исход, а анабиоз, и русская литература ещё выйдет из него.
Сказанное к роману относится, но по касательной. Повторимся, роман поучительный. Его прелесть в этом.
И последнее, вдогонку сказанному.
«Третье измерение» одаривает симпатичной неожиданностью. История Давида и Вирсавии оказывается трёпом московского хиппи. Или… – трепещу от собственного предположения, – и весь роман?
Вот она – благостная и полезная для литературы вольность художества.
Да уж, сиреневый туман над нами проплывает. Актёры во главе с рассказчиком уже некоторое время тому назад покинули сцену.
Вирсавия осталась.
Читатель – поклонник отвлечённого. Он любит изящную предметность и творцов её. А авторы любят читателей. Они понимают, что написанное и непрочтённое существует лишь в их воображении.
Рождение стихотворения или романа состоялось, если их прочли. До этого они – творения – лишь вероятны.
Но любовь есть, пока нет взаимности. С её появлением она исчезает. Любовь литературная страдает тем же изъяном. Не прочти автора, и будешь любить его до персонального гробика.
Любовь осуществлённая испаряется. Так и с приязнью читателя. При знакомстве с автором он скучнеет и из читателя превращается в критика. В критика возмущённого и, увы, часто несправедливого. Можно было бы сказать – бедный автор! Если бы автор часто не был ещё ниже своего читателя.
Вспомнились строчки.
Истребитель-бомбардировщик,
Вертолёт, вертухай, шестёрка.
И такой большой подстрочник
С объяснениями слова.
Может быть, роман В. Батшева «Потомок Вирсавии» и есть такой большой эмоциональный подстрочник с объяснениями и прозопоэтическими комментариями.








