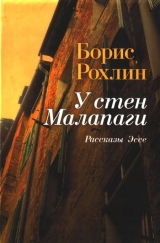
Текст книги "У стен Малапаги"
Автор книги: Борис Рохлин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 27 страниц)
Настасья и другие
В то время по вечерам ещё приходила Настасья. Жара купалась в пыли канав, куда сваливались абрикосовые косточки, скользкие рыбьи остовы да битые фаянсовые чайники, в депо паровозы отдыхали от грузовых перевозок, на сортировочной в расход шли вагоны – ты дышал запахом нагретого металла и тёплых, чуть тронутых гнилью шпал; слышно было, как в колонке пускали воду, как она била по дну ведра и вперемежку с ломкой холодной струёй в воздухе повисали смех и разговоры женщин.
По вечерам у колонки возникали завихрения людей, шлёпанье босых ног, неподалёку, у сараев с дровами и зимним, что не к спеху, скарбом, усаживалась компания, членство в которой основывалось на принципе уличного родства, национальной принадлежности и не в последнюю очередь на высокомерии оборванцев ко всякому семейному и официальному началу.
И принадлежать к ним было сладостно и так же невозможно, как мучительно по вечерам и страшно, – на виду у всех, собранных вечером и привычкой, людей – ворожить у длинного тонкогубого крана, в молчании толпы, обращённом на тебя, в молчании над евреем, оскверняющим источник.
А вода, прозрачная, холодная, сновала по желобу, текла по канаве через лопухи, крапиву, густые заросли неведомых растений, растущих на свалках, становясь всё укромнее, всё неведомее, – и уже мужество – ждать этого невозможного наполнения ведра водой. Но постепенно ведро тяжелело, и вода, достигая его кромки, смирялась, больше не слышно было, как происходит это – струя становилась почти беззвучной. Солнце, оставляя оплавленные рваные края, погружалось в чёрную дыру вечера, и теперь только твоя рука с повисшим в воздухе ведром чертила боязливую робкую дугу. Вода светлела и затихала, лишь лёгкое качание указывало на движение, вернее, на побег – и это бегство было как ритуал, как ежевечерняя молитва с благодарностью за уходящий день и с просьбой о снисхождении. О, эта унизительная отсрочка казни, когда откладывают, тянут, потому что в свершении приговора радость, ежевечерняя благодать за трудный день, плата в виде еврея, в виде еврея возмещение собственной жизни, которая один убыток.
И мгновение, когда ты достигал забора и левой рукой касался калитки, оказывалось временем казни – и в свисте мужчин, и горловом низком смехе женщин, и в камешке между лопаток в узенький дёргающийся желобок, по которому ручеёк пота нёс пыль и грязь дня, – всё это оказывалось разрешением молчания, где глумление вызывало лишь благодарность, ибо оно было привычнее неведомого всегда ожидания казни.
За забором, на обочине, где ноги по щиколотку увязали в мягкой, тёплой пыли, а затем на булыжной неуютной для босых ног мостовой, когда ты уже видел две больших акации, росших под окном бабушкиного дома, силы покидали тебя. Наступало время изумления и тишины, не доносился грохот, прекращались крики, вой, кривляние перед казнью, тёмная громада внутри тебя, громада из дыма и смрада, сальных запахов, свисающих косм, рук, тянущихся выдавить тебе глаза, начинала утончаться, грани её уже теряли свою остроту, разодранные внутренности переставали кровоточить, всё затягивалось, и, – обессиленный ужасом, осознавший свою свободу, – ты, – сломленный усталостью, – опускал прямо в пыль, сладкую пыль дороги, дрожащее в твоей руке ведро.
Он знал главное: они не побегут за ним. У них было своё – подчинённое им – пространство земли, и здесь, за забором, ты был предоставлен самому себе, тёплому булыжнику мостовой, воспалённому вечернему солнцу и ещё, но об этом ты старался не думать, – маленькому страху за завтрашний день. Ты не верил, что так же, как по законам природы наступит новое утро и новый вечер, так же, как ведра воды не может хватить больше, чем на сутки, даже помня о том, что ты не моешься по утрам, экономя воду, также необходимо повторится казнь, и в конце концов окажется, – и позднее ты это поймёшь, – что в тебе уничтожили всё, что обычно называется жизнью. Ничего не забыли оставить хотя бы в насмешку.
Но сейчас, без подозрений, уверенный в сегодняшнем спасении, ты ногой открываешь дверь и сквозь прихожую с глиняным полом и керогазом на табуретке, сквозь прихожую с маленьким запасом угля и запахом укропа ты видишь её в тускнеющих медных лучах солнца, с чёрной сумочкой, коротко стриженную, старую деву, и ты знаешь, она рассказывает бабушке, – которая, сидя напротив со сложенными на животе руками, забылась, и видно, как она то замирает вся от услышанного, то распускается, набираясь сил для нового удивления и подъёма, – и в рассказе всё беспокойно, и от этого беспокойства ещё сильнее раскачивается мир, и кажется, всё вокруг хочет что-то с себя сбросить, освободиться, – ведро само выскальзывает из рук, и у тебя уже нет сил донести его до табуретки. Оно скользит на глиняный пол и расплёскивает воду. Но есть что-то, противоречащее её рассказу: маленькие крепкие руки вырезают в воздухе ладные фигурки её жестикуляций, её пафоса, её принципов, и мягкое светлое тепло, волны которого доходят и до тебя, опровергают жестокий смысл её рассказа и возвращают тебя к жизни.
Тогда по вечерам ещё приходила Настасья.
Приходил ликующий Исаак – владелец домашней аптечки, Исаак-лекарь базара.
Приходила одинокая Сарра, и в вечернем воздухе она осторожно несла своё огромное тело до табуретки, и там забывалась.
Вечер оседал пылью на листьях деревьев, на белёных стенах домов и кирпичной ограде депо.
В жёлтом вечернем мареве тихо ликовал Исаак, исходя жизнью и её теплом.
Большая Сарра, однообразная как пустыня, обмирала на табуретке, следя ослепительный полёт Исааковой жизни.
Разгорячившаяся Настасья обдавала слушателей правдивыми историями, и трепетная, смутная жизнь разворачивалась перед ними радужным диском павлиньего хвоста.
Приходила сестра Татьяна в лиловом платье с театральной сумочкой в руках, и в предчувствии её появления бабушка суетливо пудрилась, вдевала заколки в жиденькие свои косички, душилась, и теперь, в зеленоватом платье с большими розовыми цветами, зажав в потной руке большой кошелёк – строгая и напряжённо-счастливая – отправлялась вместе с сёстрами в кино на первый вечерний сеанс.
Сколько же их было – миров? Мир колонки, мир Настасьи, мир бабушки, мир Исаака и мир Сарры. И во всех этих мирах солнце в одно время закатилось за ограду депо, от позднего часа прекратилось движение машин, стало тихо, и всё вокруг исполнилось ожидания бабушки и её возвращения после картины.
Зелень лета
Она приходила к нему каждый вечер, а всё из-за невольной задержки, что произошла по смешному поводу базарного дня, да ещё, возможно, оттого, что ей вдруг захотелось посмотреть книги в этом селе с неясным названием, лежавшем в двух часах неспешной езды от Станислава. Книги не стояли на полках, как в магазинах больших городов, а грудой лежали на полу в задней комнате, где поднялась пыль от их шагов и их дыхания, потому что никто не заглядывал туда – ни покупавшие учебники первоклассники, ни редкие шофёры, случайно заскочившие в этот магазин, ни даже сама продавщица, высокая удивлённая брюнетка, – в прохладной и пустой комнате, в которой пришлось долго искать в солнечной безлюдной тишине.
Книжный магазинчик, где на крыльце в ожидании привоза учебников к осени и новому учебному году сидели малыши, сжимая в потной ладошке родительские гривенники, был сразу после закусочной для шофёров дальних рейсов, вниз по улице, жаркой, в пыльной зелени, главной улице деревни, своим левым боком он приткнулся к больнице, а фасадом, ослепительной наготой крыльца был обращён к клубу с его нарастающим к вечеру оживлением, афишками от руки и прохладой пустынного в полдень здания.
Но самое важное во всей этой случайности наверняка крылось в позднем отъезде, крылось в их страхе, рождённом опозданием, в том внутреннем подёргивании от этого страха и волнения, в чувстве общей вины, отдельного для каждого наказания и всеобщего осуждения со стороны других.
Случайно они оказались сообщниками, и эта их неожиданная отчуждённость вчерашним близким заставила взглянуть друг на друга, они потянулись один к другому, и не было в этом даже желания, а лишь страх и поиски защиты.
Дрожащие под расплавленным брезентом грузовика, с пересохшими ртами, вздыбленной грудью и перекосившимся лицом, сидели они, уткнувшись в пыльные доски кузова, уже не замечая ни выходов пород, ни дребезжания грузовичка, ни палящего солнца, они шли навстречу друг другу, и страх погонял их.
Но впоследствии более важным, значительным оказалось друтое, поздняя остановка в ночном прохладном времени одиннадцатого часа, когда лишь фары машины вырывали у темноты небольшое пространство земли, поросшее травой, хлебными злаками и изрытое кротами. Таинственен был кустарник, пугающе отчётливы и от этого слишком высоки были деревья, ночные птицы ломали тишину, но эти редкие прогалины вновь затягивались темнотой и непроглядностью ночного времени.
И постепенно дневная, что от страха, дрожь начинала переходить в предчувствие, в вечернее томительное желание, подкатывавшее к горлу. Но последнее – теперь он уверен – было друтое, потому что он помнит, как в той закусочной они купили несколько бутылок вина, и, наверное, какая-то из этих бутылок привела их друг к другу, привела по узкой тропинке между ещё неубранными и ему неизвестными хлебными злаками, привела между стогами сена к самому крайнему из них и дальнему от лагеря.
Она приходила каждый вечер, поздно, и он засыпал от напряжения долгого летнего дня и ожидания её прихода, а она приходила и, встав на колени, наклоняясь совсем низко, будила его, и первое, что он видел, открывая глаза, было её лицо, смуглое при дневном освещении, а сейчас в темноте позднего ночного времени светлое и близкое, словно принесённое им из сна.
А чтобы переспать, приходилось долго подниматься по склону холма, где разбросанные охапки жёлтого сена чередовались с кривыми иссохшими стволами яблонь, своей редкой тенью неспособными спасти их и укрыть от светлых в луне участков земной коры.
Они двигались неровно, спотыкаясь, чуть не падая, иногда вздрагивали от треска сухой ветки, от дальней переклички подгулявших компаний, от каких-то всхлипов и шорохов в моторе машины, волнения, непрерывного внутреннего испута. А ещё от путанности ночного освещения они то расходились, то лихорадочно, что больно было почти, цеплялись друг за друга. И две их тени метались, скрещивались, смыкались и вновь раздваивались, и каждая плясала, двигалась, вздрагивала сама по себе и вновь находила другую.
Так продолжалось до того момента, когда они достигали гребня холма и в какой-то неуловимый миг, самый опасный, заарканенные луной, уже пойманные с поличным, вдруг проваливались в темноту, нетерпеливые, в томительной лихорадке близости, не разбирая, совсем забывшиеся, – и места хорошенько не выбрали, хоть бы полянку какую, ровное что-нибудь, а то на склоне, неловко, но уже дорвавшиеся, – и теперь их дыхание, ничем не сдерживаемое, перекрывало все звуки лесной жизни, смешивалось с ними.
Сами они становились частью этой ночной неведомой суеты, чем-то неотторжимым, и всё уродливое в раскалённом номере гостиницы со скрипящим диваном и тёплой водопроводной водой здесь было лишь ещё одним шорохом в жизни ночного леса.
В воздухе, между стволами деревьев, плавали светлячки, сухие иглы небольно кололи руки, на склоне холма корни сосен выходили из земли и, повиснув в воздухе, служили шалашом.
Где-то вверху начинался дождь, но здесь было сухо, было тепло. Земля представлялась не больше твоей любви, одной женщиной со всем её небогатым телом, и не разобрать тут, кто им радость давал, они сами или земля, на которой они любили.
Внезапно кончилось лето. Осень подкралась незаметно. Неслышно. Позолотила, украсила. Пора расставания, прощания. Забвения. Встретились, поговорили… Да оно и к лучшему. Осенью всё выглядит иначе, чем тёплой летней ночью. Было, и нет. Да и что было? И было ли?
Удачные поминки
Тётя Рая сказала:
«Нужны поминки. Должно быть много людей. Очень много. Родственники и близкие. Это само собой. Но дело не в том. Покойнику все близкие, у него нет дальних. Пусть придут все, не надо приглашать. Кто знает, придёт обязательно».
Семейный совет, собравшийся в бывшей общепитовской столовой, ныне приватизированной и служившей одновременно кафе, рестораном, местом свиданий и игорным домом для всего района, был против.
Если попробовать сосредоточиться, выбросить из головы всегдашний привычный сор, встанет вопрос или по меньшей мере возникнет сомнение, начнёт свербить печень мозга, почему столь частное семейное дело приходилось решать в столь официальном и отчасти даже непотребном месте.
Ответ прост. Все были очень заняты. Каждый разным. У всех были дела, обычные, текущие и прочие. В общем, надо признаться, скорбь, имевшаяся, несомненно, в наличии, не выражалась обычным поверхностным способом, давно уже не вызывавшим ни у кого доверия.
Никто не посыпал голову пеплом, не рвал на себе гардероб, не царапал лицо соседа, родственника или случайного прохожего, не говоря о своём собственном.
После совершенно непредвиденного, никем не предсказанного события все завертелись ещё быстрее и круче, словно решили вскоре отправиться туда же и не хотели терять время.
Одна только тётя Рая занималась тем, что было непосредственно связано с похоронами, а теперь вот и с поминками.
Нет, никто не возражал, все даже хотели немножко отвлечься, но зачем так громко, зачем столько шума?
Дело было не в национальных или религиозных тонкостях. Да никто в них и не разбирался. Все эти подробности сильно повыветрились за годы сборки светлого будущего.
Дело было в простой вещи, в деньгах, и даже не столько в них самих, сколько в мониторизме, – это зловещее слово произносили шёпотом, сдерживая дыхание и невольно оглядываясь, не подслушивают ли, – словно речь шла о погроме. Впрочем, в семейном клане почившего Шмельки это слово, кажется, так и понимали.
Время было смутное, точнее, переходное, а точнее, потёкшее вспять из бывшего царства свободы в царство необходимости.
«Мать его, и то, и другое», – как выразился однажды дядя Миша, он же Мойша, он же Муля, он же Мирон.
Для такого неблагоприятного отзыва у него были все основания.
В царстве свободы он немножко сидел, как тогда выражались, за расхищение социалистической собственности.
«Чего, чего я такого расхитил?» – всякий раз спрашивал он, возвращаясь под родной кров после очередных посиделок.
В нынешнее же смурное время у дяди Миши возникли свои проблемы. Например, с именами. Да, с нимжи, как и со всем прочим, тоже стало неясно. То ли уже можно, то ли ещё нет, то ли уже опять нельзя. И дядя Миша стал сильно путаться при общении с незнакомыми людьми, представляясь каждый раз по-разному, даже в совершенно трезвом состоянии, что бывало, правда, не часто, но и не реже, чем раз в неделю, поскольку только в этом случае его законные права супруга соблюдались. Впрочем, как он сам признавался с похмельной горечью, отнюдь не всегда.
Так вот, время было странное. И, вероятно, именно поэтому все что-то тащили, растаскивали, и все родственники покойного Шмельки, – разумеется, кроме тёти Раи, – тоже что-то куда-то и откуда-то несли, волокли и тащили, но почему-то от этого всё не богатели, а посему время от времени впадали в задумчивость и меланхолию, даже в нечто, похожее на созерцательность, но чаще всего просто в запой или, говоря более сострадательно, в загул.
«Вы обязаны понимать, – сказала тётя Рая, – это главный праздник у человека».
«Ха», – озадаченно произнёс кто-то из родственников, но продолжать свою речь почему-то постеснялся.
«Да, главный, – торжественно и несколько театрально повторила тётя Рая, буквально растаптывая эффект, произведённый сомнительным словом „ха“. – Человек, – продолжала тётя Рая, строго глядя на собравшихся, – может, только для того и живёт, чтобы потом всех собрать. А о Шмельке и говорить нечего. Он так любил людей», – и она извлекла из своей полной груди глубокий протяжно-сожалеющий вздох.
«Девок он любил», – мрачно сказал кто-то из родственников, явно второстепенный по значению, ибо сидел где-то в конце стола и был с трудом виден.
Но тётя Рая продолжила свою речь так, как если бы именно этого она и ожидала.
«Вот именно, – сказала она, – кто любит женщин и понимает их потребности, любит всех людей.
Да, конечно, и он имел свои слабости. Во всём надо знать меру. Но скажите мне, что такое мера и кто из вас её знает?»
«Я, – сказал дядя Миша, он же Муля, он же Мирон, он же Мойша, – не могу дать определение меры, пусть этим занимаются учёные люди. Но переспать со своей родной тёткой?! Конечно, может, она ему совсем и не тётка, здесь есть определённые сомнения, но так принято считать, значит – тётка. А увести жену у троюродного брата Симхи? Хоть это и пошло ему на пользу. У него что-то зашевелилось в голове, а то до этого один волосяной покров был. Но тормоза у каждого должны быть».
«Шмельке, – сказала тётя Рая, – наш Шмельке, – произнесла она с чувством, – был простой человек. Мы не должны предъявлять к нему слишком завышенные требования. И цари иногда подавали дурной пример. Все мы, – сказала она, – хорошо знаем Давида».
Все уставились друг на друга с явным подозрением. Значит, ты знаешь, а я почему нет?
И потом, о каком Давиде идёт речь?
О зубном технике, промышлявшем в Израилевке поддельными золотыми коронками, а в Германии ставшем зубным светилой?
«Так ведь это – сука, – как однажды с глубокой неприязнью отметил дядя Миша, – он родственникам даже писем не пишет. Такая сволочь!»
А может, это тот Давид, который сидит сейчас в Пенсильванской тюрьме за подделку документов.
Какой художник! Какой большой мастер! Такой талант! Редкость! Он мог делать всё: от жалких водительских прав до докторских дипломов. А как сильно он увеличил количество еврейского народа?! Этого не знает никто, даже он сам.
Какой человек! Каждый месяц, каждому родственнику, – и это, заметьте, из такого неудобного положения, – он письмо пишет. Какие это поучительные и познавательные письма! В них вся Америка, как есть. Ему оттуда виднее. Человеку не надо ходить в школу, не надо путешествовать, зря тратить силы и время. Из писем пенсильванского затворника он узнаёт больше, чем о ней известно через пятьсот лет после Колумба.
Или, может, это тот Давид, который умер в Голландии от слишком большой дозы героина? Но что о нём говорить? Такой неприличный молодой человек! Ему всего было мало. Нет, это не он.
За столом почувствовалось напряжение, легкая паника, предшественница большой бури.
«Царя Давида, – уточнила тётя Рая успокаивающе-мягким тоном врача, утешающего покойника, – того самого, – сказала она, – из „Библии“».
Собиравшаяся было гроза не разразилась. Из «Библии» говорило о том, что все, конечно, знают. Это не означало, что кто-то из сидевших её читал или хотя бы видел. Но все понимали, что «Библию» и не надо читать. Вполне достаточно того, что она есть.
«Так вот, – продолжала она назидательно, – он, то есть Давид, у своего генерала Урии жену увёл. Плохо, скажете? Конечно, что ж тут хорошего. Однако эта самая Вирсавия, которую он увёл, ему – подумайте только! – Соломона родила. Царя царей! А кого она родила бы от Урии?! Сержанта, прапорщика, в лучшем случае майора?»
Здесь тётя Рая неожиданно замолчала. Лицо её выразило совершенно непредвиденный и несоответственный моменту восторг. Все напряглись.
«Какой писатель получился!» – совершенно неожиданно сказала она дрогнувшим голосом и, вытащив откуда-то большой в небесно-голубую клетку платок, громко, почти с отчаянием, высморкалась.
Немного успокоившись, она потянулась к чашке с компотом и сделала очень маленький, аккуратный, весьма корректный глоток.
Тётя Рая вообще была очень корректная женщина с хорошими манерами, редко встречающимися в наше безрадостное криминальное время. Её хорошие манеры, если так можно выразиться, распространялись не только на её внешний, всегда чистый, уютный и открытый вид, но и на её сердце, простодушное и умудрённое одновременно.
Тётя Рая не пила ничего, кроме компота, даже чая, не говоря уж о более популярных напитках.
Иногда невольно закрадывалось подозрение, да родственница ли она всем этим Борухам и Мулям, всем этим отчаянным, беспросветным неудачникам и пропойцам? Но это было так. Более того, она была их сторожем, пастухом и, если позволить себе выразиться несколько возвышенно, их пастырем, их совестью, поскольку у остальных она начисто отсутствовала. При самом пристальном рассмотрении не удавалось обнаружить и зачатков этой весьма тонкой и редкой материи.
Казалось, из любви к ней, – а этого не отнять, – они передали ей, словно на сохранение, все приличные и даже возвышенные свойства души, оставив себе одно паскудство, но и неся всю тьму и мерзость безвыходного запустения, свойственные жизни.
Впрочем, для полноты картины следует отметить, что они об этом не догадывались.
Молча, затаив дыхание, смотрели они на это священнодействие, внутренне содрогаясь при одной мысли о том, что им когда-нибудь придётся принимать внутрь нечто подобное. В данный момент все думали одно и то же:
«Чтобы пить такое, надо быть большим человеком».
«Ещё я хочу вам напомнить, – продолжала тётя Рая уже деловым тоном, – что наш Шмельке был прямым потомком того самого Шмельке, знаменитого рабби Шмельке из Никольсбурга, брата ещё более знаменитого рабби Пинхуса, раввина города Франкфурта, что на Майне».
На какое-то мгновение показалось, что время в приватизированном борделе остановилось, потом повернулось и потекло вспять, а все сидевшие за столом – от дяди Миши, он же Муля, он же Мирон, он же Менахем, он же Мойша, до того самого ущербного родственника, который знал только слово «ха», весьма сомнительное, прямо скажем, слово, – поплыли…
И похоже, им предстояло долгое плавание…
Такого никто не ожидал даже от тёти Раи. Ладно ещё царь Давид из «Библии», с этим ещё можно было смириться. Но столь благообразный родственничек, нежданно всплывший из омута забвения, да, похоже, ещё святой. Не вор, не пропойца, даже не, как его… да что об этом говорить…
Принять подобное было трудно. Это был какой-то укор, дисгармония, порча мирового целого, страшная брешь в самом порядке бытия.
Тётя Рая нарушала правила хорошего тона.
Не дожидаясь, когда её родственники уплывут слишком далеко, она скромно, но с достоинством продолжала:
«Рабби Шмельке однажды сказал, что если бы у него был выбор, он предпочёл бы не умирать, – все оживились, такое умеренное желание было понятно и близко, – потому что в том, будущем мире нет мучительных дней, которыми так полна жизнь, – все снова сжались и оцепенели, – „надо же, о чём жалеет, ненормальный какой-то“, – и что делать человеческой душе без судного дня?»
Никто не рискнул нарушить последовавшую за этими словами тишину.
Тётя Рая выдержала маленькую, с чайную ложечку, паузу и сказала:
«Наш Шмельке тоже, именно поэтому, не хотел умирать. Там слишком легко жить».
Но тут нервы родственников не выдержали. В поднявшемся невообразимом шуме букв было не разобрать. Время от времени на поверхность выныривало лишь слово «мать».
Возмущение было искренним и неподдельным.
Неожиданно всё стихло, и наступила такая тишина, от которой моментально просыпается уснувший мертвецки пьяным сном, и не только просыпается, но и трезвеет.
Тётя Рая с трогательной нежностью оглядела своих несчастных родственников.
«И последнее, что я хочу сказать вам, и об этом тоже говорил мудрый рабби Шмельке:
„Больше, чем богатый даёт бедному, – говорил он, – бедный даёт богатому. Больше, чем бедный нуждается в богатом, нуждается богатый в бедном“.
Наш Шмельке сейчас беднее самого бедного бедняка. Он лишён горестей и печалей…
Он не может заболеть и выздороветь, не может упасть и подняться, не может ничего найти и ничего потерять. Всякая скорбь теперь чужая ему. И даже слёзы ему недоступны. Подумайте только! Он не может заплакать!
Именно поэтому мы нуждаемся в нём больше, чем он в нас.
Он всегда будет напоминать нам о том, что мы теряем, умирая: нашу боль, наше отчаяние, наши заблуждения и наши ошибки.
А пока всё это есть, мы живы и счастливы».
Нельзя сказать, что после этой речи лица родственников особенно просветлели, но некоторая, отметим, недоумённая умиротворённость была заметна.
«Ну а теперь, – сказала тётя Рая сухо, – а теперь, – повторила она, всем своим видом давая понять, что вводная часть закончена, – к делу. Надо распределить обязанности. Похороны и поминки – это большое и сложное мероприятие, и мне одной с ним не справиться. Так что все ваши дела, – сказала тётя Рая, обращаясь почему-то именно к дяде Мише, он же Мойша, он же Муля, он же Менахем, он же Мирон, он же Мордехай, он же Мендель, он же Митя, Митрич и Митрофанов, – придется на время оставить».
Дядя Миша хотел возразить, но жажда опохмелки, давно иссушившая его несчастный организм, помешала ему изложить свою, вне всякого сомнения, неприличную версию.
А что же поминки? Кажется, до сих пор мы не сказали о них ни слова. Они состоялись. И не только поминки, но даже похороны, да ещё какие! Да, благодаря неусыпному вниманию тёти Раи Шмельку не забыли похоронить.
Конечно, и здесь сказалась текучесть и обратимость времени. Обряды и конфессии перепутались. И кто только не провожал в последний, как принято говорить, путь нашего Шмельку.
На поминки пришли все. Наши – не наши, свои – чужие; можно честно, не стыдясь, признаться: поминки получились…
Пришли православные и лютеране, католики и несториане, шииты и сунниты, буддисты и кришнаиты. В общем все. От молокан до бывшего председателя Облпотребсоюза Бронислава Ивановича Неумолкайко, специально для этого выпущенного из местной острожной предвариловки под честное слово и инвалютный конвертируемый залог. О его размерах Бронислав Иванович, вопреки своей фамилии, наотрез отказался сообщить даже своему ближайшему другу Меланиппе Фёдоровне Москвошвеевой – нашей местной Клеопатре.
«Боже, откуда…? Откуда у людей деньги?» – сказал бы в данном случае дядя Миша, он же Муля, он же…, и, конечно, добавил бы такое, что, увы, не может уместиться в тексте.
В заключение же следует отметить, как положительную и обнадёживающую примету нашего времени, что вся эта обрядовая, догматическая и отчасти криминальная неясность не помешала праздничной обстановке поминок.
Да, было очень весело, со слезами и песнями. Не обошлось без танцев. Можно, пожалуй, сделать не совсем невероятное предположение, что ровно через девять месяцев после поминок появились на свет новые Шмельки.
Должно быть, оно и к лучшему, если подумать.
В конце концов жизнь дана каждому в единственном экземпляре, а Бог один. В противном случае это уже не Бог.








