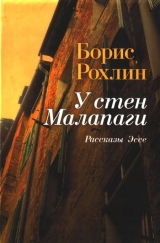
Текст книги "У стен Малапаги"
Автор книги: Борис Рохлин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 27 страниц)
Триумф яйца
(О прозе Фридриха Горенштейна)
«Курские помещики хорошо пишут».
Верю Поприщину и думаю, что курские помещики действительно хорошо пишут.
Писатели же пишут по-разному: одни – прозой, другие – прозу.
«– А когда мы разговариваем, это что же такое будет?
– Проза, – отвечает учитель.
– Что? Когда я говорю: „Николь, принеси мне туфли и ночной колпак“, это проза?
– Да, сударь». (Мольер, «Мещанин во дворянстве»).
Журден не подозревал, что говорит прозой. Есть авторы, которые не подозревают, что ею пишут. Главное для них не как, а что. Таким автором был один из самых талантливых и многообещающих писателей шестидесятых Фридрих Горенштейн. Он очень, прежде всего и только ценил мысль, идею, им высказываемую. Писать прозой или писать прозу вовсе не означает, что первое плохо, а второе прекрасно. Кому-то предпочтительнее «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», написанный прозой на уровне «Николь, принеси мне туфли и ночной колпак», другим – «Госпожа Бовари» – роман, в котором каждое слово – проза.
Автор всегда серьёзно относится к тому, что пишет, но Горенштейн был тяжеловесом серьёзности, а это часто снижает уровень и результат сделанного.
Необходима некоторая степень отстранения. Отступление хотя бы на несколько шагов. Взгляд со стороны, и не без иронии.
Фридриху Горенштейну это было совершенно чуждо. Он знал истину и возвещал её. К тому же темы были слишком высоки, в «ранге» высокой трагедии, времена описываемые слишком черны и беспросветны. Ф. Горенштейн не писал, а возводил и, конечно, соборы. Имею в виду «Место» и «Псалом». Не два романа, а два «Столпа и Утверждения истины». Возвышенно, но сомнительно.
Когда-то Ильич высказался в том духе, что, мол, писатель пописывает, а читатель почитывает. Так вот впредь так не должно быть. Но только так и должно и может быть. На большее художнику не стоит претендовать.
Фридрих Горенштейн решил иначе, обменяв скромный статус сочинителя, «ремесленника скоморошьего цеха», на миссию идеолога, мыслителя и борца. Тяга к титанизму? Хотя герой «Места» скорее неудавшийся «мелкий буржуа» советского образца, чем «титанический» авантюрист Возрождения.
Герой «Места» в своём стремлении наверх, – когда-то это называлось восстановлением справедливости, – напоминает героев Бальзака или Стендаля, например, Растиньяка, Люсьена де Рюбампре или Жюльена Сореля.
Со скидкой на эпоху. Они тоже восстанавливали справедливость. Корректировали несправедливость судьбы.
Автор может нравиться или не нравиться. Но у Ф. Горенштейна особый талант. Вызывать раздражение.
«Стих» Ф. Горенштейна не «сюсюкает» и не «пропах тлением». Но абсолютно лишён поэзии. Библейские подпорки не помогают.
Как приём, сюжетный ход явление Дана-Аспида удачно. Больше того, полезно. Легко даётся переход от одной календарной даты к другой. И постоянная, твёрдая сюжетная связь. Разрыва нет. Главный персонаж всегда на месте. Полезное техническое применение. Не более.
В «Псалме» два художественных абзаца, не отягощённых авторскими дополнительными смыслами, эмоциями. Сцена с любовником, вылетающим из окна от удара «железнодорожного» сапога, и сцена убийства одного из персонажей в МГБ.
При всём библиизме и ветхозаветных страстях Ф. Горенштейну как художнику свойствен натурализм как метод, как способ описания реальности. Но, в отличие от высокого натурализма Гонкуров – мастеров подробности и детали, Ф. Горенштейн – мастер мелочности, не мелочей, а мелочности, как психологической, так и житейской. Не тонкая наблюдательность и тщательное ювелирное воплощение её в словах, а копание, отчасти самокопание, мелкое, долгое и заторможенное. Что-то вроде «Дневника соблазнителя» Кьеркегора. Подростковые грешные Марии Ф. Горенштейна – образец. И одновременно снижение образца. Преднамеренное лишь отчасти. Натуралистический метод даёт свой плод, безвкусный, но с оскоминой.
Ф. Горенштейн – художник сложный, многоплановый. Явно считавший это своим достоинством. Не своим лично, Своих произведений. Смесь памфлета и высокой трагедии, газетной передовицы, нечто вроде статьи И. Оренбурга «Убей немца» и «Ветхого Завета». Я уже говорил о том, что Ф. Горенштейн – человек ветхозаветный. Главная его страсть, опора и идеал.
У Ф. Горенштейна было нечто общее с Симоной Вейль. Как написал о ней Чеслав Милош, она была «антисовременной, одинокой, ищущей окончательную истину». Ф. Горенштейн был антисовременен, одинок и нашёл истину. Есть совпадение. Но есть и различие, которое гораздо важнее. Направление поисков. Афины или Иерусалим. Для Симоны Вейль – Афины, для Фридриха Горенштейна – Иерусалим. Спор продолжается.
Когда-то, очень давно, в прошлом веке, мы бродили по Невскому, мой приятель и я. Говорили о том о сём. Я вспомнил нашего общего знакомого. И, признаюсь, пропел ему «Славься».
Вдруг слышу в ответ: «Да, в одной руке дубина „Библии“, в другой дубина „Бхагаватгиты“. И крушит он ими всё вокруг».
Ф. Горенштейну хватило одной. «Бхагаватгита» ему не понадобилась.
В «Размышлениях аполитичного» Томас Манн аттестовал свой первый роман «Будденброки» не как гармоничное произведение искусства, а как жизнь. И добавил: это готика, не ренессанс. Произведения Ф. Горенштейна не грешат избытком художественной гармонии. Готика ли это, не знаю. Но уж точно не ренессанс.
Эту книгу, как признаётся сам Томас Манн, его заставило написать германофобство французской прессы. Побуждение отнюдь не литературное. Побуждения Ф. Горенштейна внелитературны всегда.
Ф. Горенштейн не получил Нобелевской премии. И Саша Соколов всё ещё пребывает «В ожидании Нобеля». А с точки зрения искусства прозы сравнивать их просто не имеет смысла. Они творят и пребывают в разных измерениях. Один весь в измерении, связанном со словом. Другой – в измерении идей, принципов и истин, от которых нельзя отступать. И здесь не слово, а «дубина Ветхого Завета» основное орудие производства. Один – «словесник», другой – «дубиноноситель».
Слово как строительный материал мало подходит для возведения пирамид, зиккуратов или Соломоновых храмов. Ф. Горенштейн занимался именно этим.
Не видя судящих жестоко,
Не слыша недругов своих,
Он весь как древо у потока
Толпы щумящей, вод мирских.
(С. Стратановский)
Позиция мужественная. И одиночество гарантировано. Но в литературе важен лишь результат. А результат?
И в Галилее рыбари
Из той туманной древней дали,
Забросив невод в час зари,
Лишь душу мёртвую поймали.
(С. Стратановский)
Ф. Горенштейн был ловцом душ. Поймал ли, была ли удачна его рыбалка, не знаю. И если улов был, то не мёртвых ли душ наловил он.
Вкус в литературном произведении – похвала небольшая. Но его полное отсутствие отталкивает читателя, пусть и бессознательно. У Дон Кихота не хватало «такта действительности». У Ф. Горенштейна, который в некотором смысле был Дон Кихотом, отсутствовал «такт слова».
Одна из важнейших для Ф. Горенштейна идеологем или установок: мир плох и не прав по отношению к герою, персонаж, сильно авторизованный, всегда хорош и всегда прав. Очевидно, что и герой «Места», и Дан-Аспид в «Псалме» – одно и то же лицо: автор Фридрих Горенштейн. А автор всегда прав. Это фундамент всего остального. Рассказы, романы не более, чем комментарий, подстрочное примечание. Заметки на полях. Доказательство правоты.
Если принять на веру определение, данное когда-то Егоровым реализму и романтизму, а именно, первый – движение от окружающего мира к человеку, а второй – движение от человека к космосу, точнее, две пары: среда – человек, человек – космос, то Ф. Горенштейн, скорее, романтик, Вопреки своему мелочному натурализму. По установке.
Его дилемма такова: герой – мир, точнее, Ф. Горенштейн – Вселенная, ещё точнее, Ф. Горенштейн – и всё остальное.
«Место» и «Псалом» лишь формально, с виду, – в определённой степени, разумеется, – произведения с жанровым подзаголовком «роман», «роман-притча». На самом деле, по сути, по авторской интенции они энциклики, буллы, если и не папские, то, во всяком случае, послания человекоборца, человекотитана.
Сподобился истины, снизошло откровение. И заговорил. Ф. Горенштейн обладал темпераментом К. Маркса. Последний, правда, лучше писал.
«Я не человек, я веяние», – сказал о себе Аполлон Григорьев. Ф. Горенштейн – тоже веяние, не то веяние в себе, не то для себя. Во всяком случае способности воспринимать другие веяния, а тем более директивы, он был лишён. Человек и художник одной мысли. Всё прочее проходило мимо. Он сам был директивен. И если что-то и веяло, то оно исходило от него самого.
Как-то поэт обронил неожиданные строчки. Неожиданные для времени и приятелей. В 1981-м это было. Задолго до того, как несомые ветром дворянских грамот, попутным по времени и месту, все обладатели помчались в этот «сад».
Милее мне просторный царский сад,
Аллеи вольные и нимфочки фривольны,
Из настоящего зовущие назад,
Туда, где жить отрадно и не больно.
(С. Стратановский)
«Жить отрадно и не больно» можно разве что в искусстве. Но для Ф. Горенштейна «аллеи вольные и нимфочки фривольны» неприемлемы и на этом невинном поле стихосложения. Подобное невоспринимаемо даже как образ, шутка, игра воображения.
Ф. Горенштейн выступает в роли не столько художника, сколько судьи, сурового ветхозаветного Бога-Судьи. Ему совершенно чуждо «не судите, да не судимы будете». Он весь в «Ветхом Завете», где наказание всегда неотвратимо. Не говоря уже о быстроте, решительности и абсолютности. Он – ветхозаветный догматик. Скорбный догматик.
Мир, творимый Ф. Горенштейном, не мир свободы. Это – вселенная должного. Отклонение от «категорического императива», персонального горенштейновского императива, влечёт за собой отлучение и приговор. В нём есть что-то от Великого Инквизитора, безрадостно выполняющего свой долг.
Нет преступления без наказания. Персонаж, совершивший «бестактный» поступок, наказывается непременно, Напоминает принцип или, скорее, лозунг правоохранительной системы советской эпохи о неотвратимости наказания. Но там он был не более чем лозунг. В мире Ф. Горенштейна этот принцип осуществлён. Наказываются люди дурные. Насильники, отступники. Способы разные. Своевременное появление медведицы, словно посланной свыше для спасения Марии. Или убийство писателя в том же «Псалме», не помнящего родства, отказавшегося от своего народа. Отступник и ренегат гибнет от руки следователя МГБ 1953-го, профессионального убийцы и палача. И можно рассматривать этого монстра как орудие исполнения Божественной воли. Или Замысла. Бог выбирает для осуществления вынесенного им приговора не всегда ангела. И чаще всего совсем не ангела.
Нас гладит Бог железным утюгом,
Он любит нас с ожогами на коже.
А мы скулим и жалуемся: «Боже,
Ты был нам братом, сделался врагом».
(С. Стратановский)
Важное отличие поэтического видения от видения Ф. Горенштейна. У поэта Бог «гладит» всех и «любит» всех «с ожогами на коже». Всех и каждого. Без исключения. У Ф. Горенштейна Бог более разборчив. Он любит лишь избранных. Несхожесть Ветхого и Нового Заветов. Разные источники для вдохновения.
Богу всегда предстоит выбор. И выбор всегда предрешён.
И. Кант считал, что достоянием любой религии являются три основных принципа: бытие Бога, бессмертие души и свобода воли. Вселенная Ф. Горенштейна свободу воли исключает. Герой даже своевольничать не может, не говоря о свободе воли, которой не обладает и сам автор. Что важнее. Причинно-следственная связь определяет всё. Это не судьба. Судьба допускает, иногда попустительствует случайности. У Ф. Горенштейна это абсолютный причинно-следственный рок.
Есть чары прозы, мир слов-гурий, и есть могущество, прозаическое тамерланство. И то, и другое искусство прозы, искусство повествования. Но настолько разное, что одно оставляешь за бортом, «бросаешь в набежавшую волну». Другое берёшь с собой и контрабандой перевозишь через Лету.
Все горенштейновские Маруси – тоскливая муть. Блуждание со слюной. Любопытствующий натурализм детства. Из детства выходишь, муть остаётся, и появляется умение изобразить. Изображаешь.
То ли дело в поэме В. Ерофеева «Москва – Петушки» по поводу той же страстишки: «пастись среди лилей». Кратко, точно, исчерпывающе. Высокая поэзия на тему «Высокой болезни». Любовь ведь «Высокая болезнь»? Не правда ли?
Впрочем, Ф. Горенштейн не о любви. Но от этого не легче.
После смерти автора подводят итоги. Это всегда сложно. По разным причинам. Особенно в отношении такого непростого писателя, как Ф. Горенштейн. Трудно сохранить чувство меры, такта, сложно с тональностью. Хвалить и восхвалять, ругать и топать ножкой?
Но вышесказанное – не подведение итогов творческого пути и не статья на эту тему, не оценка и не «курсив мой». Это – не более чем заметки по поводу.
Помню высказывание одного критика. Сейчас Ф. Горенштейна читать скучно, но когда-нибудь его будут читать с интересом. Добавлю, в «Литературных памятниках», если таковые ещё будут издаваться. И с по-академически обширными комментариями – это главное, – которые часто бывают интереснее самого текста.
Один из персонажей «Ста лет одиночества» берёт с собой, отправляясь в Европу через Атлантический океан, «Гаргантюа и Пантагрюэля». Персонаж «Последнего лета на Волге» – Шопенгауэра. Логично.
Один – единственную в своём роде прозу. Антиметафизическую, антиумозрительную, антидогматическую. Другой – метафизику, без которой дня прожить не может.
Шопенгауэр подарил миру юношеский пессимизм, а Рабле Новому времени, его читателю, да и нам с вами – смех. В литературе со времён Античности утерянный.
Дело вкуса. И критерий «нравится – не нравится» приемлем и оправдан. Исходя из этой внелитературной, житейско-читательской точки зрения, мне ближе и дороже В. Марамзин, С. Довлатов, Вал. Попов.
«Пропадать, так с музой», «Я с пощёчиной в руке» – вот она, музыка слова. Или игра с ним. Игра, отнюдь не лишающая слово смысла. Наоборот, обогащающая его. Последнее само начинает играть и музицировать.
«…как если бы божественная природа забавлялась невинной и дружелюбной игрой детей, которые прячутся, чтобы находить друг друга, и, в своей снисходительности и доброте к людям, избрала себе сотоварищем для этой игры человеческую душу».
Фрэнсис Бэкон в своём «Великом восстановлении наук» говорил не о прозе, не об искусстве повествования, а кажется, что именно об этом.
Две строчки из «Рождественского романса» И. Бродского дают и объясняют мне больше, чем значительная, достойная пьеса Ф. Горенштейна «Бердичев»:
блуждает выговор еврейский
на жёлтой лестнице печальной…
При получении Нобелевской премии И. Бродский сообщил, что у него с советской властью разногласия чисто стилистические. У меня с Ф. Горенштейном не более того.
К прозе Фридриха Горенштейна нельзя относиться без уважения. Но радости она не доставляет. Радости чтения. Один критик в начале перестройки, когда пошёл поток до этого непечатной литературы, высказался в том духе, что читать интереснее, чем жить. Но читая Ф. Горенштейна, начинаешь думать, что жить не то что интереснее, но предпочтительнее.
Как известно, не надо страдать по поводу прошлого. Оно прошло. И волноваться по поводу будущего. Его может не быть. Ф. Горенштейн занимался и тем, и другим. Вероятно, он прав. Парадоксы, отполированные до блеска от частого применения, были не для него.
Он всегда говорил лишь о том, что мог мыслить, словно отвергая все прочие возможности узнавания мира или опасаясь, что слова, им высказываемые, потеряют смысл или вообще не обретут его. И любая сама по себе частная идея становилась у него общей, заменяя все прочие идеи того же рода.
«Если целая сложная жизнь многих людей проходит бессознательно, то эта жизнь как бы не была» – записал Лев Толстой в своём дневнике. Вот уж чего не скажешь о Ф. Горенштейне. Он и жил, и писал сознательно.
В одном из писем Флобер написал, что единственный способ не быть несчастным – это целиком замкнуться в искусстве и ни с чем другим не считаться. Мол, гордость заменяет собой всё, если у неё есть достаточно прочное основание.
Не зная, что это Флобер, подумаешь, что сказано не то о Ф. Горенштейне, не то Ф. Горенштейном о самом себе.
Во всяком случае достаточно прочное основание для подобного высказывания у Ф. Горенштейна было.
Тот же Флобер как-то заметил, что высшее достижение в искусстве не в том, чтобы вызвать смех или слёзы, похоть или ярость, а в том, чтобы вызвать мечты. Поэтому лучшие произведения так безмятежны.
Не знаю, могут ли произведения Ф. Горенштейна вызвать похоть или ярость, но мечты уж точно нет. И безмятежными их при всём желании не назовёшь.
Впечатление от прочитанного не критический разбор. Возможность высказаться, обнаружить себя. И чем лучше автор, тем легче читателю найти себя. Качество прочтённого зависит от полноты самораскрытия через авторский текст. Не узнать лучше себя, не познакомиться ближе с собой, а открыть в себе нечто доселе неизвестное.
Ф. Горенштейн – тот автор, который иногда предоставляет такую возможность. Правда, возможность неизменно отрицательную.
«Тогда пришёл на землю Дан из колена Данова Антихрист. Было это в 1933 году, осенью, неподалёку от города Димитрова Харьковской области. Там было начало первой притчи. Ибо когда приходят казни Господни, обычные людские судьбы слагаются в пророческие притчи».
Грамотно, аккуратно, возвышенно. И невыносимо.
Прав был Журден, вопрошая: «…это проза?»
Да, увы, это – проза.
Дело не в темах и сюжетах. В самом письме, которое заскучает и самую высокую, и самую трагическую тему. Высокий библейский ряд не может вытянуть эту прозу.
Он поглощается ею. И свет во тьме уже не светит. Истина о том, что тьма не объяла его, здесь хромает и спотыкается.
Не столько искусство, сколько учительство. Роль наставника прекрасна, высока, значительна. Убийственна она лишь для искусства прозы.
Один идеалист и мечтатель, герой Шервуда Андерсона, пытался засунуть куриное яйцо, не разбив его, в пивную бутылку. Другой – решать проблемы отнюдь не художественные, сочиняя романы, рассказы и повести.
Да, «Зима 53-го», «Зима тревоги нашей», «По поводу мокрого снега». Или вторая часть «Записок из подполья».
По идее последние должны были бы быть любимой книгой автора. Великое произведение. Лев Шестов считал «Записки» главным сочинением Ф. М. Достоевского. А всё остальное не более чем развитием темы, комментарием к теме.
В «Ночных бдениях» Бонавентуры приводится письмо Офелии к Гамлету.
«Любовь и ненависть предписаны мне ролью, как и безумие в конце, но скажи мне, что всё это такое само по себе и что мне дано выбрать. Имеется ли что-нибудь само по себе..
Ты мне только помоги перечитать мою роль в обратном порядке и дочитаться до меня самой».
Персонажи Ф. Горенштейна не выбирают. Им не дано. И подобных вопросов не задают. Они вообще никаких вопросов не задают. Они дочитались до себя, не начав чтения. Без остатка. Нет вопроса, где кончается роль и начинаются они, подлинные. Они знают. Или автор знает. Знает всё. Что естественно. Кому, как не ему. Правда, знание спущено сверху. Как циркуляр.
Ф. Горенштейн – автор авторитарный. А всякий автор с таким темпераментом воспринимает своё творчество, точнее, сотворённое, как «законный конец и предел бесконечного блуждания».
Ф. Горенштейн – не исключение.
Увы, это не более чем приятное и вдохновляющее заблуждение. Яйцо в пивную бутылку не засунешь.
Д. Беркли опасался, что может быть понят неправильно. Опасения оправдались. Я понял его неправильно. И думаю, что когда мы покидаем сад, деревья исчезают.
Я покидаю Ф. Горенштейна. И он исчезает.
По эту сторону Леты
(О прозе Л. Добычина)
Л. Добычин – художник, среди слов которого хочется построить хижину. Кочевая жизнь закончилась. Жаждешь поселиться, осесть, обзавестись. Нашёл наконец-то землю обетованную прозы.
Он пишет о том, о чём писали если не все, то многие. О дрёме жизни, о мире, где «хорошо» умирают квартирантки, где допивают оставшийся синенький, и души раскрываются, где на чистках людно и присылают циркуляры о зимней культработе, где есть Музей с прелестными картинами: умерла болгарка, лёжа на снегу, и полк солдат усыновляет её дочь.
Да, писали. Но Л. Добычин писал иначе.
«…культурная жизнь… – …ему приятно взгрустнулось, он замечтался над супом: играет музыкальный шкаф, студенты задумались и заедают пиво мочёным горохом с солью…»
«О, Петербург!»
О, магия слова! Захотелось самому взгрустнуть, замечтаться, задуматься – и готов. Поэтому воздержимся.
«…мысли его перенеслись незаметно к другим предметам… Он думал о благополучии дружеской жизни, о том, как бы хорошо было жить с другом на берегу какой-нибудь реки, потом чрез эту реку начал строиться у него мост, потом огромнейший дом с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть даже Москву, и там пить вечером чай на открытом воздухе, и рассуждать о каких-нибудь приятных предметах».
Вот и Манилов задумался, замечтался, да и слово «приятный» приятно и знакомо. Оно – любимое добычинских персонажей. И даже более красноречиво и со значением, чем у Н. В. Гоголя.
К тому же тут и «Сад пыток» Октава Мирбо, и «Трудящиеся всех стран… ждут своего освобождения. Посмотрите, пожалуйста, достаточно покраснело у меня между лопатками?»
Оба мира подвергаются сомнению. Слова канувшего и слова нового. Они отчуждаются от заданного, порученного им смысла, оказываются нагруженными иным, новым и неожиданным, или лишаются всякого.
Фраза строится по нисходящей. От горы с церквами к пейзажу на диванной подушке. От перерезанной шеи святого к колбасной вывеске над трактирной дверью. От «звёздного неба над головой» к кастрюлькам и горшкам.
Ирония отвергает благопристойность, заранее обусловленную и обговорённую. Она ещё и свидетельство смещения привычных нравственных, религиозных, эстетических ориентиров, их деформации, переоценки и унижения в тёмные времена. Меняются «веяния»-меняется и зрение. Традиционно прекрасное таковым более не воспринимается.
Соловей ещё поёт, лунный свет не упразднён, закаты и восходы регулярны и звёзды вспыхивают. Но время ушло, затерялось, его обронили по дороге в Будущее. Время, когда поэт мог сказать:
Мой дух, о ночь! Как падший серафим,
Признал родство с нетленной жизнью звёздной,
а читатель принять подобное.
«…здесь живёт и томится… Лиз».
Словно из рыцарского романа о заколдованной или пленённой красавице, которую рыцарь должен освободить. Но Высокое не задерживается, стесняется побыть. Ирония снимает излишек эмоций. Не дав им развиться до степени болезненной. Снимает «компрессами», «нарывами на спине», «нашими банями».
Рыцарский мотив верности: «Лиз, я вам буду верен» пародийно снижается, как самим героем, окружающими его персонажами, так и ситуацией.
Особенно привлекательна концовка «любовной новеллы». В некотором роде эпитафия.
«…конечно, девушка с образованием», – говорит рыцарь, он же Жорж, он же влюблённый. Страдания Вертера в эпоху НЭПа.
«Надгробное слово» по поводу смерти предмета любви ошеломляет. Не краткостью, не жестокосердной неожиданностью.
Анкетностью формулировки. Классической строгостью кадровой политики.
Каждой фразе присуща самодостаточность, автономность. Каждая до известной степени самостоятельный голос. И из них возникает словесно-музыкальная ткань вещи. Имею в виду голос, мелодию самого слова, а не риторику персонажей, которые у Л. Добычина не цицеронят.
Можно воспользоваться словами Ф. Шлегеля, сказанными по другому поводу: «фрагментарная гениальность».
В жизни самое прекрасное – предчувствие оного, его ожидание. Многим персонажам свойственно и ожидание, и предчувствие. Герои и особенно героини рассказов склонны любоваться, вздыхать, задумываться, приятно улыбаться и приятно грустить. Быть счастливыми. Не обязательно к месту. И часто совсем не к месту. На кладбище, например, или на поминках.
Их потаённая жизнь перевешивает реальность. Каждый живёт в двух измерениях: внутреннем и внешнем. Измерениях, которые не могут совпасть друг с другом. Нет точки соприкосновения. Все они – люди рубежа, жители когда-то единого континента, расколовшегося в результате катаклизмы на две половины. Одна уплывает всё дальше и дальше в прошлое, на другой они живут.
И жизнь их проходит между тюрьмой, казармой, утопленниками, – частыми гостями рассказов Л. Добычина, – дефективными, – ведь и их сегодняшняя жизнь тоже дефективна, – и воспоминаниями – воспоминаниями с большой буквы, как бы сами по себе они ни были ничтожны, – о прекрасных мгновениях той, давно облетевшей жизни.
«Ах, не вернётся прежнее», – вздыхает персонаж.
И сейчас им скучно. Оттого – всё зрелище: утопленник, похороны, смычка с Красной Армией.
Персонажи заслуживают своей судьбы. И неспособны вырваться из очерченного круга. Вряд ли даже хотят. Но их склонность к мечтаниям говорит о том, что загон, в котором они оказались, их не устраивает, что они немножко другие. Отличные от «скотского хутора» их пребывания. Это – не бунт. Персонажи Л. Добычина не бунтовщики. Это не более чем их вторая жизнь, существующая наряду с реальной и мирно с ней уживающаяся.
Они присутствуют «здесь» и «теперь». И одновременно отсутствуют. Физически – да. Эмоционально – нет.
Несёт гарью, сор шуршит по булыжникам, воняет капустой, табачищем, кислятиной. И Гоголь с чёрными усиками присутствует незримо в каждом рассказе, в каждой главке. Витает, как беспокойная тень, призрак, привидение. Или как цензор.
А Савкина потряхивает круглыми щеками, а Фрида Белосток и Берта Виноград щеголяют модами и грацией.
Всем героиням чего-то не хватает. Отсюда поэтичность, замедленность движений, некие грёзы, игра, театральное действо:
«…она одной рукой ощупывала закрученный над лбом волосяной окоп, другой с грацией вертела пион».
Вероятно, любви. Они вздыхают и смотрят в темноту.
Умение с помощью минимума выразить максимум. Минимальные средства – и максимальная отдача.
Л. Добычин доверил свою прозу глаголу и выиграл. Он понимал его силу и – главное – место, на котором он должен стоять.
«Бензином завоняло. Невский вспомнился…»
И не только он. Ещё и Н. Заболоцкий.
Там Невский в блеске и тоске,
………………………………………………
И как бы яростью объятый,
Через туман, тоску, бензин…
«Голоса сливались. Откровенности и дружбы захотелось».
Инверсия чаще инвестируется в поэзию. Хотя и в прозе поселилась давно. Юной поселянкой не назовёшь. Но у Л. Добычина она действует безотказно. Благотворна для читателя. Заставляет его задержаться, задуматься. Возможно, даже «приятно» задуматься. Она открывает рассказываемое, которое самого обыкновенного обыкновеннее, по-новому. Обогащает стиль.
За его словом открываются миры, которые он не описывает, о них не рассказывает, но они существуют. Существуют в скрытом виде. Пример, рассказ «Прощание» – маленький шедевр полутонов.
«Необходимо разнообразие в изображении… живой, причудливый, непоследовательный, пёстрый мир…»
Мир Л. Добычина соответствует.
Если принять, что каждая вещь тяготеет к бесконечному пределу или абсолютной завершённости, то проза Л. Добычина – одна из таких вещей. Она тяготеет к исчерпывающему совершенству.
«Конопатчикова… взяла щепотку дыма и понюхала».
«…толкались солдаты… долгополые и низенькие».
Нет прихотливости, изыска, но нет и уложения, устава письма. Словно слова счастливым образом сами находят друг друга.
«В чувственной конкретности… заключена жизнь стиля».
Реакция персонажей часто неадекватна состоявшемуся действию. Они зрячи. Они видят. Но объективно данное воспринимается не прямо. Пропускаемое через заранее заданную, почти сомнамбулическую грёзу, гораздо более реальную, чем сама реальность.
«…епископ вышел из сторожки… с ведром помоев. Постоял… и опрокинул своё ведро под столб с преображением».
«Недолго мучиться, – радостно думала Козлова…»
Нравственное окормление человеков, духовное пропитание вероятны. Но «чувственная конкретность», а следовательно, и жизнь стиля несомненны.
Персонажам свойственна достоверность природных явлений. Одновременно они – знак времени и знаковы сами по себе. Естественно и с соблюдением такта в добычинской прозе уживаются время, история, «море житейское», литература.
Анна Францевна из рассказа «Евдокия», на глазах меняющая местожительство на лесковских «Островитян». Кунст из «Прощания» и герой гамсуновского «Голода», видящие на рассвете почти одни и те же картинки. Начальник Глан из того же «Прощания» и лейтенант Глан в «Пане».
Проза Л. Добычина насыщена отголосками европейской прозы. Это – неявный спор, скрытый диалог с ней. И его ответ. Ответ, скорее, отрицательный.
Цвет, свет, освещённость, имена, сопоставления, соотнесённость. Соотнесённость по принципу несходства, отдалённости. Рядоположенность исключается.
Л. Добычин-ловец жизни, современничающей ему. Не воссоздать, не описать, а уловить. В это мгновение, в этом месте. Как фотограф ловит самый удобный момент для съёмки. Сейчас вылетит птичка. У Л. Добычина птичка вылетает всегда. Разумеется, это единственная в своем роде птичка и с фотографией в родстве не состоит.
Как в отложениях земных пород остаются растения, животные давних эпох, так и добычинское слово останавливается, запечатлев мгновение.
«Старухи возвращались из хвостов и прижимали к кофтам хлебы».
«Лёд прошёл – с дорогами и со следами лыж».
В описаниях отстранённость от событийной канвы и реальности творимого времени. Отстранённая безмятежность на окраине повествования. Они – описания – не фон, а комментарий. Он меняет тональность и оттеняет происходящее.
«Подымался и утихал лай собак. То далеко, то близко гудели иногда паровозы.
В конюшне Василия лошади переступали. Звезда иногда отрывалась и падала».
Богатство цвета на добычинских персонажах – и любовь к красивому, и следование модам, и провинциальное кокетство, и имитация чего-то столичного. И воспоминание о мимолётном прошлом. Но не только.
Оно ещё и поиски равновесия, попытка упрочить своё положение в этом дрянном и неустойчивом мире, способ обретения внутреннего достоинства. Убедить себя в собственной ценности, значимости, инаковости.
«Прелестницы» Л. Добычина не вызовут шекспировских страстей. Они отнюдь не Манон Леско, не Анны Каренины, не Эммы Бовари. Все героини слегка набекрень. Развоплощение страстей и красавиц. Природная незавершённость.
Возможно, это связано с острым ощущением мимолётности, обманчивости красоты, – «красота живёт мгновение»? – сомнительности страстей. В прекрасном всегда есть некоторая недостоверность. Отсюда и ироническое отношение к «нежным чувствам».
Проза Л. Добычина абсурдна и одновременно «приятна». Абсурдна по содержанию. «Приятна» по форме. Чтобы писать или говорить о такой прозе, надо быть с ней на равных. Что на деле исключено.








