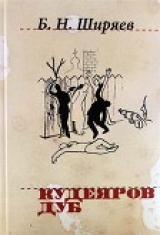
Текст книги "Кудеяров дуб"
Автор книги: Борис Ширяев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
ГЛАВА 14
Миша ночевал в общежитии на одной из пустовавших коек. Таких было достаточно – почти половина населения комнаты куда-то исчезла.
– Вот дурни, – рассуждал вслух Миша, укладываясь рядом с Косиным и стягивая одеяло с соседнего пустующего тапчана, – неужели они всю эту пропаганду про зверства всерьез приняли? Или бомбежки испугались?
– Сам ты дурной, – отозвался Косин между двумя зевками. – Ни от кого они не бежали, а по своим надобностям разошлись. Молодцы ребята. Уяснили себе ситуацию и использовали.
– В чем же они ее использовали? Скорее наоборот.
– А ты смотри, кого нет, Клименки, Желтобрюхова, Дунькина, – тыкал Косин в направлении пустовавших коек своим узловатым мужицким пальцем, – Семакова, Репкина. Все ближние: с Ольховатки, из Михайловки, с Пелагиады… Мазурина тоже нет. Ну, он, положим, из-под Москвы откуда-то. Так у него отец с матерью в городе.
– Ну, а в совхозы зачем сейчас переть? – продолжал недоумевать Миша. – Здесь интереснее. С чего же в дыры-то забиваться?
– Голова у тебя умная, а дураку досталась. Вот зачем, – приподнял Косин свисающее с его тапчана одеяло. – Видишь, два мешка и оба доверху. Я завтра с одним к себе попру. Оба зараз не донести.
Мишка присвистнул.
– Ловко! Действительно использовал ситуацию.
– Сахара мне не пришлось. Не захватил, – с сожалением покачал головой Косин, – в момент его бабы разобрали. Через них не пробьешься. Почитай, одна мука у меня. Зато двухдюймовых гвоздей кил десять, а то и больше… На них в колхозе чего хочешь наменяю. Будут мои пацаны сыты.
– А я всё-таки не стал бы грабить, – поежился под одеялом Мишка. – Совестно как-то. Хотя, конечно, учитывая наше жизненное положение.
– Грабить? – озлился Косин. – Это пусть Смолина про грабеж своим поганым языком шлепает. Мы свое брали! – выкрикнул он, приподнявшись на локте. – Свое, кровное. За наш труд, за наш пот недодаденное… Отнятое, с кровью у нас вырванное! Вот что! А ты – грабеж, – не мог он затолкнуть внутрь себя клокотавшую и бурлившую в нем злобу, – а ты – грабеж. Не мы грабили – нас начисто ограбили! Вот что!
– Рассудить, оно, конечно, так и выходит, – согласился Миша, – только… все-таки… стыдно…
– Никакого тут стыда нет. Но, однако, давай спать. Я завтра с зорькой дерну. Выход из города, говоришь, беспрепятственный?
– Пропуска никто не спрашивал, – натянул на голову одеяло Мишка. – Только ты всё-таки лучше коммунальными огородами выходи, – посоветовал он сонным голосом.
Утром его разбудило крепкое покряхтывание того же Косина, прилаживавшего на плечах два туго набитых, латанных обрывками солдатской шинели, серых мешка.
– И забрать охота и не донесешь, боюсь, – рассуждал вслух пожилой студент, – как-никак тридцать пять километров. Дело не шутейное. Ну, пока, – бросил он Мише. – Завтра, наверное, взвертаюсь.
Косин ушел, когда все еще спали, а солнце уже протирало густым снопом золотистых лучей пыльные стекла окон общежития. Мишка всё еще лежал на топчане. Он обдумывал сложный план предстоящих действий, учитывал каждую деталь, каждое возможное препятствие.
«Доктор встает всегда ровно в семь и садится к окну чай пить. Ультра-фиолетовые лучи поглощает. Для этого поглощения будит всю семью, но встают они, конечно, только к восьми. Сейчас, надо полагать, шесть с небольшим. Значит, так: встаю, бегу и буду там как бы по своему делу проходить. Доктор, конечно, в такую погоду окно откроет. Тогда подойду с каким-нибудь вопросом. А там дальше сама обстановка покажет. „Подъем!“ – вскочил он разом с койки. – Ботинки почистить бы… У Плотникова всегда гуталин имеется. Только вот где? Ну, черт с ними, – обтер он рукавом залепленные грязью, бывшие когда-то желтыми полуботинки. – Побриться тоже следовало бы, – ощупал он подбородок, – но дело не выйдет. Ладно… Может, она и к окну не подойдет?»
Улица, когда студент на нее вышел, уже жила полной жизнью. Немецкие солдаты умывались в брезентовых тазах и брились возле стоявших сплошным рядом вдоль тротуара автомашин. Они перекликались, выкрикивая что-то веселое, то друг другу, то выбегавшим на крылечки женщинам. Те в ответ махали руками – ничего, мол, не понимаем, – но тоже смеялись и одергивали складки слежавшихся в сундуках платьев.
«Принарядились для агрессоров, – отметил в уме Мишка, – хотя так и правильно. С чего лахудрами себя выставлять? Эх, мне бы боты почистить!»
Краснолицый рыжеватый солдат, с которым поравнялся студент, как раз только что закончил операцию, о которой платонически мечтал Мишка, и, положив щетку на подножку грузовика, удовлетворенно оглядывал блестящий лоск коротких и широких голенищ как-то неладно на русский взгляд сшитых сапог.
«Была не была, – неожиданно для самого себя решил студент, – чем я, собственно говоря, рискую?»
Он стал перед немцем, ткнул пальцем в банку с сапожным кремом, потом им же указал себе на ноги. Немец сначала недоуменно взглянул в лицо Миши, похлопал рыжими ресницами, потом перевел глаза в направлении его пальца и понял.
– Битте! – кивнул он головой, протянул Мише щетку, хлопнул его по плечу и залопотал что-то, из чего студент понял только одно слово «гут». Относилось ли это к сапожной мази или к чему другому, он себе уяснить не пытался, но все-таки для придания себе веса ткнул в грудь и сказал:
– Студент.
– Штудент? – переспросил немец. – Ausgezeichnet Ich bin auch Student, – и дальше целый поток слов. Но Миша уже не слушал, а с ожесточением тер щеткой по густо намазанным кремом ботинкам. Теперь на все сто! Спасибо тебе, немец! Бите. Нет, данке надо сказать. Данке, камрад. А то, знаешь, семья эта старорежимная. На каждую мелочь внимание обращает. Ну, спасибо, – помахал он рукой так же, как видел делали это немцы. – Теперь переключаюсь на предельную скорость!
Обстоятельства слагались благоприятно. Мишке сегодня явно везло. Окно аккуратного, просторного домика на прилегающей к бульвару тихой, в зеленых садиках, улице открылось как раз в тот момент, когда к нему подходил Миша. Из окна выглянула лысеющая седая голова, блеснули на солнце старомодные золотые очки. Доктор Семен Иванович Дашкевич точно, как всегда, до секунды, начал поглощать очередную порцию ультрафиолетовых лучей.
Студента он заметил еще издали и, приложив ко рту поставленную ребром ладонь, прохрипел вглубь комнаты громким театральным топотом:
– Мирок! Мирок! Твой Ромео шествует. Спеши к окну, Джульетта, а то он еще серенаду затянет. А, как ты знаешь, я музыки по утрам не приемлю.
Потом, хитро подмигнув не скупившемуся на ультрафиолетовые лучи солнышку, старый доктор взял из стоящей на окне корзинки румяную булочку, прикусил ее и запил чаем. Старомодные очки благодушно съехали к синим прожилкам на кончике стариковского носа, одна из седых бровей резко подпрыгнула вверх, потом постепенно опустилась на прищуренный глаз.
– Разумный студиоз совершает утреннюю прогулку, – приветствовал доктор Мишу, – как врач, одобряю. Ультрафиолетовые лучи как нельзя более благоприятствуют деятельности нервов.
Ультрафиолетовые лучи были пунктиком любимого всем городом доктора. За глаза его так и величали ультрафиолетовым.
Миша молча поклонился и пожал протянутую из окна, покрытую сетью синих прожилок, руку.
– Ну, как? – хлебнувши чая, спросил доктор. – В городе спокойно? Пожары потухли? – и, не дожидаясь ответа, продолжал сам. – В общем, критический момент перехода из рук в руки обошелся нам очень дешево. Пожаров не так много, артиллерийского обстрела в городе не было, убитых с воздуха, по вчерашнему подсчету, 87, раненых – 163. Для города с населением в сто пятьдесят тысяч это пустяк.
– Профессора Колосова убило, – сообщил, чтобы что-нибудь сказать для завязки нужного ему разговора, Миша.
– Не убило его, а он сам умер, – строго поправил доктор, – разрыв сердца, как и следовало ожидать при его болезненном состоянии. Берегите свое сердце, студент, никогда не перегружайте его. Перегрузка любовью, конечно, в счет не идет. Она даже полезна в вашем возрасте. Мирок! Мирок! – закричал он, обернувшись. – Довольно тебе спать, вылетай из гнездышка, птичка! На солнышко! Под лучи! Они бьют сейчас как раз в нашем направлении.
– В северокавказском направлении упорные бои с переменным успехом, – неожиданно прохрипело радио и снова замолкло. Доктор поднял вверх указательный палец.
– Каково? Электростанция возобновила работу. Вчера тока не было. Пробуют, должно быть.
Из-за плеча старика выглянула повязанная крымской чадрой головка, а из-под чадры неприбранные еще влажные после умывания каштановые локоны.
– Здравствуйте, Миша. Что в институте? Вы были там после бомбежки?
– В самом институте не был, а в общежитии номер один даже ночевал. В общем, ничего особенного, – переминаясь с ноги на ногу, ответил Миша.
– У вас всегда так: ничего особенного, – капризно опустились уголки наскоро подкрашенных пухлых губок Мирочки Дашкевич, – никогда ничего рассказать толком не можете. Даже и говорить не умеете. Зачем только на литфак поступили? Вам, Миша, надо было на математический идти. Писали бы цифры – вас на это хватит. Ну, я иду одеваться. Пока! – Головка исчезла, оставив студента в полной растерянности.
– Суровый, суровый вынесен вам приговор, студиоз, – утешал его доктор, – но вы не печальтесь. И Пушкина тоже сурово Булгарин критиковал. Однако, мне пора на новую службу, – заторопился старик, – или вернее на старую службу. Меня ведь, студиоз, новое начальство назначило руководить здравоохранением. И я принял это назначение. Что? Удивлены? Осуждаете? Врач, дорогой мой, обязан лечить всех и всегда. Медицина вне политики. Я это утверждал в прошлом, утверждаю и теперь. Ну, я иду…
– И я с вами в комендатуру, Семен Иванович, мне тоже туда надо, – засуетился Миша, подумав про себя: «Теперь она больше не выйдет. Ну, ничего, по крайней мере, лично удостоверился, что она, не уехала. А могла… Комсомолка ведь. В порядке партдисциплины».
За всю дорогу в комендатуру Миша не сказал двух слов, зато доктор ораторствовал, как великобританский парламентарий. Начал он, конечно, с влияния ультрафиолетовых лучей на организм гомо сапиенс, но потом перешел к декламации:
«Блеснет наутро луч денницы…», и дойдя до «Что день грядущий мне готовит», – перескочил на злободневную тему – смену власти и режима, а с нее, увидев немца, расставлявшего дорожные указатели с названиями немецких штабов и управлений, – на точность германской организационной системы. Но докончить этой темы он не успел. Пришли в комендатуру, разместившуюся в полностью уцелевшем здании обкома.
Вся улица перед ним была забита толпой. По привычке теснились, давили, жали друг друга, стараясь пробиться ближе к открытым дверям, в которых стоял немецкий солдат с палкой, к концу которой была привязана взятая, вероятно, из клуба обкома перчатка для бокса. Время от времени он спускался со ступеней крыльца и расчищал дорогу к дверям, звучно хлопая этой перчаткой по головам теснившихся, и громко выкрикивал что-то. Но как только он воз-вращался на крыльцо, толпа снова смыкалась и затопляла расчищенную им дорожку.
Доктор, не пытаясь протиснуться, издали помахал над головой зеленой карточкой «аусвайса»:
– Эй, мейн герр! Как тебя там величать? Дейтшер золдат! Их доктор! Сделай милость, проведи цу герр оберет… – махнул он карточкой вправо и влево. – Раздвинь!
Немец заметил, кивнул головой, и перчатка часто захлопала по головам столпившихся.
– Могу и вас, студиоз, с собой провести. Иначе не попадете.
– И меня, Семен Иванович, – послышалось из ближних рядов.
– И ты здесь! – радостно удивился Мишка, увидев пробивавшегося к ним из толкучки Броницына. – Тоже решил поступать?
– Я это решил, когда они еще к Ростову подходили, – тяжело дыша, отвечал покрасневший от натуги Броницын. – Обе пуговицы начисто отлетели, – помял он борт ловко сидевшего на нем, по мнению студентов, пиджака. – Здравствуйте, доктор. Проведете?
– Целая свита. Ну, что ж, скажу – санитары. Занитарен, – указал он на студентов, пробившись к немцу. – Мейне ассистенте.
– И здесь опять блат, – прозвучал мрачный голос из оттиснутой немцем толпы. Но грузный парень в спецовке, сказавший это, был тотчас же одернут прижатым к нему соседом.
– Не видишь, что ли? Это доктор Дашкевич.
В первой комнате, где прежде беспрерывно трещали шесть обкомовских машинисток, теперь сидела только одна, а глаголем к ней, за сдвинутыми столиками поблескивал круглыми, тяжелыми очками экономист плодоовоща Мерцалов и, тоже в очках – другой, с резко очерченным, выдающимся вперед воловьим подбородком, инженер Красницкий. Перед ними стоял плотный широкоплечий мужчина в чистой белой толстовке. Еще несколько человек ожидали конца их разговора, сгрудившись у дверей.
– Ну, я прямо к коменданту насчет помещения для лазарета, вам – туда, к бургомистру, – указал студентам на Красницкого доктор.
– Господину доктору, Семену Ивановичу, привет и уважение, – упирая на слово господин, повернулся стоявший у стола.
– А-а-а! Шершуков! – заулыбался ему доктор. – Ну, как? Печень теперь не ноет? Ишь, какое пузо себе нагулял, – ткнул он в живот тоже смеющегося бывшего своего пациента. – Водки, водки, брат, поменьше пей!
– В меру, Семен Иванович, в меру.
– Мера, знаешь ли, разная бывает. Это понятие растяжимое. Вы с ним теперь не шутите, – тоже засмеялся из-за стола Мерцалов, – он теперь директор типографии. И даже по заслугам. Успел уже! Во время бомбежки всех рабочих на производстве удержал и тотчас же объявления командования отпечатал. Вот как!
– Прямо на том же рулоне, на котором «Кубанскую правду» крутили! Без перерыва, – широко размахнул руками Шершунов.
– Так… Значит, – смахнув с лица улыбку, по-деловому, договорил, обращаясь к нему Мерцалов начатую перед приходом доктора фразу, – значит, газету ты полностью обеспечиваешь. Нам – с плеч долой. Ты соберешь сотрудников и редактора разыщешь. Намечаем, значит, Брянцева? Так?
– Точка! К завтрему – полностью. Сегодня – экстренный выпуск на одном полулисте. – Решили. Текст сами немцы дадут. Полковник Шредер. Кстати, он полностью русский. Вали! Вы по какому делу? – обратился Мерцалов к студентам, но ответить они не успели.
– Вы, господин доктор, – снова упирая на слово господин, обратился к Дашкевичу Шершуков, – с профессором Брянцевым в близких отношениях состоите и, надо полагать, знаете, где он сейчас находится?
– Они должны знать, – ткнул пальцем в сторону ребят доктор, – его студенты, словесники.
– В учхоэе зооинститута, садовым сторожем, – отрапортовал Мишка.
– Все в порядке, – поймал его за борт пиджака Шершуков. – А вы, ребята, сюда за работой пришли? Лучше не может быть! Давайте их мне, господин бургомистр. Без промедления! У меня корректор ранен.
– Раздробление обеих голеней, – подтвердил доктор, – сегодня ампутировать будем. Сложная операция.
– Фьюить! – присвистнул Шершуков. – Кончился, значит, наш Петр Васильевич! Жалко, человек хороший. Значит, вали прямо в типографию, ребята, – повернулся он снова к студентам. – Я вас за полчаса знакам обучу. Один корректором, другой подчитчикам. Сыпь! Или нет, – поднял он вверх крепкий, зачерненный свинцовой пылью палец, – за три часа на Деминский хутор смахаете? К Брянцеву? Гоните! Отношение к профессору Брянцеву они снесут, – повернулся он к бургомистру, – провернут дело в два счета. Я сейчас сам машинистке продиктую, вы подпишите, – зашагал он вразвалку к сидевшей за одиноким столом поджарой девице в голубом сарафанчике.
– Каков? – взмахнул вслед ему подбородком Мерцалов. – А? Доктор? Какие работники выявляются! Энергия! Деловитость! Чем не директор? А ведь был простым наборщиком или чем-то вроде. Великую силу таит в себе русский народ!
– Некогда мне с вами философию разводить, меня больные и раненые ждут, – отмахнулся старик и засеменил к закрытой двери коменданта.
Студенты, получив подписанное письмо к Брянцеву, тоже двинулись к выходу.
– Есть, капитан? Ловко? – встряхнул за плечи Броницына Мишка, когда они выбились из осаждавшей комендатуру толпы. – За пять минут все устроилось. А то бы давились бы здесь до вечера. К тому же, можно сказать, по специальности работу получили.
– А зарплаты своей не знаем.
– Это мелочи жизни. Меньше советских ставок, я думаю, не получим, Значит, живем. Смотри, смотри, кто стоит! – с удивлением воскликнул он.
– Где?
– Да вон же, рядом с девахой в белой косынке.
– Плотников. – Еще более удивленно протянул Броницын. – Вот уж никак не ожидал его здесь увидеть. Неужели он тоже к немцам на службу?
– Дело темное, – покачал своей круглой головой Мишка, – может быть, в самом деле, переметнулся, и выслужиться у новой власти хочет. А, может, и по заданию, для диверсии. Или просто наблюдателем, чтобы на заметку брать тех, кто здесь. Это вернее всего. Значит, и мы будем в его списке. Ну, черт с ним, все равно узнается. Да я и скрывать не хочу. Ну, сыпем сейчас в учхоз полным ходом. Придется поднажать!
– Скажи, – обратился к Мишке Броницын, когда они, промахнув быстрым шагом улицы пригорода, вышли в степь, – по чести, верно, скажи, – обнял он за плечи друга, – вот мы с тобой поступили сейчас на службу к врагам. То есть… Не так, не совсем так. Вернее, к тем, кого привыкли называть врагами…
– Мало ли кого мы врагами-то называли, – засмеялся Мишка, – с чужого голоса. То одни, то другие врагами народа оказывались. И голосовали мы, и клялись, а ты сам-то в эту вражду верил?
– Я – дело иное. Я тебе говорил ведь, что я не советский. Я сам враг. Сын врага, помещика, офицера. А вот ты – крестьянин, мужик по рождению?
– Совсем не мужик, – обиделся Мишка, – а природный казак станицы Полтавской. Это две большие разницы.
– Одна разница бывает, дурень. А еще словесник.
– Одна ли, две ли… Не в том дело. А только не мужик, а казак. Иногородние, Косин, например, те мужики, а мы нет, – сердито настаивал на своем Миша.
– Ладно! Казак! Не спорю. Но на душе-то у тебя все в порядке? Гладко? Или цепляется что-то?
– За что там цепляться? – пожал плечами Мишка. – Все ровно, без задоринки. Я своего врага знал, когда еще без порток бегал. Когда нас со станицы согнали. И то еще в милость, – бедняками признали. Не в Сибирь и не в подвал. Все семейство цело. Наш враг нам очень хорошо известен. А кто против него, тот выходит нам другом. Я знаю, чего хочу. Однако подбавим, подбавим ходу! Этот Шершуков или как его там, велел обязательно к обеду стать на работу. Жмем, Броня! – потянул он за плечо друга, но тот не двинулся. Широко открытыми глазами смотрел Броницын на простор осенней побуревшей степи, раскинул руки, сжав кулаки, так что кости хрустнули, напрягся до боли в плечах.
– И я знаю. Жить! Жить я хочу! Просто жить! Полно! Всем своим существом, всей кровью, всеми фибрами, – свел руки, сжал их, сплел в тугой узел хрустнувшие пальцы.
Я мало жил,
Я жил в плену,
– не то выкрикнул, не то простонал он.
ГЛАВА 15
Дележку небольшого запаса имевшейся в совхозе муки начали с восходом солнца. Женщины, кто с мешком, кто с ведром, толпились около кладовой и дружно наседали на румяного кладовщика.
– Без бухгалтера не отопру, – твердил тот.
Бегали в контору. Отец Павел сидел там, но благоразумно заперши и дверь и окно.
– Ведомость составляет, – обнадеживали нетерпеливых вернувшиеся от дверей конторы. Тут же, в сторонке, стоял Евстигнеич.
Наконец, когда солнце уже высоко поднялось над дымившейся утренним паром степью, дверь конторы раскрылась, и осанистый бухгалтер, держа перед собою широкий лист ведомости, неспешно сошел с крыльца.
– Погоди еще отпирать, – распорядился он, – сначала я зачту список. Если недовольство какое или у меня самого получилась неточность, заявите. К примеру, Кудинова Мария, сколько у тебя едоков в наличности? Трое? Колька-то у тебя в городе?
– Пятеро! – выскочила вперед бойкая, ладная, как спелое яблочко, и такая же румянистая бабенка. – Пятерых считайте в наличности, отец Павел!
– Вот это здравствуйтепожалуйста, – поклонился ей бухгалтер, выражая этим жестом одновременно удивление и недоверие. – Считаем: ты, две девочки – трое. Положим, Кольку еще из города вернешь. Будет четверо. А кто пятый?
– Андрей Иванович тоже едок. Вот и пятеро, – с долей ехидства тоже поклонилась ему бабенка.
– Ты бы еще дедов и прадедов присчитала! Андрей-то Иванович с год, как мобилизован.
– Аккурат годочек, – еще ехиднее заулыбалась Марья Кудинова. – Что ж тут такого? А он в наличии.
– Что ты мне голову задуряешь! – даже плюнул с досады отец Павел. – Всякому нахальству предел имеется. Раз человек в армии, возможно даже, что и не жив, как его в наличии показывать?
– А вот удостоверьтесь сами. Вот он, как есть, в полном виде! – торжествуя одержанную победу указала Марья на подходящего к кладовой чисто и аккуратно одетого человека. Шел он медленно, несколько смущенно и вместе с тем хитровато улыбаясь свежевыбритыми губами. Подойдя, поклонился бухгалтеру, потом шарахнувшимся от него на обе стороны женщинам. Кладовщику протянул сложенную дощечкой руку.
– Андрей Иванович! Ты ли это или душа твоя неприкаянная? – патетически возгласил отец Павел, подняв над головой лист ведомости.
Евстигнеевич бочком подобрался к пришедшему, осторожно пощупал полу его пиджака и ответил за него отцу Павлу:
– Вполне вещественный. Своевременно из армии смылся, надо полагать.
– В ней и не был ни одного дня, – пожал руку старику подошедший, – год и четыре дня имел подземельное местожительство.
– Ну, дела! – развел руками отец Павел. – Как же тебя, Андрей Иванович, теперь числить?
– Едоком, – услужливо подсказала заскочившая перед мужем Марья, – живая душа питьесть хочет.
– Значит, перерасчет, всю ведомость ломать, – недовольно пробасил священник-бухгалтер.
– Не стоит. Там у меня кой-какой резерв есть, – успокоил его кладовщик, – из него и выделим. А ты где же обретался всё это время, Андрей Иванович?
– Говорю, – в подземельном местожительстве, вроде как бы крота в зимнюю пору или сурка.
– Под печкой погребок вырыли, а поверх сухого будяку навалили, – бойко затараторила, распираемая желанием рассказать все в подробностях, Марья, – там и находился.
– То-то ты и выглядишь бледноватым.
– Кашель одолевать стал, – сыпала Марья.
– Сырость, конечно, – посочувствовал Евстигнеевич, – как-никак, земь. Хотя бы и под печкой.
– Так и сидел весь год? – продолжал изумляться отец Павел. – Без выхода? Чудеса! – Ночами иной раз выходил. В юбку мою и в кофту обряжался, не унималась Марья, торопясь поскорее высыпать весь ворох сенсационных новостей. – Всеволод Сергеевич, – закричал отец Павел подходившему вместе с Ольгой Брянцеву, – полюбуйтесь, какие у нас тут чудеса происходят. Вы этого человека знаете? – В первый раз вижу, – оглядел Брянцев Андрея Ивановича.
– Да что я на самом деле. Конечно, знать вы его не можете. Он до вашего поступления в затвор уединился. Рекомендую: Андрей Иванович Кудинов, огородник нашего учебного хозяйства. Замечателен же в настоящее время тем, что лишь сегодня на свет Божий выполз из подземного пребывания, в коем он провел ни мало, ни много один год.
– И четыре денечка, – вставила Марья.
– И четыре дня, – добавил отец бухгалтер, – укрываясь от призыва в ряды красной рабоче-крестьянской армии. Дезертир, можно сказать, особого вида.
– Нет, не дезик, – согнав улыбку, с сердцем возразил подземельный человек. – Я, извиняюсь, не из армии сбег при военном положении, а идти в нее не схотел. На какой она мне черт сдалась? Кого мне в ней защищать? Опять же, ихнюю власть? Гепею или эту самую сицилизму? Кого?
– Упорный характер. Твердый, – указал на него Брянцеву отец Павел.
– Настырный, ох, и настырный! – с чувством подтвердила Марья. – Всех пересамит. – Ну, приступим к проверке и выдаче одновременно, – возгласил бухгалтер, – отомкни! Андрюхина Елизавета со чадами, всего пять едоков. Сначала муку разберем, а потом обсудим и решим о зерне: на руки из закрома или сначала в размол. По алфавиту вычитываю: Брянцев Всеволод Сергеевич, два едока.
Получив свои тридцать кило серой, не отсеянной муки, Ольга выволокла мешок из толкучки и хотела уже взвалить его на плечо Брянцева, но мешок оказался у Евстигнеевича.
– Зачем вам себя утруждать, – ловко вскинул его на плечо старик, – замараетесь только. Наше дело привычное.
Брянцев не спорил. Хочет услужить, так и мешать ему незачем. Значит, другой теперь ветер дует, а, кроме того, Евстигнеевич никогда спроста не действует. Вероятно, и теперь у него что-нибудь на уме, поговорить втихомолку, может быть, хочет. Хитрый мужик!
– К шалашу нести? Вам бы теперь в подходящее помещение перебраться надо, в директорскую, хотя бы, – наставительно советовал Евстигнеевич.
– Ну, пока в шалаше еще поживем, – решительно заявила Ольга. – И жить будем недолго. В город надо возвращаться.
– Вам здесь спокойнее будет, – дипломатично ответил ей Евстигнеевич, – опять же, питание. Какое в городе снабжение окажется – неизвестно.
– Какое бы не оказалось, а вернемся в город, – твердо отчеканила Ольга.
– А зачем? – поднял брови Брянцев. – Институт, несомненно, закрыт.
– А здесь оставаться зачем? Смотреть, как трава растет? Да? Насмотрелся, голубчик! Хватит!
Горячность и решительность Ольгунки радовала Брянцева, но чем – он и сам понять не мог. Привычная, повседневная Ольга, та, которую он знал до мелочей, до каждого движения губ, бровей, оттенка голоса, Ольга, с которой было прожито девять тусклых, не отличимых один от другого лет, уходила куда-то в прошлое, расплывалась, растворялась и меркла в нем. А вместо нее всё яснее и отчетливее проступал другой облик, иной, еще неведомый ему и непонятный.
«Сводные картинки такие были, всплыло в его памяти воспоминание детства, на бумажке тускло, неясно, а когда намочишь и сдернешь бумажку – заблестит. Так и она теперь. Тоже бумажку сбрасывает».
– Дело, конечно, ваше, – политично рассуждал Евстигнеевич, – в город ли вертаться или здесь оставаться, а только, по моему соображению, вам здесь даже антиреснее будет в общем смысле. Смотрите, дела-то как поворачиваются! Хотя бы Андрея Ивановича взять.
– Что ж в нем особенного? – повел плечом Брянцев. – Обыкновенный дезертир. Мало ли таких.
– Вот и не так рассуждаете, – хитровато посмотрел сбоку на него Евстигнеевич и тотчас же спрятал свои медвежьи глазки под брови, – обыкновенный дезик от своего дому подальше оказаться старается. Бежит от него, чтоб на след не навести. Как лиса. Только бы самому сохраниться. А этот под собственный дом закопался. На какой предмет, спрашивается? Как вы об этом располагаете?
– Чтобы борщ хлебать, какой ему жена наварит, только и всего.
– Он этого борщу вдосталь уже нахлебался. В другом тут дело. Он свой дом старается не упустить. Каждому свое мило. Времени он своего дожидался. Опять же, профорг.
– Думаешь, он в него и стрелял? – осенила Брянцева внезапно пришедшая гипотеза.
– Всенепременно. Кому другому быть? Промеж них издавняя злоба была. Пришло время – подвел ей счет.
– Верно! – блеснула глазами Ольгунка. – Погоди, не то еще будет. Это только первая ласточка, зарница грядущей грозы. Погоди, погоди.
– Ты и сама словно сводить счеты собираешься.
– А почему бы и нет? – вскинула голову Ольга. – Думаешь, у меня должников таких нет? А кто мою молодость съел? Кто? Была она у меня? Детство было? Все сожрали, сволочи! – звонко выкликала она, блестя глазами. Ее как лихорадка била.
«Одержимая, подумал Брянцев, никогда еще ее такой не видал».
– В город! В город! – хваталась Ольга то за один, то за другой мешок. – Сама всё поволоку. А то и здесь брошу.
– Зачем нужные вещи бросать? Всякое барахло пригодится. – А мы вам его донесем.
Раскрасневшийся от быстрой ходьбы, блестящий потом и широко раскинувший в улыбку свой рот с мелкими, крепкими зубами, Мишка стоял перед шалашом. От конторы подходил, вытирая лоб платком, Броницын.
– Мы за вами, Всеволод Сергеевич!
– За мной?
– В город вам перебираться надо. В самом срочном порядке! Вот, читайте! – протянул студент Брянцеву не вложенное в конверт отношение бургомистра. – И вот еще записка от Шершукова.
– Дай! – выхватила у Брянцева обе бумажки Ольгунка, быстро пробежала их и протянула ему. – По-моему, по-моему выходит! К черту растущую траву! – рванула она куст ни в чем не повинного чистотела. – Молодцы, ребята, – махнула студентам выпачканной в его желтый сок рукой. – Сейчас оладьи вам за это напеку!
– Кто такой Красницкий? Почему Шершуков пишет? И кто он сам, собственно говоря? Почему он меня знает? – допрашивал Мишку Брянцев, прочтя оба письма.
– Красницкий – бургомистр города, новая власть, а Шершуков теперь директор типографии, старое начальство всё разбежалось, он выдвинут. Ну, а знает, вероятно, вас по вашим статьям в газете или по общественным докладам. Да кто вас в городе не знает! – и Мишка стал сбивчиво, торопливо выкладывать все городские новости.
– Вам, только вам и быть редактором свободной газеты, беспартийной, нашей русской, понимаете, русской газеты, – наскакивал он на Брянцева.
– Так, не обдумав, нельзя, – уклончиво отвечал тот, хотя было видно, что предложение бургомистра и Шершукова его взволновало.
– Вам, только вам! – страстно вторил Мишке Броницын. – Ведь вы старого императорского университета старый интеллигент. И ваши статьи всегда…
– Тебе! – кричала сквозь шипение примуса Ольга.
– Постойте, постойте. Тут много еще недоговоренного: немцы, их цензура, их пропаганда…
– Немцы – немцами, а мы сами собой, – уверенно выпалил Мишка.
– Пацанок еще, а сказал правильно. Лучше и не надо. Немцы немцами, а мы сами собой, – послышалось со стороны кустов.
Все обернулись. Между разросшимися по рубежу сада кустами серебристой полыни и густо-зеленого чернобыла стоял кривой и посмеивался, морща паутину шрамов вокруг выбитого глаза. За его плечом виднелось руно спутанной, непомерно длинной сивой бороды, а над ней опаленное солнцем до черноты буграстое, безволосое темя.
– Ты, дружок, откудова взялся? – с нарочитой слащавостью в голосе спросил Евстигнеевич. – Как кот подобрался. Не слыхатьне видать, а он тут.
– Что же удивительного? За семейством в город сходил, а теперь с ним вертаюсь. В тенечке передохнуть присели. Супружница наша при вещах тамочко находится, – мотнул головой кривой за кусты полыни, – а я вас послухать по-интересовался.
– А это при тебе кто? – указал Евстигнеевич на бородатого. – Отец твой, что ли?
– Отец, да не мой. Всеобщим отцом допреж был – попом. Теперь же просто человек Божий. Ума решился. Христа ради его при себе блюдем.
– Так, так… – неопределенно промуслил Евстигнеич. – С Татарки, ты говоришь? Ближний? Я там кой-кого знавал. А тебя вот никак не припомню. Чудно.
– Что ж чудного, я там не природный, а вроде как приблудился. Проживал всё же немалое время и приятельство имею. Вот и теперь к дружкам прибиваюсь.








