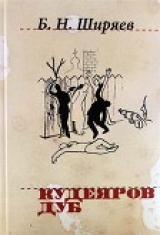
Текст книги "Кудеяров дуб"
Автор книги: Борис Ширяев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
– Прикладом солдат ее зашиб. Много ли старухе надо. Может, он и сам того не желал, – душился словами Вьюга, словно у него в сжатых зубах застревали. – Хотел я его тогда тоже пулькой срезать. Ух, как хотел! Да из-за него вот обнаружиться побоялся, – махнул Вьюга подбородком на старика. – Оба вместях в кустах укрывались.
– Аким Акимыча перед правлением вешали, – тихо и, казалось, бесстрастно припоминала вслух Арина, – веревка два раза оборвалась. Гнилая была, а он грузный. Тогда застрелили.
– И им значит не под силу была его тяга.
Дон-дон-тилидон,
Развалился Божий дом,
Развалился Божий дом,
А тюрьма стоит с крестом.
Барыня, барыня,
Креста нету у меня.
Я с тюрьмы его возьму,
Крест Господень да суму,
– раздалось опять из угла.
– Предрекает чтой-то. Только не понять, – закрестилась Арина.
– Болтает по глупости, – ответил Вьюга, – а может и в самом деле провидит. Всё может быть. Ты говоришь, вот, за его спасение мне: много греха простится. Нет. Не так это. Кому такой нужен? Пришибли бы его – какая от того убыль? Всё равно, что муху. Нет, Арина, – сел перед женой на ящик Вьюга, – нет в этом моей заслуги, а если б я тогда, в тот час не убоялся бы, засел бы в кустах да оттуда бы хоть с десяток советских солдатишек анафемских перешлепал да своей жизни, зато после решился. Вот тогда поубавил бы я злобы людской, народу бы послужил и Господу. Тогда, может, и впрямь грехи свои, слезы из-за меня пролитые, искупил бы. Людям бы, людям бы русским, народу бы послужил – вот что! – выкрикнул, вскочив с ящика Вьюга.
В углу опять зажурчала песня-сказ:
Господи Спасе Иисусе Христе,
Помяни мя в Своей простоте!
Вшивого не суди,
Смрадного в рай пусти,
В голоде, в крови, в наготе
Посети меня Спасе Иисусе Христе…
– Мудрено всё, что говоришь, Ваня, – моему бабьему умишке не осилить ни твоих слов, ни вот его речений, – кивнула Арина головой на снова примолкшего отца Ивана. – Только знаю я: оба вы божьим духом томимы. От Него пути ваши. Им указаны.
– Он-то верно, поп, около божественного всю жизнь провел. У него, скажем, от Бога. А я кто? Конокрад, разбойник, убивец. Далеко от меня Бог живет. Дьявол поближе. Навряд Господом мне путь указан.
– Господом! – вырвалось из сердца бабы. – Через него, – указала она на осененный лампадным сиянием образ. – Через него, Помощника Скорого, заблудших спасителя.
– Разве что… через него по Осиповым праведным молитвам. Это возможно. А с пути своего не сойду. Теперь на большое дело идучи, буду с собой его брать, – указал Вьюга на образ, – чтоб ближе был, на груди, под рубахой.
В дверь с улицы сильно и часто застучали.
– Кто бы это мог быть? – напружинился Вьюга, выхватил из-под подушки пистолет. Стук слышался всё сильней и тревожней.
Ангелы летят, гремят, слышу,
Принять летят к себе Гришу,
Летите, бегите! Ко Христу спешите.
Гришу, Гришу, Гришу
С собой прихватите!
– отец Иван сорвался со своего места и топтался по комнате в необычайном возбуждении. Он махал руками, как крыльями, беспрерывно повторяя:
– Летите! Бегите! Спешите!
Вьюга с пистолетом в руке пошел к двери, отпер замок, и она тотчас же сама растворилась под напором ввалившегося в комнату запыхавшегося Миши.
– Гришу Броницына сейчас убили, – только и смог выговорить он.
ГЛАВА 23
– Ну, что ж, начнем по «Ревизору»: Господа, я собрал вас сюда… – шутливо начал Брянцев, когда пришедшие к нему все вместе – Котов, Вольский и Змий-Крымкин разместились вокруг стола.
– Вот в чем дело: Шольте отправляет меня в командировку-турнэ с докладами в Краснодар, Новороссийск и Керчь. Вернее, наоборот, начать он хочет с Керчи. Сколько времени займет эта поездка, он и сам не знает, при всей его немецкой пунктуальности. Может быть, в шесть дней обернемся, а может, и недели на две застрянем.
– Вы говорите во множественном числе, значит с вами еще кто-то поедет? – спросил Вольский.
– Шольте назначил мне тему «Россия и Германия» – содружество и взаимная связь молодых наций в историческом разрезе. Но он хочет добавить еще и современности. Поэтому требует второго докладчика, обязательно молодого, попроще, демократического, так сказать. Его тема «Политические настроения русской молодежи».
– Подыскать такого, пожалуй, будет трудновато, – скривил губы Змий. – Молодежь-то наша, знаете, немножко не того: доклады умеет только по конспектам агитпропа делать.
– Подыскал уже. Нашего корректора Вакуленко. Я его по институту знаю. Хорошим студентом был. И здесь, если не сробеет перед большой аудиторией, не растеряется, то может сказать интересно.
– Тезисы докладов составлены, конечно, самим Шольте? – саркастически ухмыльнулся Змий.
– Я сам этого ждал, – умышленно не замечая «змеиного» яда, ответил Брянцев, – но, представьте, ни звука: полная свобода и мне и Вакуленко.
– Тонкий и верный расчет, – в том же тоне продолжал Змий, – не будете же вы рыть яму самому себе. В уме доктору Шольте нельзя отказать.
– И во многом другом. Например, в добром отношении к людям вообще и к русским в частности, – с ноткой раздражения в голосе ответил Брянцев.
– А всё-таки он нацист, мейнкампфовец, – выкрикнула из кухни Ольгунка.
– Не суйся!
– Сунусь, да еще не одна, а с чайником и перманентными оладьями, как ты их называешь!
– Это разрешаю, но молчком. Заменит меня, конечно, Михаил Матвеевич, – поклонился одной головой в сторону Котова Брянцев, – а его работу поделите вы между собой, господа. Как – ваше дело. Но свою тоже придется вести. Вас заменить уже некем. Все вместе вы – редколлегия и больше никого в нее не привлекайте. Без демократии. Вероятно, попытаются влезть обе Зерцаловы. Обеих гоните, особенно Женю. С ней не стесняйтесь. Тоже и с Пошел-Воном.
– В этом можете быть уверены, – с неожиданным от него блеском в глазах заверил Котов. – С Женей я справлюсь сам, а против атак Пошел-Вона мною заготовлена вполне радикальная контратака.
– Какая именно, если не секрет?
– Дуся и ведро помоев, – снова впав в свое бесстрастие, не сказал, а доложил Котов.
Все, даже вошедшая с чайником и стаканами Ольга, рассмеялись.
– Однако и в вас порою закипает страсть. Не ожидал, и интересно, что возбуждает ее Женя, – повернулся к Котову Вольский.
– Но в обратном направлении, чем бывает в романах, – отпарировал Котов.
– Михаил Матвеевич, теперь я в вас влюблена, – поставила перед ним стакан Ольга, – самый большой кусок лимона вам положу!
– Бесполезно, Ольга Алексеевна, – продолжал подшучивать Вольский, – это только мгновенная локальная вспышка, а дальнейшему развитию романа и лимон не поможет. Бесполезно!
– Но зато и, безопасно, – принял его тон Котов. – А мне польза, – поднес он стакан под тоненький ломтик лимона, редкостный теперь деликатес.
– Фронт под Новороссийском или советы оттеснены к югу? В чьих руках Сочи? По сводкам это неясно, – обратился к Брянцеву Вольский.
– Вполне понятно, – ответил Брянцев, – с юга советы под самым городом и даже в нем. Сколько-то матросов-черноморцев засело в шахтах цементного завода, и немцы ничего с ними не могут поделать. Сходное положение и под Керчью. Там тоже какой-то отряд не успевших эвакуироваться черноморцев оперирует чуть ли не на самой горе Митридата.
– А молодцы всё-таки наши матросы, – порывисто воскликнула Ольга. – Враги они мне, ненавижу и вместе с тем восхищаюсь. Русские ведь, свои…
– Для вас, Ольга Алексеевна, ясна черта, разграничивающая русское от советского? – серьезно спросил Вольский. Было видно, как самого его волновал этот вопрос.
– Конечно, ясна, совершенно ясна, – быстро ответила Ольгунка, но вдруг смешалась и растерянно обвела всех глазами, – или нет.
– Не ясна. Вот все время совершенно ясно было, а сейчас, как представила себе эту горсточку матросов, засевших в каменоломнях, окруженных, обреченных, но не сдающихся. Ведь это тоже севастопольцы, нахимовские моряки, ихняя плоть и кровь! Тут все слилось – исчезла грань. Смылась. Растаяла… – все тише и вместе с тем глубже вытаскивала откуда-то изнутри нужные слова Ольга.
Брянцев, засунув руки в карманы, перекачивался с носков на каблук. Он внимательно смотрел, как менялось выражение лица жены.
– Итак, уважаемая моя супруга, пламенная русская националистка и патриотка, бескомпромиссный враг советов и всего советского, и вы соизволили признаться в утрате этой разграничительной черты?
Брянцев вынул руки из карманов и уперся ими в бока.
– А от других вы продолжаете требовать точного ее знания? Хотя бы от Жени Зерцаловой, у которой в голове действительно все смешалось? Так соизвольте же понять, что двадцать пять лет существования советского режима – не шутка, не только случайный, мерзкий эпизод в русской истории, как вы думаете, а сдвиг, большой глубокий сдвиг в психике русского человека.
– Нет, нет, нет! – замахала руками Ольгунка. – Это в тебе опять интеллигентская рефлексия голос свой подает.
– Не рефлексия, а начальная арифметика. Тебе за сорок.
– Сорок два!
– Ты вступила в советскую жизнь вполне сформированным человеком, законченной личностью и все же? А те, кому сейчас двадцать, двадцать пять, тридцать лет, кто в октябре пешком под стол ходил, тем как найти это разграничение, а?
– Я только вот сейчас. Случайно его потеряла, – оправдывалась Ольга, – но я найду, найду, – притопнула она ногой. – Подумаю, загляну к себе в душу и найду.
– Трудно вам это будет. – Тихо вымолвил Вольский, – а нам, нашему поколению еще труднее.
– Нет, – покачала головой Ольга, – нетрудно. Эта разграничительная черта сама скажется.
– Как? Где? Когда?
– Когда сами мы, мы сами, мы – русские, вступим в борьбу с советами. До сих пор ведь воюют одни немцы, а мы так – сбоку припеку, туда-сюда.
– И в целом никуда. Смею заверить, так и останется, пока Россия не вступит в климат демократической свободы. Надежд же на установление такого климата немцами абсолютно никаких, – вмешался в разговор Змий. – Сменим советы на немцев – и только.
– К черту вашу демократическую панацею, Василий Иванович, – прервал Змия Брянцев, – я-то ведь помню февральский хаос, шок, паралич всех сил и органов нации, кроме одного только языка. Хватит с нас! Если так, то избираю немецкий сапог, он, по крайней мере, крепкий, надежный, а не советский с дырявой подошвой и тем более не на расползающемся демократическом картоне!
– Ну, это как сказать, – крутил свою бородку Змий, – конечно, дело вкуса. А о вкусах, как известно, не спорят.
Три месяца назад, когда редакционный коллектив формировался и начинал работу, политических расхождений во взглядах сотрудников не чувствовалось. Всеми владел один и тот же порыв протеста против советчины. Не было разнобоя и в отношениях к немцам: все присматривались к ним, прищупывались и, кто робко, кто смелее, пытались оспаривать некоторые, явно нелепые тенденции розенберговской пропаганды. Но в дальнейшем, когда каждый из сотрудников достаточно твердо и ясно определил свое отношение к оккупации, наметил линию своего политического поведения, сказалась и разница политических взглядов на современное и будущее России.
Брянцев, рожденный и проведший молодость в черноземной полосе России, в традициях близости к крестьянству, к земле, к порождаемой ею стихийной силе, видел возможность возрождения России только в соках этой земли и добытчика их – свободного крепкого крестьянина, которого выращивали Столыпин и последний император. Строй крестьянской монархии мерцал ему неопределенно, но манящим светом. В нем он видел будущее, чисто русское, самобытное, отысканное и построенное без займов у Европы. Немецкое иго и запроектированное Розенбергом расчленение России его не пугали. Он слишком сильно верил в органическое единство народов Российской семьи, в возглавляемую Великороссией единую, общую их культуру, как в цемент этого единства. А временное засилье немцев? Конечно, только временным оно и может быть. Не по плечу сосну рубят. Не раз такие попытки бывали в русском прошлом и всегда с одним и тем же результатом. Пока же, кроме немцев, нет силы, которая смогла бы сломить советчину.
Ярым его противником был Змий-Крымкин. Провинциальный интеллигент, с раздраженным, неудовлетворенным самолюбием, он всегда, всю жизнь чувствовал себя чем-нибудь ущемленным. Его психический аппетит всегда превышал возможность удовлетворения его извне. Он это чувствовал и всегда, во всем искал обходных путей. Когда не находил их, что случалось нередко, страдал от своей ущемленности и вместе с тем любовался ею, видел в ней подтверждение своего личного превосходства над серым середняком. Панацеей от всех болезней России считал только демократическую республику, но и здесь был тоже теперь ущемлен: на развитие демократии в послевоенной России Гитлер не давал никаких надежд. Поэтому Змий остро ненавидел немцев и злобно шипел на них при каждом удобном случае, конечно, не в печати.
Вольский признавался откровенно, что у него совсем нет политических идеалов. Прежние, комсомольские, рухнули. Новые еще не выработались. Единственное, чего он хотел для освобожденной России, это установления в ней твердой власти.
– Пусть монархия, пусть даже военная диктатура, – говорил он, – но без поножовщины, без братоубийства, без грабежа. Скорее к мирной обывательщине, потому что все устали.
На почве этих разногласий нередко возникали споры о направлении газеты. Спорили главным образом Брянцев и Крымкин при непременных страстных репликах Жени. Котов при этих спорах хранил полное молчание. Политическая направленность газеты занимала его гораздо меньше, чем возможность выпуска толстого беллетристического журнала. А с ним не ладилось: материала было в избытке и вместе с тем … его не было. В редакционном портфеле этого журнала, бережно хранимом Котовым в его столе, лежали три тетради лирических стихов Елены Николаевны, автобиографическая повесть самого Котова, развернутая на фоне его пребывания в ссылках и тюрьмах НКВД, ворох такого же рода воспоминаний меньшего объема и сниженного литературного уровня. Больше ничего.
– Это вполне естественно, – говорил Брянцев, – когда человеку больно, нестерпимо больно, он может только кричать и только о своей боли. Только. Но заполнять этим криком двести страниц журнала, им одним, конечно, нельзя. Будем ждать.
ГЛАВА 24
Брянцев и Миша выехали в Керчь ранним утром на легком военном автомобиле в компании какого-то незнакомого штабного зондер-фюрера. Они заняли заднее сидение, он поместился рядом с шофером.
– Говорят, у немцев переднее место почетнее считается, а по мне заднее лучше, – вытянулся, откинувшись на мягкую спинку Миша. – Здесь есть куда ноги протянуть, а там сиди, как сморчок! К тому же и говорить нам с вами здесь удобнее. Смотрите, в степу весь покровский снег сошел, под зябь пашут и много! Один, два… шесть. Шесть пахарей вижу и все поодиночке. Значит каждый для себя.
– Фельдмаршал фон-Клейст разрешил свободный выход из колхозов с наделением выходящих землей и правом пользования инвентарем МТС, – ответил Брянцев.
– Так и надо. Эти, которые для себя засеют, грудью за немцев встанут, за свое добро!
– Да, инстинкт собственности глубоко в людях сидит, – не в ответ Мишке, но просто вслух высказал свою мысль Брянцев, – пожалуй, так же глубоко, кик инстинкт продолжения рода.
– А, по-моему, никакой биологии здесь не требуется, – сморкнулся за борт машины Мишка, – инстинктов, рефлексов этих. Просто жрать люди хотят – и все тут!
Автомобиль мягко катился по ровной, накатанной, прохваченной заморозком дороге. Просекли расступившуюся команду ремонтных рабочих – молодых девок-колхозниц вперемешку с пожилыми немцами, заштемпелеванными буквами ТОД.
Мишка присвистнул.
– Тю-ю-ю! Вот оно, почему мы скорость почти в сто километров развили – я всё вон на тот циферблат смотрю – дорога-то ремонтируется! Ну, немцы!
– Стратегическая, Миша, не забывайте этого.
– И черт с ней, что стратегическая! Все равно нам останется. А дорожка на все сто!
– Кому это нам?
– Как – кому? – удивился вопросу Брянцева Мишка. – Нам – русским, конечно, народу.
– Значит, по-вашему, немцы освободят нас от коммунистов, а потом, уложив на этом деле миллиончика два своих солдат, домой уйдут?
– За ихние потери платить, конечно, придется, – уверенно проговорил Мишка, – и надо платить. Чтоб по чести, деньгами или чем другим. А уходить им тоже придется. Не уйдут, так попрем.
– Кто попрет? – не скрываясь, смеялся Брянцев.
– Мы, народ. И смеяться тут совсем нечему, – обиделся Мишка.
– Для этого, прежде всего, организация нужна, Миша, – подавил смех Брянцев. – Для организации – ее мозг, руководящий центр, правительство, а для него – люди.
– В самую точку попали, Всеволод Сергеевич. Своя русская власть!
– А для нее – люди, способные оперировать этой властью. Вот их-то и нет, – развел руками Брянцев. – Слушайте, что мне недавно Шольте рассказывал: в начале наступления, захватывая чуть ли не сотнями в день города и районные центры, немцы стали там учреждать местное русское самоуправление.
– Ну, как и у нас: коммунистов в бургомистры сажать! Не так это, не так надо, – сдвинув кепку на лоб, почесал затылок Мишка, – не то, не то.
– Они тогда несколько по-иному действовали, – продолжал, не отвечая ему, Брянцев, – предлагали самому населению выставлять кандидатов на руководящие должности. В ответ – полное молчание. Немцы стали тогда назначать надежных, по их мнению, подходящих, уважаемых людей: профессоров, бывших земских работников, известных населению местных интеллигентов из беспартийных. Вышло совсем плохо. Эти интеллигенты оказывались абсолютно неспособными к живой административной работе, боялись ее, боялись предоставленной им власти или попросту проворовывались. Немцам пришлось волей-неволей продвигать на руководящую работу коммунистов. Людей нет, Мишенька, людей нет! – вздохнул Брянцев.
– Да что вы, Всеволод Сергеевич, сами, словно партийный, рассуждаете! – накинулся на него Мишка. – Будто в России, кроме коммунистов, и людей не осталось! Не нашли – значит, плохо искали. Не там искали.
Машина замедлила ход. Зондерфюрер обернулся и спросил, указывая на работавших вблизи видимой уже станицы людей:
– Это, очевидно, крестьяне-индивидуалы? Я – агроном и меня очень интересует этот вопрос. Откуда у них инвентарь и лошади?
– Командование разрешило этим индивидуалам пользоваться сельскохо-зяйственными орудиями машинно-тракторных станций, а откуда лошади – я сам не знаю. В колхозах их почти не оставалось.
– Позовите, пожалуйста, этого крестьянина и спросите, – попросил немец.
– Эй, дядя! Дедок! – замахал ближнему пахарю рукой Брянцев. – Пойди к нам на минутку.
Пахарь приостановился, посмотрел из-под руки на машину и, торопливо замотал на рычаг плуга вожжи, по-стариковски, в раскорячку побрел к автомобилю, цепляя за комья взмета тяжелыми, облепленными талой землей военными ботинками.
– Себе, дедок, пашешь или на колхоз? – стараясь быть, возможно, веселее и ласковее, спросил Брянцев.
Но старик продолжал понуро, подозрительно смотреть на него. С ответом медлил.
– Ты, дедок, чего такого не думай, – пришел на помощь Брянцеву Мишка, – мы никакое не начальство. Так, из городу по своему делу едем. К немцам, вот, пристебнулись, – подоврал он, – размолу продажного нет? Яичек тоже? Маслица?
– В станице поспрошайте, может, и найдете, – все еще осторожно, точно с опаской ответил пахарь. Потом обмахнул Мишку наметанным глазом и сам спросил: – Якой станицы?
– Полтавской, – с полной готовностью ответил тот, – ну, а живу, где Бог даст, як уси теперь.
– Хороша была станица, богата, – отмяк дед. – Себе, сынок, роду своему пашу. Сын-то у меня в армии.
– Коников где промыслил?
– Коников? Гнедой по жребию с колхоза пришелся.
– А серый? – не унимался Мишка.
– Ладный конек… Большая была станица Полтавская, – потряс головой дед. – Серого Бог послал.
– Приблудился, – успокоительно уточнил Мишка. – Много теперь приблудных. Коровы тоже, – хитрил он.
– У меня такая думка: райисполкомовский он. На весь перед хромал. Заковали неуки, – болтал уже совершенно откровенно дед. – Заковали, потому и бросили. На левую и досель припадает. Ковали тоже называются…
– С кониками у тебя подходяще вышло. Ну, а кому жребий не перепал, те как?
– А вот как, – указал дед рукой на женщину и девочку-подростка, ковырявших землю вилами и лопатой, – вон как управляются.
– Немного таким манером наробишь!
– Много-немного, а вот уж вторую десятину поднимают. Не вру. Первую-то на моих глазах осенью засеяли. Теперь другую подымают. Потому, – свое. Для себя. Вот как! Не вру.
Мишка толкнул локтем в бок Брянцева: видите, мол?
– Так в станице, говоришь, может чего найдем? – довирал для порядка Мишка. – Ну, храни Господь, дедок! Поехали! – щелкнул он по воротнику шофера.
– Ечкина, Ечкина там спросите! В три окна дом на площади! – кричал, стараясь пересилить зафыркавший мотор, совсем подобревший дед. – Ечкина Семена! У него есть!
В станице, куда въехала машина, была расквартирована какая-то крупная военная часть. Солдаты в фельдграу сновали везде. Их было много больше, чем жителей. Автомобиль остановился у штаба на большой, пустынной площади, казавшейся особенно унылой от зиявших темными глазницами окон полуразобранного собора и окружавших его мертвенно-безлистных тополей.
– Здесь мы сделаем короткую остановку, – сказал, выпрыгнув на землю, немецкий офицер. – Я постараюсь достать чего-нибудь горячего на обед.
– Ну, а мы пока ноги разомнем. Искать Ечкина, конечно, не будем, на черта он нам сдался, – выскочил за ним и Мишка. – Богатая, видно, станица была, – обвел он глазами площадь, – смотрите, какие строения! А народу нет.
– По произведенной немцами выборочной переписи коренных казаков в станицах осталось лишь около десяти процентов, – ответил тоже сошедший на землю Брянцев.
– Вот это чесанули Кубань! Какое теперь может быть возрождение казачества?
Словно в ответ на эти слова Мишки из дверей штаба вышел совсем еще молодой красивый казак в новой, сшитой из немецкого сукна черкеске. Его тонкая талия была туго перехвачена наборным ремнем, отчего грудь и бедра казались чрезмерно выпуклыми. На пояске красовался большой кинжал в серебряных ножнах, а из-под газырей торчали остроконечные русские пули. Черного курпея кубанка была плотно надвинута на самые брови, отчего лицо казака казалось тоже чрезмерно нежным, даже женственным.
Казак подошел к Мишке и дружески улыбнулся ему:
– Не признаешь меня, Вакуленко? А я тебя зараз признала.
Мишка даже попятился от удивления.
– Олейникова я. С биологического. В один год с тобой в институт поступали. Признал теперь?
– Вот это так! Ты что ж теперь, в казака переформировалась?
– Сам, что ль, не видишь? – выпрямилась лихо, вскинув голову, девушка в черкеске. – Чем я от казака хужее? Меня с института на курсы связи направили, а я не схотела советской власти служить, утекла к дядьке в Крымскую. У его и отсиделась до немцев, а как немцы пришли – зараз в сотню самоохраны вступила.
– А справу где раздобыла?
– С разных мест. Черкеску немцы пошили, поясок старик один, офицер, пожертвовал, а кинжал свой, дедовский еще. Может и от прадеда. На базу был закопан. Азиатский. Видишь? Клеймотамга, – вытянула наполовину не блесткий, бурый клинок со вчеканенной в него завитой мудреным узором надписью девушка. – Немец мне за него триста марок давал. И теперь купить набивается.
– Ты что ж здесь, при штабе или как?
– Нет, я с нашими в сотне. А сюда только вызвана. Всё генералам меня немецким показывают, – с притворной досадой продолжала девушка, – фотографии с меня сотни две сняли и к ордену теперь представляют, – совсем уже хвастливо добавила она.
– Ну, значит быть тебе генералом. Ты, Олейникова, меньше чем на атаманском звании не мирись! За какой же подвиг тебе орден выходит?
– Под Сухумом восстание было против советской власти. Однако, подавили его. Теперь повстанцы и просто дезики оттуда на нашу сторону тикают. В обход перевала малыми тропками ловчатся, лесами. Так наша сотня для облегчения им за Зеленчук выдвинута.
– В тыл советам? – вступил в разговор Брянцев.
– Там ни фронта, ни тыла нет. Зеленчук-то знаете? Глушь, лес, горы, буераки.
– Обед нам готов! Поторопимся! – кричал с крыльца офицер.
– Ну, всего! – протянул девушке руку Мишка. – Давай пять. Пока! Генералом станешь, – не дашь!
После обеда, усевшись в машину, Мишка долго молчал, потом, отвечая каким-то своим мыслям, твердо сказал Брянцеву;
– Нет. Ошибаетесь вы, Всеволод Сергеевич! И кроме партийных есть у нас люди! Не там немцы их шукают.








