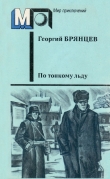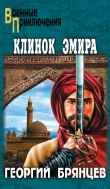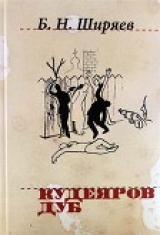
Текст книги "Кудеяров дуб"
Автор книги: Борис Ширяев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц)
Борис Ширяев
КУДЕЯРОВ ДУБ
Эта книга Бориса Ширяева не скоро будет издана в России. Очень многие посчитают его предателем Родины. Двойным предателем. Покинув Советский Союз вместе с отступавшими немецко-фашистскими войсками, Ширяев после окончания войны жил в Италии, где перешел в католическую веру.
Ну как же не двойной предатель! Это серьезные основания для того, чтобы не марать руки от соприкосновения с продуктами деятельности подобного человека. Особенно со стороны записных патриотов.
А, между тем, именно патриотический журнал «Наш современник» впервые ввел имя Ширяева в литературно-художественный оборот, опубликовав его «Неугасимую лампаду» в начале 90-х годов прошлого века. Произведение с восторгом было встречено критикой. Его даже поставили рядом с «Архипелагом ГУЛАГ» А. Солженицына. Более того, некоторые критики посчитали, что Солженицын зло обвинял сталинскую систему и не более того, а Ширяев пытался понять душу самых кровожадных представителей гулаговской системы, по-христиански жалел их. В «Неугасимой лампаде» автор вспоминает о том, как несколько лет провел в Соловецком лагере особого назначения. Этот лагерь положил начало архипелагу ГУЛАГ.
Вслед за журналом «Наш современник» Ширяева стали публиковать наши церковники, ибо автор немало писал о русских праведниках, о вере. Он был набожным человеком.
Последняя книга Бориса Ширяева «Дипи в Италии» вышла в начале 2000-х.
Издатели не знали подробностей биографии Бориса Ширяева. Именно этим можно объяснить публикацию некоторых его произведений. Со временем многое прояснилось. И этого писателя стали сторониться.
Почти все книги Ширяева автобиографичны. Единственная попытка написать произведение с вымышленным сюжетом и некоторыми персонажами – повесть «Кудеяров дуб». Но и здесь победил бытописатель. Но именно этим она и заинтересует современного российского читателя. Ибо период войны с немецко-фашистскими захватчиками у нас слишком идеологизирован. А именно об этом времени и пишет Ширяев с журналистской точностью не только к бытовым деталям, но и к духовной атмосфере той поры.
Хорошо всем нам известная по книгам, фильмам и учебникам истории война открывается с иного ракурса после прочтения «Кудеярова дуба».
О прошлой жизни главного героя повести, преподавателя русского языка и литературы Брянцева, в тексте говорится туманными намеками. Но поскольку герой списан с самого автора, мы вправе напомнить вехи жизни Бориса Ширяева. Родился в Москве, учился в Московском университете, со студенческой скамьи отправился на фронт добровольцем из патриотических побуждений. Был награжден, повышен в звании. Как это напоминает биографии ветеранов Великой Отечественной!
Первая мировая закончилась социалистическим переворотом в 1917-м. Возвратившись в Москву, он попал в другую страну, где на бывшего офицера власти смотрели с подозрением – потенциальный контрреволюционер. Может быть, он и врос в новую жизнь, если бы не эти сомнения в его благонадежности. Как-никак, из дворянского сословия. Ничего, что семья давно обеднела, не владела людьми и землями, жила плодами рук своих и головы. Классовый враг и точка!
Не найдя себя в новой жизни, Ширяев отправляется на юг страны, где формируется добровольческая белая армия. Только за попытку перебраться на территорию, где нет большевиков, отставного офицера задерживают и приговаривают к расстрелу. Ему удается бежать, он возвращается в Москву, но скрывается недолго. Снова арест, Бутырка, суд и наказание: десять лет в Соловецком лагере особого назначения.
За примерное поведение Ширяева амнистировали через семь лагерных лет, но жить в Москве не разрешили, отправили на вольное поселение в Казахстан, Туркменистан, потом в Воронежскую область. Уже перед новой войной мы находим Бориса Ширяева в Карачаево-Черкесии и Ставрополе в качестве преподавателя педагогического института. Как он остался на свободе в 1937?!
И начинается еще одна война. И докатывается она до Ставрополя. Немцы оккупируют город в августе 1942.
С этого момента и начинается действие повести «Кудеяров дуб». Но если дальнейшее поведение главного героя повести преподавателя русского языка и литературы Брянцева в какой-то мере предсказуемо, то о других персонажах этого сказать однозначно нельзя. А их много списал с натуры Борис Ширяев в своем сочинении. Это и студенты его курса – комсомольцы; это рабочие пригородного совхоза, куда Брянцев устроился сторожем, спасаясь от голода; это городская интеллигенция, сотрудники городской газеты и рабочие типографии, пригласившие его возглавить новый независимый печатный орган. О том, как вели себя все эти люди в оккупированном городе, нам историки не рассказывали и никогда не расскажут. А это очень интересная история.
ПРОЛОГ
Керосин в Масловке кончился в первые же дни войны, да и до того велся не у многих. Кто дружил с трактористом, тот выпрашивал у него пузырек на коптилку или менял у рабочих МТС на яйца и масло, а большая часть изб без него обходилась. Время летнее – день долгий. Вернувшись с работ, повечерять наскоро в полутьме, а постлаться и лечь можно и в потемках. К осени стало хуже: наползут сумерки, завалит небо тучами – в избах полная тьма, а сон еще не идет, да и у баб дела много. Плохо. Скучно. Иной вечер не в моготу становится.
Вот и теперь, хоть и дождик кропит, Арина Васильевна сидит на завалинке под крытым еще покойным мужем крылечком. Тогда, в давно ушедшие годы, знаменито он его оборудовал, кружевною резьбою обшил поверху, расцветил охрой и суриком. Теперь от этих узоров и следа нет, а резное кружево лишь кое-где клоками догнивает. Да и сама крыша сгнила – вся протекает.
Вдовство горькое.
Большая мутная капля собралась под трухлявой тесиной, затяжелела и упала на щеку Арины. Вдова не смахнула ее. Капля покатилась по щеке, оставляя за собой блесткий следок, затекла в морщину у губы, в ней и осталась. Вот с этого крылечка, с этой вот треснувшей, обломавшейся уже ступеньки последний разок на него глянула Арина. Обернулся тогда он, тряхнул картузом, и поворотил за угол. Только всего и было при расставании.
Ступенька-то треснула и обломилась. Так и бабья жизнь тоже треснула тогда, тоже обломилась.
Осенний дождь зачастил, слился в одну серую, мутную пелену с наползшими сумерками. И соседской крыши видно не стало. Только слышно, как капли по лужам стегают.
Что уж там гадать-вспоминать! В избу пора. Скоро и ночь. Вдовья, одинокая, долгая ночь.
По блесткому следку дождевой капли другая покатилась – он или так это? Только померещилось? Тот, что на Шиловской горе, кривой?
Кривому ему и быть теперь надо. Головинские мужики ему тогда начисто глаз выбили, всем это известно и урядник Баулин говорил. Ногу тогда тоже перешибли. Ване, соколику.
Он ли? Откуда? Ведь столько годов вести о себе не давал.
Нет, не он. Все обличье другое. А вот как бровью повел, – будто он, Ваня мой ненаглядный, будто с того света сошел. Воротился.
Он! Он это, – стучит бабье сердце во вдовьей посохшей груди, – он! Помолоду оно трепыхается, жаворонком поет, а не серой кукушкой стонет.
Он! Ваня это!
Так трепыхнулось сердце, что Арина Васильевна даже за грудь схватилась. А нету ее, груди. Уплыли обе лебедки белые. Зачахли одни, без ласки милого. Иссохли.
Нет, не он это был на Шиловском спуске. Так, померещилось что-то.
Еще одна капля скатилась по блесткому проторенному следу. За ней еще.
Не он…
– Много лет вам здравствовать, Арина Васильевна!
Перед обветшалым крылечком, не вступая на него, стоял вынырнувший из пелены дождя такой же серый, как и она, человек. Снял шапку и поклонился чуть не в пояс.
– Мать Пречистая! Царица Небесная! Заступница! – прошептали Аринины губы.
– Не признаете? Оно, конечно, давно мы с вами не видались, Арина Васильевна. Да и темно к тому же, – говорит, словно с усмешкой вынырнувший из дождя человек. – Может, в избу зайти дозволите? Там, на свету, легче признаете и в старом знакомстве удостоверитесь.
– Ваня! Ванюша, светик! Вернулся! – Рванулась всем телом Арина Васильевна. Ей казалось, что на всю Масловку выкрикнула она эти слова, из самого сердца их вырвала, а на самом деле только прошелестела ими, как осина сухими листами. Один только их и услышал этот самый, вышедший из сумеречного марева, человек.
– Верное ваше слово. Подлинно это я, Ариша. А по прозвищу в прежние годы Вьюгой числился. Я самый это и есть.
– Ваня, темно в избе-то, керосину нет, – только и нашла, что ответить Арина Васильевна. Стоит она на крылечке и шагу ступить не может ни вперед, ни назад. Обняла бы, ух, обняла бы она этого серого, мутного человека, а руки не поднимаются. Повисли, как мокрые холсты. Сомлела.
Кривой ступил на крылечко и осмотрелся.
– Так, значит, – ответил он вслух каким-то своим мыслям, – значит, так…
Пощупал рукой сгнившую доску крыши. Она сдвинулась с места и осыпала его трухой.
– Значит, значит. Осиповы достижения все насмарку пошли? Как по пятилетним планам полагается? А первейшее крылечко он тогда соорудил. Плохо живете, – обратился кривой к Арине Васильевне. Не попрекнул и не пожалел, а только подтвердил и без того ясное. – Что ж мы с вами на дожде стоим? Ведите гостя в избу, коли он вам желателен. Насчет освещения не беспокойтесь, при себе его имеем. Плохо, плохо живете…
– Как все, Ванюша. Вся жисть такая, – тихо ответила Арина, словно повинилась в чем.
Войдя вслед за деревянно ступающей женщиной в темноту избы, кривой вынул из кармана плоскую немецкую свечку в розовой бумажке и чиркнул зажигалкой. Выправил примятый фитилек, зажег и обмахнул его желтыми бликами пустые стены избы, не покрытый скатертью стол и в углу широкую кровать с уцелевшей кое-где потемневшей пестрой окраской. На ней задержал блики, поиграл ими.
– На этой кровати он и помер?
– Где же еще? – глухо, почти сердито ответила Арина. – На ней, на самой.
– Про меня не поминал?
– Почитай каждый день о тебе словечко было. Книжки, что ты ему купил, все читал. Почитает, задумается и про тебя вспомнит. «Блудный он, – говорит, – а только ему этот блуд не к погибели. Вот иные святители тоже смолоду блудствовали, а потом озарились Господом и спаслись. На подвиг вступили. Так и он. Выведет его на путь Никола Чудотворец».
– Еще что говорил? – напряженно схватывая каждое слово Арины, допытывался кривой.
– Ну, как услыхал, что били тебя, пожалел, конечно. А потом говорит: «Это к славе». Он перед кончиной-то своей сам вроде блаженного стал. Туманно говорил, умственно и все улыбался.
– Так и должно ему было стать, – подтвердил свои мысли Вьюга, – к тому самому он подвигался.
Помолчал и снова спросил с присвистом, с хрипом:
– В смертный час меня помянул?
– Про меня и про тебя совместно. «Жди, – говорит, – вернется он к тебе, одна у вас путинка-дороженька. Верно, – говорит, – накрепко его жди, приведет его Никола Милостливый».
Кривой перекинул волну блеклого желтого света в угол, на скрытую там, в темноте икону Чудотворца, перекинул свечу в левую руку, перекрестился и поклонился.
– Царство Небесное рабу Божьему Осипу… А теперь давайте и мы с вами, Арина Васильевна, поздороваемся, как полагается, после долгой разлуки, – протянул он хозяйке руку.
Арина не взяла ее, а, раскинув свои, шатнулась к нему всем телом, словно сзади ее кто толкнул. Шатнулась и, не встретив желанной опоры, откачнулась назад. Кривой не шелохнулся. Так и стоял с протянутой рукой. Только бровь над выбитым глазом ходуном заходила.
Арина покорно вытерла ладонь о подол и, сжав палец к пальцу, дощечкой протянула ее Вьюге. Не того ждала. Не такая встреча во снах ей грезилась. Вьюгиных пальцев она не пожала, молча низко поклонилась и пошла к печке.
Кривой сел к столу, снова обвел глазом избу, усмехнулся чему-то и, согнав смех с лица, пошел за Ариной, у печки обнял ее сзади за склоненную спину и зашептал на ухо каким-то не своим, не обычным, а удивившим его самого голосом. Будто не он, а за него кто-то говорил.
– Ты, Ариша, на меня не гневайся, что не приветил я тебя, что не по-прежнему повстречались мы с тобой. Ты, Ариша, помысли сама, – кто мы с тобой были, и кто мы теперь есть. Хоть на мой лик взгляни, – повернул он женщину и, взяв ее за оба плеча, поставил перед собой, – вглядись в него поплотнее. Есть я теперь Вьюга? Ваня я теперь есть?
Ты не на глаз мой смотри, какой мне головинские мужики выбили, – продолжал он быстро и страстно, теперь уже своим настоящим хрипловатым голосом, – этому глазу давно панихида отпета и в поминание он у меня не записан, аминь ему! Амба! Ты на весь лик мой смотри. Что он собой есть? Труха он, Ариша, насквозь трухлявый, ровно вот как доски, какими Осип крылечко обуютил.
Труха! И крыльцо труха, и Масловка вся протрухлявила, и Рассея вся трухой позасыпана. Вот что! – выкрикнул кривой и добавил неожиданно тихим, опять чужим, не обычным своим, мягким голосом: – Какая ж промеж нас может быть теперь любовь, Арина Васильевна?
– Так зачем же пришел? Зачем воротился? – подняла упертые в пол глаза Арина. – Зачем душу мою развередил? Опять для своего только гонору, как тогда, чтобы, значит, удостовериться, как ты над бабьей мукой властвуешь? За этим?
Кривой выпустил плечи Арины и молча пошел к кровати. Стал перед ней спиной к женщине и уставил глаза в угол, где лежал скинутый Ариной мокрый от дождя бушлат. Смотрел туда долго. В тот же угол смотрела и Арина.
Вьюга медленно повернулся и еще медленнее повернул глаза на чуть заметный в темноте угла образ. Взял со стола немецкую свечку, поднял ее и умостил в пустую лампадку. Желтые блики стали разом розовыми и облекли ласковой теплотой выступивший из тьмы лик Чудотворца.
Арина взглянула на него и закрестилась. Перекрестился и Вьюга.
– Вот зачем, – сказал он глухо, – за этим за самым. На него взглянуть, – мотнул он головой к розовой ласке лампады, – ему поклониться, у него силы взять себе, как тогда Осип, когда меня, полюбовника твоего, от урядника скрывал на этой самой постели. К нему душу свою окаянную я нес от самого ледяного океана. Вот и принес, – усмехнулся кривой, подморгнув Арине своим единственным глазом, – принес душу свою и затеплил ее перед ним немецкою свечкой!
– И так бывает, Ваня, – неясно, по-матерински ласково усмехнулась в ответ Арина, – всякое случается по воле Господней. А что от масла, что от свечи – в лампаде-то свет один. Только бы теплилась она…
Вьюга порывисто шагнул к женщине и крепко обнял ее. Тряхнул головой и, коля небритой щетиной усов, прижал свои к ее губам.
– Ваня, Ванюша! – из груди, от самого донца ее, проворковала, простонала Арина. – Вот когда воротился ты… мой! Мой! Соколик мой! Вьюга моя сердешная! Мука моя…
И словно вырвавшаяся из земли сила снова растолкнула обоих. Кривой так же резко откинулся от Арины и, топнув каблуками, стал перед ней, как на выпляску. Голову задрал, разметал к вискам обе брови и кулаком в бок упер.
– Ваня! Ваня мой разудалый! Ты! Как есть ты! – только и смогла сказать Арина Васильевна, сведя на грудях отброшенные кривым руки.
– Ваня! – выкрикнул кривой. – Ванька я опять! Вьюга я опять!
Вот она жисть-то, Ариша! Обмела она труху, а под ней наново дубовина! Крепкая! Не уколупнешь ее! Вот как! На этой кровати постели мне сегодня, – повелительно сказал он замлевшей и засветившейся Арине, – в тот угол подушку клади, в тот самый, в который я, Вьюга, тогда, страха ради, лег. Из него, из этого угла теперь я, Вьюга, и восстану! Так? Поняла?
ГЛАВА 1
Спелое яблоко, падая, прошуршало по листве и звонко шлепнуло о землю. Сторожкие, нащупывающие шаги бредущего в темноте августовской ночи притихли.
– Что за человек? Отзовись!
Платон Евстигнеевич привстал с доски, прибитой на колышках у входа в шалаш, и всмотрелся в темень кленовой чащи, густо забившей окраину сада.
– Слыхом слыхать, а не видно. Отзовись, говорю! – прикрикнул он строже. – Видишь, сторожа не спят? Какие там могут быть шутки в ночное время?
– Черта он видит, – засмеялся Брянцев. – Это, наверное, Середа шляется. Комбайнер, ты? – крикнул он в темноту.
Осторожные, неуверенные шаги снова зашуршали уже вблизи самого шалаша и перед сторожами совхоза, садовым – Брянцевым и амбарным – Евстигнеевичем, явно выступила из ночи фигура шедшего от кустов.
– Что за человек? Откудова?
– С городу. В Татарку иду.
– Чего ж ночью? Какие могут быть по ночам хождения?
– А в городе, где заночуешь? С поезду я. Девять ден от Горловки ехал. Беда! Огоньком не одолжите? Курить смерть охота.
– Насчет огонька возможно. Он у нас не в кооперативе купленный, а собственного производства.
Платон Евстигнеевич пошарил во внешнем кармане бушлата, извлек оттуда железное кресало, потом полез в боковой внутренний карман и из него – свитый из пакли сухой жгут и кремень, завернутый в бумажку.
– Спичек мы не купуем. Своим обходимся, без электричества. Кресало грызнуло камень и выпустило из него пару желтеньких звездочек. Жгут затлел волчьим глазом. Платон Евстигнеевич покрутил им в темноте и протянул пришедшему.
– На, получай продукцию.
– Обожди маненько, – задержал его руку тот, – а может и самосаду чего найдется, а? У меня одна пыль в кармане. Уважь на цигарку.
– Э, ты, брат, вон какой жук! Дал веревочку – дай и бычка. Ну, отсыплю уж на тонкую, крути. Самосаду теперь и на базаре не укупишь. Тоже своего производства. Сам-то ты откудова?
Пришедший, нащупав в темноте щепоть с табаком и боясь обронить хоть крошку, свернул, прикурил от разрумянившегося волчьего глаза, с хрипом, глубоко затянулся и, выдохнув дым, ответил:
– Татарский я и есть, домой иду.
– А работал в Горловке?
– Ишачил там на земляных последнее время. А до того на Урале был. В Сибири тоже.
– Из летателей, значит, легкого рублика искателей? Так. Нет, он, рублик, везде свой вес содержит. Не легчает, сколько ни летай. А дома что будешь делать?
– Как-никак, дома. Время такое, что к своему месту прибиваться надо. Горловка-то уже забрана.
– Взята? – переспросил молчавший Брянцев. – При тебе или только одни слухи?
– Какие там слухи. С последним составом выскочил. На поезде болтали: он уж в Кущевке.
Брянцев тихо присвистнул. Евстигнеевич, словно о чем-то очень далеком, его совсем не касающемся и не интересующем, вымолвил:
– Все может быть, – а затем по-деловому осведомился: В поезде-то, наверное, теснота? На тормоза, на крыши лезут?
– Нет, такого не заметно. Стоять, конечно, всю дорогу стоял, а состав классный. С самой Горловки мало кто съехал, больше дальние, с Украины, и такие вот, вроде меня, какие к своим местам продвигаются. А горловским чего же от своих домов отбиваться?
– Партийные, конечно, уходят? Администрация, начальство? – спросил Брянцев.
– Кто как. Они больше на машинах или в своих составах зараньше эвакуируются. Войска тоже своим маршрутом идут, кому какой приказ. А народу что? На какого хрена переть, своего последнего лишаться? Народ, как был, так и есть на месте.
– Насилия, расстрелов не боятся?
– Это про какие радио сообщает? Нет, не опасаются. Больше на слух полагаются. А солдаты говорят: ничего этого нет, одна пропаганда. Немцы, как немцы, очень даже обыкновенные. Ну, понятно, армия, как ей надо быть, строгость, а больше ничего такого.
От конторы совхоза, окно которого желто поблескивало сквозь ветви яблонь, кто-то шел. Шаги звучали гулко и уверенно. Чертыхнулся, зацепившись за сук, подошел к самому шалашу и пригнулся, вглядываясь в сидящих.
– Ты, комбайнер? Чего с собрания смылся?
– Сторожа на месте, как им полагается, сидят да покуривают в своем штабе, а на флангах ребята яблоки обтрясают. Все в порядке. А третьим у вас кто? Не угадываю что-то.
– Это так, прохожий, – нехотя отозвался Евстигнеевич. – В Татарку идет, а к нам за огоньком завернул. Ну, докладывай, что есть в международном положении?
– Одна баба родила голого, то и нового. Окромя ничего.
– На собрании что объявляли?
– Прежнее: бдительность и трудовой энтузиазм. Чего тебе еще?
– Насчет войны ничего?
– А что тебе тут сказать могут? Ровно, как и мы, тот же самый патефон слушают.
– Ну, по партийной линии другие сообщения бывают, – возразил Брянцев.
– А что ж я сам не партийный, что ли? Везде один черт – правды не узнаешь. Политрук говорит, усилить бдительность, враг в сердце родины. А где сердце, сам дьявол не разберет. В сводке одни направления.
– Он вот говорит, – под Кущевкой.
– Очень даже просто. Раз под Ростовом сбил – вали до самого Сталинграда без пересадки. Ну, и нас правым флангом зацепит. Как в гражданскую. Одна стратегия.
– Так как же?
– А так, пойду сейчас спать. Пускай они там сами на собрании преют. Завтра посмотрю в окошко, какая власть будет.
– Пожалуй, что не угадаешь, – отозвался, раскуривая крупно крошенный, сыроватый самосад, прохожий. – Из окошка теперь власть не разглядишь.
– Не пойму, куда загибаешь? Положение определенное: прет немец без перебоев и припрет. Вот и все тут.
– А что он, немец, в себе содержит, тебе известно? Что он есть за власть, ты это знаешь?
– Ну, немец, фашист, капитал утверждает, собственность. Всем известно.
– Ничего не известно. Она и собственность разная бывает. Вот, примерно, по нашим местам, кто помнит, у барона Штейнгеля собственности двадцать тысяч десятин было, заводы разные, овец не счесть, а у казаков по десять десятин, ну, по пятнадцать. У иногородних и того меньше. Теперь рассуди, какую же собственность утверждать: Штейнгелеву, казачью или иногороднюю?
– Никакую. Немец по своему закону отмерит, и все тут, – веско отрубил комбайнер.
– А тебе от его закона что? Его закон, ему и полезный. А нам, русскому народу, что?
– Рассуждать не приходится.
– Это так, – подтвердил Евстигнеевич, – нас не спросят.
– А мы сами скажем. Черкани кресалом, хозяин, обратно загасла.
Газетная бумага цигарки вспыхнула желтым пламенем и на мгновение осветила заросший седой щетиной подбородок, рассеченную глубоким шрамом губу и круто клюющий ее загиб острого носа. Прохожий сплюнул и заговорил о другом.
– На новостройках теперь всякого народа много. Нужны люди, требуются. Паспортов теперь и не спрашивают. Даст человек какую-никакую справку, того и хватит. Ну, конечно, тем пользуются, что власть ослабела. Всякие теперь там люди. О кулаках и говорить не приходится – их полно, но есть и повыше, даже до архиерейского чина. Тоже случаются.
– И ты встречал? – ввернул вопрос Брянцев.
– Бывало. Не могу точно сказать, архиерей, али какого другого звания, только что видно высокого. От Писания во всем осведомлен, без книг все пророчества помнит и разъясняет. Даже и Апокалипсис-книгу.
– Ну и что ж он вам по Апокалипсису разъяснял? – еще с большим интересом спросил Брянцев.
– Разное. Про зверя там, про блудницу вавилонскую, про огонь с небес, про железную саранчу. Очень даже сходственно получается. Совсем подходящее на видимость.
Прохожий замолчал. От конторы доносились обрывки каких-то голосов. Там спорили.
– Это директор с главбухом за кассовую наличность соревнуются, – пояснил, прислушавшись, комбайнер. – Они еще утром качали: кому при себе ее держать. Ясно-понятно к чему вся эта петрушка. Ну их к дьяволам! Ты не про блудницу нам говори, этого добра у нас хватит, а что он про будущность разъяснял, вот что!
– Про будущность тоже. Говорил, положено России за всеобщие грехи страдать двадцать пять лет. Перестрадать гладом и мором, палиться огнем и иноплеменным нашествием, а после того восстать из пепелища. Для свершения этого надо всем по своим местам быть, на своих прирожденных положениях. Крестьянину или казаку, там, – на земле, в колхозе, значит, или в совхозе; купцу – при торговле; солдату – при своем полку. А как час настанет, – объявится Михаил, русского закона царь.
– Это какой же? Брат Николаев, что ли? – спросил комбайнер.
– Он.
– Хватил! В восемнадцатом году расстрелян.
– Значит, нет! Спасен милостью Божьей и скрывается до времени. Объявится и установит русскую власть.
– В земле скрывается, – рубил в ответ комбайнер, – на два метра вглубь, а может и боле. А с ним вместях и твоя русская Власть. Там же. В одном месте.
– Были такие люди, что сами его видели. Странствует он по чужому паспорту, по России кружит и верных себе выискивает, до конца перестрадавших высматривает, претерпевших. От верных людей слышал.
– Актив, значит, сколачивает. Правильно! Из себя каков же? Что тебе эти верные люди рассказывали? – упорно налегал комбайнер.
– Говорят, не старый еще человек. Лет не более в пятьдесят, ростом невысок.
– Вот и выходит – всё брехня. Я Михаила-то Александровича, может, раз двадцать видел, когда в гвардии служил в Петербурге. Он от меня старше. Значит, теперь ему много за шестьдесят перевалило и ростом высок. Тонкий только, худощавый, однако, очень отчетливый. Государь, тот попроще был, вроде маловат, мешковат, а Михаил, как свечка. Врут твои верные люди. Я-то знаю. Вся фамилия перебита. Вот тебе и русского закона царь! Нет, брат, два закона нам теперь предоставлены: немецкий или советский, всеобщий колхоз, так сказать. Других нету и быть не может.
– Так. Значит, выбор небольшой, – проскрипел, захватившись стариковским кашлем, Евстигнеевич, – вроде, как в нашем кооперативе.
– И выбора никакого нет, – рубил комбайнер, – тебя не спросят, чего ты желаешь. Кого сила – того и закон. Всё тут!
– Всё тут… – повторил Брянцев. – Прав ты, товарищ Середа. Тут – всё. Всё в силе. А чья сила крепче, по-твоему?
– Сам не видишь, что ли? Наши, что ль, под Берлин подошли или кто другой под Москву? В ту войну без патронов такого не было. С Карпатов ушли, а на Стыри стали. Так ведь, Стырь-то не Россия ещё, а так, пограничная зона.
– Дезики с фронта валом валят, – продолжал, ни к кому не обращаясь, прохожий, – и не укрываются даже. Ослабла власть. Почем зря ее армейцы лают. Никого не боятся.
– А кого им бояться? Я в ту войну сам в дезертирах побывал, еще до октябрьского поворота. Кого я боялся? Ровным счетом никого, – гудел Середа, – меня, нас все боялись. Так и теперь будет. Народ, он, брат…
Комбайнер не договорил. От конторы прикатился гулкий хлопок выстрела, а вслед за ним резанул темноту протяжный вой боли и испуга.
– О-о-о-о-о!
– Чтой-то такое? – вскочил Евстигнеевич.
– Не иначе как из обреза ахнул, – спокойно разъяснил Середа.
– По звуку всегда определить можно.
– Надо идти.
– Иди и ты, Евстигнеевич. Узнаешь, – скажешь, – подталкивал старика Брянцев. – А я здесь побуду.
Комбайнер, а за ним Евстигнеевич скрылись в темноте. Их силуэты на мгновение показались на фоне окна и снова пропали. Шаги стихли. Упало еще яблоко. В конторе снова завыл примолкший было голос.
– О-о-ой! Ровней берите! Легче, легче, под спину подхватывайте! – слышалось оттуда.
– Эй ты, прохожий, – обернулся к шалашу Брянцев. Но там уже никого не было. В кустах слышались удалявшиеся шаги. Кто-то лез напролом сквозь чащу кленов и бузины. – Эй, ты, татарский! – крикнул в темноту Брянцев. – Тикаешь?
– Свидимся еще. Когда время означится, – донеслось в ответ из темноты.