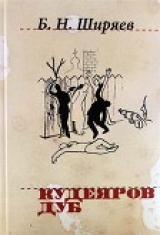
Текст книги "Кудеяров дуб"
Автор книги: Борис Ширяев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)
– Оттуда, тоже не табунком на базу, – на Деминский, к кладовщику, – добавил со своей стороны Вьюга, – ему – пополнение боевым снабжением.
– По городу можно и командой идти. Дам сопровождающего и пропуск для немецких патрулей. Их обвести кругом пальца – раз плюнуть, – презрительно процедил Степанов, – увидит печать со своим орлом – пожалуйста, все к вашим услугам! Из города же лучше выходить форштадтскими огородами. Там только один пост, сопровождающий укажет.
– Ну, расходись по одному, дорогие гости. Тоже через наш пролаз. Подходящую квартирку ты мне подыскал, пацанок, – ласково потрепал по шее Мишку, как лошадь по загривку, Вьюга, – а главное без ордера, самохватом. Плотникову значит не известно.
Выйдя из натопленной комнаты, Мишка разом попал в крутящийся вихрь колкой льдистой крупы, закрыл глаза рукавом и остановился.
Рад я или не рад, что эта… операция… без меня производится? – всматривался он в глубь себя. – И рад… ведь как-никак, а русский он, к тому же свой, студент. И не рад… Обидно, Броницын годится, значит, а я нет. Мне не воевать, а ишачить, снабжение таскать. Значит… Значит… Что же я? Кто же я? Слякоть? Мразь? Так, что ли?
ГЛАВА 21
В редакции появился новый человек, «фигура», как окрестила и упорно именовала его уборщица Дуся, называя всех других сотрудников по именамотчествам. Появление его было очень похоже на первый выход Мефистофеля в опере «Фауст». Утром, когда Брянцев напряженно разбирался в густо засыпанной корректорскими поправками гранке перевода немецкой военной статьи, сверяя русский текст с подлинником, в дверь кабинета без стука тихо вошел кто-то.
– Пошел вон, – раздалось в тишине.
Ошарашенный этим возгласом Брянцев вскинул глаза и увидел прямо перед собой, у стола, торчавшую, как жердь, длинную, поражавшую необычайной худобой фигуру. Эта фигура волнисто вихлялась на всем своем протяжении, а увенчивавшая ее суженная к темени, почти заостренная голова описывала круги в ритме змеистых колебаний тела. Длинные пальцы опущенных рук в такт ей выплясывали хоровой танец. Казалось, что внутри этого сложного подвижного механизма сидит кто-то, четко координирующий действия всех его агрегатов.
– Пошел вон, – повторила фигура.
– Вы это… кому адресуете? Мне, что ли? – только и смог выговорить Брянцев.
– Имённо вам, – проскрипел ответ, – кому же еще? Здесь нас только двое, но, пожалуйста, не волнуйтесь, – правая рука фигуры начертала в воздухе волнистую линию, – это я называю себя, свою фамилию, рекомендуюсь, так сказать.
– Псевдоним, надеюсь?
– Ничуть! Могу предъявить паспорт: Павел Иванович Пошел-Вон, всеми буквами, через тире и с гербовой печатью.
– Никогда такой фамилии не слыхал, – с сомнением покачал головой Брянцев.
– И не могли слышать. – Фигура, не прерывая своих колыханий, без приглашения подвинула к столу глубокое кресло, удобно расположилась в нем и изменила характер своих движений. Теперь она не вихлялась из стороны в сторону, а сжималась и раздвигалась вверх и вниз. – До 1929 года этой фамилии вообще не было. Я ее родоначальник и единственный в мире носитель. Это от скуки, от всеохватывающей, всепроникающей социалистической скуки, уважаемый господин редактор.
Брянцев молчал, будучи не в состоянии даже собрать мыслей для вопроса.
– Вот именно от этой скуки, – продолжала, поскрипывать фигура – пристрастился я к чтению объявлений о перемене фамилий. Бездна занимательности! Восторг! В них, как в бокале старого доброго вина, пенится вся гнусь социалистических мизеров, их пошлость, робость, подхалимство, но вместе с тем и тщеславие индюков. Романов переименовывает себя во Владленова, Царев – в Пролетарского, Безделкин – в Трудового и даже некий Бздюлькин украшается ароматной фамилией Гиацинтов. Каково? Художественно, не правда ли?
Но я решил сделать наоборот. Мой отец из именитых тульских купцов был. Предки еще первым стахановцем Петрушей жалованы фамилией Молотовы. Должно быть по кузнечной части промышляли. Так я меняю звучную и вескую в наши дни фамилию Молотов на Пошел-Вон. Утвердят или нет? Посадят или нет? Социалистическая рулетка, ставка на зеро. Представьте – проскочил! Всеми буквами в «Известиях»! В результате неожиданный рог фортуны со всеми ее дарами: в какое советское учреждение ни явлюсь с просьбой и заявлением, как только фамилию прочтут – смех и успех! Психологический шок своего рода.
– Ну, а ко мне у вас какое заявление или просьба?
– Ни то, ни другое. Вам – предложение.
– Чего?
– Всего, чего хотите. Как некогда у Мюр и Мерелиза. Полнейший универсализм. Я могу все: переводить в стихах и прозе с шести языков и на шесть языков, быть директором публичного дома, обучать милых деток премудрости Филаретова катехизиса, писать передовые, очерки, рассказы, злободневные фельетоны в стихах.
– Вот это подойдет, – обрадовался Брянцев. Пошел-Вон занимал его, даже нравился.
– Четверостишиями в ямбах, – отстукал Пошел-Вон предложенный ритм по столу. – Размер не играет для меня роли: 32, 36, можно 40 строк, как прикажете. Но гонорар фиксированный – пятьсот рублей. Дорого? Ничего подобного. Ровно на литр жидкости, именуемой водкой, которой я совершенно не пью. В валюте или товаром – безразлично.
– Зачем же вам водка, если вы не пьете?
– Для услаждения моей печальной жизни, – сжался в комок Пошел-Вон и потом, вытянувшись до предела, вдохновенно разъяснил, лирически прижмурив безбровые и безресничные глаза: – Поставишь эдакую бутылочку в небольшой милой компании добрых русских людей, богоносцев этих самых, богоискателей, и слушаешь, внемлешь, видишь и ощущаешь, как из их духовной бездны смрад и грязь попрет. Восхитительно! Неповторимо! С каждой рюмкой все больше, все гуще, все ароматнее. Происходят переименования обратного действия: Гиацинтов преображается в Бздюлькина, град Китеж – в застарелую выгребную яму. Я большой гурман по этой части. Так как? Заметано? Пятьсот?
– Надо видеть товар.
– В момент! Через десять минут у вас на столе.
Пошел-Вон, отпружинив, взлетел с кресла и выскользнул ужом из кабинета.
«Интеллигента такой формации я еще не видел, – думал, оставшись один, Брянцев. – Свидригайлов, помноженный на Смердякова. Его бы Достоевскому в руки. Посмотрим», – принялся он снова за корректуру, но не успел докончить ее, как Пошел-Вон уже снова вихлялся перед ним, держа в руке отпечатанный на машинке лист.
– Ровно сорок строк, четырехстопный ямб, отточенность рифм, без слякотной мазни ассонансов. Этого требует фельетонный стиль.
Брянцев бегло просмотрел написанное. Фельетон был меток, заборист, остроумен. Цинизм Пошел-Вона давал себя чувствовать, но не выпирал: автор знал меру.
– Крепко. Пойдет. Вы заранее, идя ко мне, это заготовили?
– На заготовки подобного рода не трачу драгоценных минут быстротекучей жизни, – презрительно проскрипел Пошел-Вон, – продиктовал вашей пишмашинке и все тут. Разрешите получить гонорар?
Брянцев молча набросал записку в бухгалтерию.
– Извольте. Давайте в каждый номер и вообще заходите.
– Как сами видите: фортуна. Кладезь благ земных моя фамилия. Признайтесь, герр хауптшрифтлейтер, не будь вы ею шокированы, мы с вами не поладили бы так быстро?
– Согласен, – откровенно признался Брянцев. – Но не только ваша фамилия, а и сами вы возбуждаете некоторый интерес.
– Чисто художественного порядка, – вильнул всем телом, вплоть до щиколоток, Пошел-Вон, – для умов, мыслящих широкими категориями, – батард, ублюдок светлой эпохи великого социалистического строительства. Логично и закономерно: при всей помпезности и грандиозности фасада, столь же помпезной и глубокой должна быть помойная яма на задворках. Благодаря вашей милой бумажке, – помахал он запиской Брянцева, – сегодня вечером я обильно и изысканно поужинаю в ней.
– Приятного аппетита, – усмехнулся Брянцев.
Приглашением заходить в редакцию Пошел-Вон воспользовался очень широко, толкаясь в ней и утром и вечером. Своей прямой служебной работе он уделял немного времени. Служил же он директором детского хора. Хор этот существовал уже три года при городском Доме Одаренного Ребенка и был неплох. Но его создатель и руководитель, молодой музыкант, лауреат-комсомолец Кольцов эвакуировался с обкомом и сам Пошел-Вон так рассказывал об этом:
– Мы с Кольцовым в одном дворе жили. Когда начался тарарам, смотрю, сует этот одаренный ребенок в карман свои грязные подштанники, подмышку папку «Музик» со своими гениальными творениями и драла! Боги Олимпа, где же предел человеческой глупости? Бросать такое наследство без завещания даже! Но если бы не было дураков, то все умники передохли бы с голоду. Все существующее – разумно, утверждал длинноносый Гегель. Я практически подтвердил эту его истину, так сказать, освоил ее: явился на следующий день в этот питомник юных социалистических гениев, объявил себя директором хора пискунов, извлек из подполья античного возраста аккомпаниаторшу и кое-кого из ребят. Дальше всё, как по маслу из закрытого распределителя. Перевел на русский язык «Лили Марлен» и через неделю концертировал перед чинами комендатуры и штаба армии, махал прутиком из веника в манере Артура Никита. Бесподобно! Фурор! Военный паек всему хору, а мне с добавлением гельда и шнапса!
Ма фуа, патриотические чувства не всегда бесполезны. «Вот, говорят, как мы, немцы, разом двинули культурное возрождение одичавшей страны унтер-меншей». Ради Бога, пожалуйста! Но паек-то и гельд получаю я! Очаровательно! Скоро я сам, наверное, стану патриотом. Задержка лишь за одним: не могу решить – каким: немецким, советским или русским. Хотя последнее отпадает в силу явной бездоходности, – верещал и поскрипывал Пошел-Вон беспрерывно, присаживаясь к столу то одного, то другого сотрудника. Сначала им забавлялись, но это скоро приелось. Многим он стал в тягость.
– Слушайте, «четверть лошади», – вихлялся Пошел-Вон перед столом Котова. – Что? Вам не нравится этот заголовок, выдуманный бессмертным плаксой Успенским? Дело не в нем. Я исхожу из законов динамики. Вы работаете в редакции с утра и до вечера, как осел, да, говорят, еще по ночам романы пишете. Следовательно, вдвойне, как осел. Производительная сила осла равна половине лошадиной силы, а вдвойне осла – четверти ее. Арифметическая задача для начальной школы. Неоспоримо и законам диалектики не подлежит. Вы – «четверть лошади».
– Пошел-Вон, уходите. Прошу! Вы мешаете мне работать.
– Еще одно подтверждение моей правоты: вы вежливо говорите мне «уходите», когда полноценная личность должна сказать: «Пошел вон» (без тире), «Пошел-Вон (с тирешкой)». Это было бы действие лошадиной силы, а вы – только четверть ее.
– Пошел-Вон, уходите! – вскакивал со стула Котов.
– Только четверть! – не унимался тот. – Вот наша очаровательная кабардинка Женя, тщетно ищущая четвертого мужа, чтобы умереть на его гробе, в ней целых две стихийно кипящих лошадиных силы. Вчера меня линейкой по щекам отхлестала. Великолепно! Помпезно! Космический темперамент! А главное – за что? За мой несколько юмористический отзыв о народе-богоносце. Каково! Кабардинка – за православных богоискателей. Нет, ей, безусловно, необходим один экземпляр этой вымершей породы. Особенно в ночные часы. Сам я, к сожалению, не гожусь на это амплуа – импотент с двадцати пяти лет.
Котов нажимал кнопку звонка и приказывал появлявшейся Дусе:
– Принеси ведро помоев и облей эту…
– Фигуру, – услужливо подсказывала Дуся, – сейчас!
– Милейшая Дуся очень исполнительна. Прекрасная работница. Испаряюсь, чтобы не затруднять ее сверх нормы, – вихляясь, пятился к двери Пошел-Вон.
Но Елена Николаевна, увидев однажды, как Пошел-Вон без запинки и поправок диктует машинистке свои ямбы, глядела на него с томной молитвенной сосредоточенностью, с поклонением. Тот снисходительно принимал эту дань, а также за страстно любимое им кофе, которым, добыв от немцев, угощала его Елена Николаевна, изрекал туманные, заумные пророчества по рецепту: четверть от Мережковского, четверть от Андрея Белого и половину от Велемира Хлебникова в целом полная бессмыслица.
Елена Николаевна млела, шепча:
– Какая глубина! Тайна третьей бездны!
Оба были довольны.
Доволен болтовней с Пошел-Воном бывал и Шершуков, перед которым тот выступал в ином репертуаре: рассказывал о советских вельможах местного масштаба абсолютно невероятные анекдоты.
– Вот врет, – грохотал раскатистым смехом Шершуков, – вот врет! Лучше быть не может! Такую пропаганду нужно в ударном порядке пускать!
На редакционных совещаниях, куда Пошел-Вон являлся без приглашения Брянцева, он говорил всегда по-немецки.
– Какие способности! – восклицал на вечерних беседах с Брянцевым доктор Шольте, округляя глаза в размер очков. – Вы знаете, он говорит со мной то с берлинским, то с саксонским, то с баварским акцентами, а иногда даже на ганноверском диалекте. Я, немец, не смог бы сделать этого! Цитирует Канта, Маха, Авенариуса чуть не целыми страницами! Колоссально и вместе с тем ужасно. Этот, быть может, потенциальный гений превратил себя в площадного шута, в паяца. О, русские, мои дорогие русские люди! Сколько в вас талантливости и как дурно вы ее применяете! – с искренним огорчением договаривал он.
ГЛАВА 22
Вечером, в канун Покрова, было тихо, и мягкий, пушистый снег спадал на улицы города, застилая их ровной, ласковой пеленой. Немцы не боялись налетов советской авиации и за затемнением строго не следили. Уличные фонари не горели, но там и сям светились небрежно завешенные окна, бросая на снежную белизну желтоватые блики. Мороза не чувствовалось, но и не таяло. Влажный ночной воздух пахнул свежим снегом.
Перед домиком доктора Дашкевича на снегу мерцали голубые блики. Они падали из окна комнаты Мирочки, с потолка которой спускалась лампа, укутанная тремя сборчатыми волнами голубого тюля.
– Фижмы версальской маркизы, – говорил доктор. Мирочке это нравилось: слова «Версаль» и «маркиза» чаровали ее слух, как романсы Вертинского, пластинки которых неведомыми путями добывал баловавший дочку доктор.
Голубой цвет был ее любимым. Голубым было стеганое одеяло на ее пышной, с периной, постели, украшенной тоже голубым бантом в изголовье. Голубыми были легкие занавески на окнах, а на покрытом голубой же скатертью столике стоял в голубой вазочке букет искусно сделанных голубых бумажных роз.
На украшенном голубыми же салфетками диване сидели, прижавшись друг к другу плечами, двое: сама Мирочка и атлетически сложенный мужчина лет двадцати пяти, с твердыми, как из гранита высеченными, правильными чертами лица.
Его можно было бы назвать не только красивым, но красавцем – каким и считала его Мирочка, если бы не упористый тяжелый взгляд укрытых серой завесой глаз, которым он всегда давил собеседника и тому становилось не по себе.
– Факт, что Плотников убит ударом в грудь ножа или кинжала, подтверждает наши сведения, – негромко говорил гость, постукивая крепкими, сухими пальцами по нежной ладони Мирочки. – Немцы здесь ни при чем. Они или арестовали бы Плотникова или, в случае сопротивления, застрелили бы его. Техник Зуев тоже убит кинжалом но, вероятно, в борьбе: четыре раны, из них смертельна только одна в горло.
– Как это ужасно, Котик, – проворковала, вздохнув, Мирочка, – перерезанное горло, кровь…
– Наша кровь, Мира, советская, комсомольская кровь. Вот что тяжелее всего. Вот что, прежде всего. Но слушай дальше. Если не немцы, то значит сведения о тайной контрреволюционной организации, действующей в городе и в районе, подтверждаются. Возможна и связь городских с невыкорчеванным из станиц кулачьем. Но район тебя не касается. Тебе другое задание.
Мирочка снова вздохнула и кокетливо-покорно склонила головку к плечу Котика.
– Вполне возможно и даже наверняка в этой организации участвуют ваши студенты. Узнай – кто. Одного мы уже знаем.
– Смолину расспрошу. Она и теперь в общежитии помещается. Там еще много студентов.
– Нет, – твердо обрубил Котик, отбросив с колена руку Миры, – Смолина исчерпана мною до конца. Она сама толком ничего не знает. Кроме того, дура, бревно. Тебе нужно пробиться к самой организации. Если удастся, даже вступить в нее.
– Но это трудно, невозможно, Котик, – со слезами в голосе проговорила девушка. – Где она, эта организация? Кто в ней?
– Слушай внимательно, я укажу путь, – с не идущей к нему нежностью погладил руку Миры атлет. – Давай сюда губки и глазки. Вот так, – поцеловал он закинутое лицо девушки, приподнял его в уровень своего и уперся глазами в глаза. – За тобой один ухажер страдает, забыл его фамилию, но ты знаешь: голова круглая, уши торчат, твоего курса…
– Мишка Вакуленко, – брезгливо обронила Мира. – Надоел хуже смерти. Ну, что?
– Не гони его теперь от себя. Наоборот, будь поласковей, дай надежду. Можешь даже и поцеловать его, я не ревнив, но он нас очень интересует. Чуется мне, а моя интуиция, Константина Прилукина, никогда еще не обманывала, она говорит мне – в нем ключ.
– Ах, как мне все это тяжело, мучительно! Я так переживаю!
– Ты комсомолка и, кроме того, имеешь задание, – напирая на каждое слово, говорил Прилукин. – Никаких тяжестей, никаких переживаний у тебя быть не может. Это ошметки мелкобуржуазного сора. Вымети их железной метлой. Ну?
В последнем слове звучала угроза, и Мира ее уловила.
– Конечно, выполню… как смогу… Но мне очень…
– Без слюнявых сантиментов. Ты комсомолка. Не откладывай. Начинай разработку завтра же, – Прилукин взглянул на часы, подсчитал что-то в уме и встал с дивана. – Пока. У меня работа.
– Уже? Ты сегодня совсем чужой, холодный, жесткий…
– Не до нежностей сейчас, Мирок! Момент до крайности напряженный. Растрачивать себя на чувства нельзя ни мне, ни тебе. Но все-таки, – изменил тон Прилукин, – минуту, одну минуту отдать ему можно.
Он обнял девушку, перегнул ее в спине и сверху, с высоты своего богатырского роста впился ей в губы долгим, душащим поцелуем.
– Теперь – все! Пока! Завтра в тот же час стукну в окно.
* * *
Перед домом редакции и типографии блики вышили по снегу целый узор. Бумажные щиты, затемнявшие окна в первом и втором этаже, были прорваны во многих местах, и прорывавшийся сквозь эти дыры свет ложился на снег причудливым разметом.
В комнате доктора Шольте щит был совсем снят. Там, в этот вечерний час, сидели у стола он и Брянцев.
– Вам не случалось, Всеволод Сергеевич, встречать в научной литературе указания на то, что этот Кудеяр был не легендарной, но реальной личностью, находить хотя бы зерно этого цикла сказок и песен? Было бы очень интересно установить это, – продолжал доктор начатый, как всегда, с литературной темы разговор.
– Не помню точно, но, кажется, Соловьев вскользь упоминает о нем. Жил этот Кудеяр в начале семнадцатого века, в Смутное время и при царе Михаиле. Был служилым дворянином Рязанской земли, потом, как тогда многие, стал разбойничать, а под конец жизни принял постриг и схиму. Путь не редкий в тот век. Возможно, что происходил из татар: Кудеяр – Худояр распространенное у них имя, да и много их поселил Иван Грозный на Рязанской украине, границе Дикого Поля. Остальное – плющ легенды.
– Плющ легенды, – повторил за Брянцевым доктор Шольте, – этот плющ говорит часто больше, чем то, почему он вьется. Смотрите, как широко растекся этот ваш Кудеяр: от народной песни к пересказу самой легенды в поэзии и прозе. Но это не всё. Тема её: преступление, искупление его и прощение греха расходится гораздо шире и глубже. Раскольников тот же Кудеяр. Другое его преломление – Митя Карамазов и даже Дубровский.
– О нет, – горячо возразил задетый за живое Брянцев, – Дубровского сюда не припутывайте. Это – мелкота, романтический мститель за личную обиду, русское переложение вашего Моора, только.
– Но Кудеяр тоже мстит этому насильнику, которого убивает, – поднял брови Шольте.
– Если и мстит, то не за себя, а за народ, за его страдания, за «мир». Не WELT, но наш «мир» – люди, общество, что ли. Вернее же, что мести вообще в нем нет.
– Что ж тогда побуждает его?
– Преодоление зла злом. Жертвенность личным грехом, своей душой, ее спасением ради устранения зла, причиняемого другим людям – вот что.
Шольте наморщил свой высокий узковатый лоб и растер морщины подушечками пальцев.
– Это трудно понять. Но если так, то явно противоречит православию, христианству.
– Я не богослов. По христианской догматике, вероятно, так, как вы говорите. Однако, в нас, русских, живет не византийский догматизм, казуистическое христианство, а свое, преломленное в душе народа. Этот народ говорит: «Не согрешишь – не покаешься. Не покаешься, не спасешься».
– Забавная диалектика, – рассмеялся Шольте. – Но нам, немцам, она абсолютно чужда.
– Что ж, вот вам новое подтверждение теории расизма, – засмеялся и Брянцев. – Можете разработать его и опубликовать очень длинную, очень умную и столь же скучную философскую статью.
– Быть может и напишу на эту тему после войны, когда вернусь к своей нормальной работе.
– Тогда и князей и царей наших московских не забудьте. В них тоже Кудеяров дуб был. Ведь бремя власти неразрывно с грехом, по нашему русскому христианскому жизнепониманию. Власть же – не цель, не стремление к личному господству, но служение, служба. Когда в деревне старосту выбирают, так он совсем этому не радуется и не стремится быть выбранным, но «от мирской службы отказу нет», что ж поделать, принимает ее тяготу. Так и с царями было: царствовать – значит служить и грешить, казнить, порой лукавить, лгать. Ответ же перед Богом, прежде всего за свой царский труд, за его выполнение. Иван Грозный это совершенно ясно формулировал. Для своей же собственной, личной души – схима в смертный час.
– Да, да, все это знаю, – кивал доктор Шольте. – Я слушал в Москве «Бориса Годунова» Мусоргского. Он глубоко разрешил эту тему. Но ведь все это – прошлое. А теперь еще жив в русской душе этот Кудеяров дух? Как вы думаете?
Брянцев помолчал, потом тихо, как говорят в пустой церкви, ответил:
– Если и не жив сейчас, то оживет, когда сумма страдания искупит грех. Поэты-интуиты это уже чувствуют. Вы знаете Максимиллиана Волошина?
– Волошин? – напряг брови Шольте. – Нет, не читал, совсем не знаю.
– Ну, так я вам по памяти скажу один отрывок из него.
Из крови, пролитой в боях,
Из праха обращенных в прах,
Из мук казненных поколений,
Из душ, крестившихся в крови,
Из ненавидящей любви,
Из преступлений, исступлений
Возникнет праведная Русь.
Я за нее одну молюсь
И верю замыслам предвечным:
Ее куют ударом мечным,
Она мостится на костях,
Она святится в ярых битвах,
На жгучих строится мощах,
В безумных плавится молитвах.
Посыльный из типографии, постучав, всунул в щель приоткрытой двери сверток сырых листов сверстанных полос.
Внизу, в наборной, работа была почти закончена. У покрытого цинковым листом стола курил только что закончивший свою порцию и очень веселый по этому случаю метранпаж, а контрастом ему был старый, похожий на облезлого грифа крючконосый печатник. Он и сидел, как гриф, сгорбив спину и вытянув из собачьего меха воротника длинную, тонкую, жилистую шею с выпирающим кадыком.
– И на глоток не оставил, – простужено сипел он, – хорош дружок.
– Ошибся. Ей-богу, ошибся! – без смущения оправдывался метранпаж. – Не рассчитал глотка, она вся и проскочила. Сам понимаешь…
– А хороша? – уже без обиды деловито спросил гриф.
– Вискато? Много хуже нашей. Даже от шнапса хужее, аптекой воняет. Но ничего, градусы содержит.
В корректорском углу, тоже у стола, близко сдвинувши склоненные головы, тихо, почти шепотом переговаривались Мишка и Броницын.
– Значит, Плотникова ты? Ты сам. – Не договаривая страшного слова, спрашивал Миша.
– Убил? – так же тихо, но спокойно, с некоторой бравадой договорил за него Броницын. – Я! Я один. Без помощи Вьюги. Ударом прямо в сердце. Те оба были техником заняты. Он сопротивлялся, а Плотникова, как столбняк хватил. Стоит передо мной и только глазами моргает.
– А скажи, Гриша, по правде скажи, – обнял друга за плечи Миша, – не страшно было и не совестно, что ли, – с трудом подыскал он подходящее к мысли слово.
– Страшно? Пацанок ты сопливый еще, Мишка. Как же бояться, если уж решил? Решить трудно, боязно.
– Не риска, не наказания, а понимаешь, самого, самого…
– Убийства? Самого акта? – снова договорил за него Броницын. – Нет. Я ведь давно готовил себя к этому. Жил стремлением к нему, – страстно зашептал Броницын.
– Полосы принесли! – крикнул с другого угла наборной метранпаж. – Без переверстки. В самый аккурат врезали! Гуляй теперь, ребята! Эх, – повернулся он к печатнику, – теперь бы еще стопочку! Одну только! В самый раз была бы, да нету ее.
– Обойдешься, – просипел печатник.
– Убийство страшно, когда оно преступление, но когда оно – долг или более того – подвиг, тогда нет. На войне разве есть страх убийства? Наоборот, боятся только, чтобы самого не убили, а угрызений совести ни у кого там нет. Все эти рассказики о каких-то покаянных переживаниях после первого боя только выдумки слюнявых писак, и винтовкито никогда в руках не державших, войну из трактирного окна видевших, – говорил Броницын, аккуратно застегивая пуговицы своего пальто.
– То война. – Накинул на голову свой бушлат Мишка и, нащупывая рукав, совал руку вверх.
– По-мужицки одеваешься, – поучительно заметил ему Броницын, – так только тулуп сверх поддевки мужики натягивают. Учись быть приличным. Там война и здесь тоже война. Даже более ожесточенная, В случае их победы нам пощады не будет. И мы тоже не должны щадить.
– Но ведь свой же он, русский? Кроме того, студент наш… товарищ…
Незаметно вышли на улицу и разом захлебнулись волной свежего снежного воздуха, особенно приятной после свинцовой духоты наборной. Даже приостановились, вдыхая его.
– Нет, и не русский он и не товарищ мне, раз комсомолец. Он враг не только мой, но моей родины, моего Бога, моего мира, – теперь уже во весь голос продолжал свою речь Броницын.
– Сам говоришь – Бога, значит веруешь в Него, а в грехе сознаться не хочешь.
– Греха здесь нет. Наоборот – подвиг, преодоление греха, победа над ним. Знаешь, Мишка, Игнатий Лойола учил…
– Он кто был? Философ, что ли? – перебил Броницына вопросом Миша.
– Нет, монахом был католическим, даже святым. Моя мать ведь полька, от нее знаю. Так вот, он учил: в монастыре легко душу в безгрешной тиши спасать. Это каждый сможет. А вот ты в грешный, полный зла мир иди, борись в нем с этим злом, грехом, победи, уничтожь его, освободи от него людей – тогда совершишь подвиг, тогда послужишь Богу. Вот что!
– Других спасешь, а себя? Свою душу?
– В этом-то и самое главное, – приостановился и тряхнул Мишку за плечи Броницын. – В этом стержень, сила подвига. Вот я убил Плотникова, победил заключенное в нем зло во имя добра другим людям. Так не грешник я, не палач, а жертва, понимаешь, – жертва…
Раз, два, три… хлопнули позади студентов три выстрела. Броницын, еще держа Мишу за плечо, навалился на него, потерял опору и осел на землю.
– Жертва… – повторил он, падая.
– Гриша! Броницын! Что ты, что ты! – тянул его вверх Миша и лишь спустя несколько секунд понял, что сзади стреляли и что его друг ранен. «Что делать? – пронеслось в мозгу Миши. – Волочить в типографию, конечно, и оттуда по телефону доктора вызвать».
Миша подхватил под плечи лежавшего на снегу студента и, пятясь задом, потащил его к двери, открыл ее толчком каблука и втянул раненого в наборную.
– Николай Прохорович, помогите! – крикнул он прибиравшему стол метранпажу. – Несчастье!
– Что? Что такое? – рысцой подбежал старик.
– Сам не разберу. Броницын ранен. В спину на улице выстрелили.
Броницына положили на только что прибранный наборный стол, и алая густая кровь потекла из-под пальто по цинку. Метранпаж, плохо управляя пальцами, расстегивал пуговицы. Что-то тяжелое стукнуло об пол. Старик пошарил рукой под столом, нащупал пистолет и финку, поднял их и протянул Мише.
– Ты эти штуковины лучше спрячь и молчи о них! Только мы с тобой их и видели, а то немцы сейчас зацепятся: почему да откуда. Немца-то позвать нужно. Василь, – крикнул он в дверь печатного цеха, где в это время возились, накладывая на свинец мокрый картон, – гони сейчас наверх, зови немца. В дверь ему стучи, что есть силы, кричи: несчастное происшествие! Как думаешь, кто его? – спросил метранпаж Мишу, когда остались одни. Тот в ответ лишь развел руками.
– Может из-за девки кто созорничал?
– Не было у него девки.
– Тогда… – прижал рот к уху Миши старик. – Тогда одно – политика. За службу у немцев награждение. Не иначе. Ты, парень, с опаской по ночам ходи. Норови с кем на пару.
Застегивая на ходу китель, почти вбежал Шольте, бросил Мише:
– Вызовите врача. Быстро! – и склонившись над неподвижным Броницыным, расстегнул его пиджак. Рубашку – рывком, сверху донизу. Ею же отер кровь с груди и выпрямился.
– Три раны в грудь и живот.
– Но стреляли сзади, в спину, – возразил Миша.
– Значит здесь выходные отверстия. Навылет. Что скажет врач? Он взял спокойно вытянутую вдоль тела руку раненого и прислушался к пульсу, покачал головой и почти прижался ухом к его рту. Снова покачал головой.
– Подождем врача, но мне кажется, что ему нечего будет делать.
– Царство Небесное, – перекрестился метранпаж.
* * *
На снегу перед домиком Вьюги горел волчьим глазом только один блик. Неподвижный, рубино-красный. Капля крови.
Оба окна были наглухо забиты принесенным Мишкой типографским картоном, и бросивший блик луч пробивался в дырку от гвоздя. Тек он от висевшей, такой же рубиново-красной лампады перед старым, темным, без ризы образом Николая Чудотворца, висевшим в углу. Только эта лампадка и светила в комнате. По обитой штукатурке стены скользила неясная тень от мерно ходившего вдоль нее Вьюги. Сидевшая у стола Арина сливалась с красноватым полумраком. В углу за буфетом белела борода отца Ивана. Самого его совсем не было видно.
– Кука-ре-ку! – раздалось из угла, и вслед за выкриком зажурчал не то ручей, не то песня, не то сказка, скороговоркой, но внятно, хоть и тихо.
Кука-ре-ку,
Спят святые на боку!
По Руси гуляют черти,
Шлют напасти хуже смерти.
Кука-ре-ку!
– Совсем оплошал наш поп, – остановился перед примолкшим стариком Вьюга. – Опять запсиховал, как в Масловке, когда немцы ушли.
– Много грехов тебе, Ваня, простится за то, что ты тогда его силом от Нины оторвал и в лес, почитай на своих плечах, уволок. Много… – тихо сказала Арина.
– Невелика заслуга. Он, как перышко, легонький, – усмехнулся Вьюга. – А вот на Акима Акимовича силенки у меня не хватило. Больно грузен. Не осилил такую тягу, – с той же усмешкой в голосе проговорил он.
– Господня воля. Не понять нам ее, не уразуметь. Много на нас с тобой грехов, Ваня, а вот не покарал нас Господь, выскочили из верной петли. А на Клавдии Зотиковне какие грехи? Честной девицей, праведницей всю жизнь прожила и смерть приняла такую.








