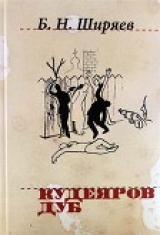
Текст книги "Кудеяров дуб"
Автор книги: Борис Ширяев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)
ГЛАВА 30
Приехав в город, Брянцев остановил автомобиль у дверей редакции. Домой – потом. Это успеется. Сначала надо посмотреть, как идет дело с газетой, а заодно попробовать выручить Пошел-Вона с его гусями.
Котов стоял, склонившись над столом, и наклеивал на старый газетный лист вырезки корректур – компоновал макет очередного номера. Он на минуту оторвался от работы, чтобы обменяться с Брянцевым парою слов, и снова погрузился в нее – надо было втиснуть в столбец четыре не умещавшихся в нем строки.
– Значит, здесь все в порядке, – решил Брянцев, – машина работает нормально, о подробностях поговорим потом, – и направился к доктору Шольте.
Немец встретил его радостно.
– Знаю уже: доклады в Керчи прошли хорошо. О вашем … Мишке … Да, Мишке? Я верно его называю? О нем прекрасные отзывы. Конечно, и о вас тоже. Ну, рассказывайте подробнее ваши личные впечатления. Главное: как реагировала русская публика?
– На мой доклад – сдержанно, а вот слова Мишки безусловно задели многих за живое.
– Я так и думал, – кивнул головой доктор Шольте. – Следовательно, надо чаще делать такие доклады, на фабриках и даже в колхозах. А направлять на них именно молодых, новых людей. Было бы очень хорошо организовать группы таких пропагандистов и возбуждать там дискуссии. Но пригодных для этого, кажется, мало. Займитесь, подберите способных. Молодых, только молодых … Этого Мишку Ваку… Баку… – Никак не могу запомнить его фамилии, – возьмите лучше к себе в редакцию. Корректора найдем легко, а этот, безусловно, поможет вам подобрать молодых работников в кадр устных пропагандистов.
– Теперь расскажу вам забавный анекдот, – приступил Брянцев к выполнению миссии Пошел-Вона и, усиливая комизм встречи с ним и его гусями, рассказал о ней Шольте. – Надо помочь ему, герр доктор. Кстати, он обещает и редакции и команде пропаганды по пяти рождественских гусей, – добавил вскользь Брянцев.
– Не понимаю, в чем дело. Почему его задержали? Ведь свободная торговля не преследуется? Вероятно, наш солдат заподозрил контрабанду или кражу. Ну, я все это выясню, и наш общий друг не потеряет своих гусей. Однако, обещанное редакции и нам пусть дает! Скажите это ему. Пусть платит натуральный налог. Это будет справедливо, В солдатском рационе нет рождественского гуся.
– Да, еще одно дело, – остановил уже выходившего Брянцева доктор Шольте. – Этот милый старый доктор, заведующий городской санитарией, просит принять на работу его дочь. Она уже приходила. Я дал ей на пробу небольшую статью, но, но… она написала дикую нелепость…
Шольте порылся в аккуратно сложенных на столе бумагах и вытащил исписанный полудетским почерком лист.
– Она пишет: «Атака кирасир», – с ужасом воскликнул немец, подняв лист и потрясая им, – кирасир! Когда во всей нашей армии нет ни одного кирасира! Но взять ее всё-таки нужно, ради милого доктора. Подыщите ей, пожалуйста, какую-нибудь работу.
– Это Мирочка Дашкевич, – улыбнулся, взглянув на подпись, Брянцев, – я ее знаю. Очень хорошенькая девушка, но, кажется, столь же глупенькая. Ну, найдем что-нибудь для нее.
Вернувшись в свой кабинет, Брянцев затребовал по телефону Мишку и позвал к себе всех ведущих сотрудников. К его удивлению, вместе с ними вошла в комнату и Мирочка, свеженькая, разрумяненная легким морозцем, в голубой шубке с большим белым, пушистым воротником. Она издали поклонилась и скромно уселась на краешек длиннейшего редакционного дивана. Пришедший Мишка сел там же, но поодаль от нее.
Брянцев коротко изложил план Шольте.
– Ну, господа, у кого есть какие-нибудь соображения, дополнения, уточнения? – спросил он.
– Мысль, конечно, хорошая, – после некоторой заминки начал Вольский, – но подобрать кадр таких агитаторов будет очень трудно…
– На это дело мы пустим Вакуленко, – перебил Брянцев, – Шольте просил перевести его в редакцию. Поздравляю вас, Миша, – кивнул он студенту, – сообщения об успехе вашего доклада в Керчи нас обогнали. Шольте уже знал о нем, и именно этим вызван ваш перевод.
Мишка даже вскочил от удивления и его щеки густо зарумянились.
– Вот уж не думал. Я ведь так говорил там… от себя просто … Даже без конспекта.
Потому и хорошо получилось. Даже адмирала проняли вашей искренностью. А теперь запряжем вас в новое дело. Вы будете ведущим группы устных пропагандистов. Подберите себе, прежде всего, пять-шесть подходящих ребят или хотя бы двухтрех для начала … Найдете?
– Поискать, так найду. Дружки-приятели у меня везде есть. Найду, Всеволод Константинович, – уверенно ответил Мишка. – Есть у нас такие. Только выявить их надо!
– Я думаю, что с ними будет необходима предварительная работа, что-нибудь вроде бесед или даже семинара, – полувопросительно проговорил Котов.
– Безусловно. И это возложим на Вольского. У него организационные навыки центральных газет. Согласны? Вольский кивнул головой.
– Значит, вступаем на проторенную дорожку советской пропаганды? – криво усмехнулся Крымкин.
– А отчего же нет? – ответил ему Брянцев. – Если выработанный коммунистами метод радикален, то почему не применить его нам? Но вы ошибаетесь. Наша дорожка разнится от советской. Шольте допускает на предстоящих собраниях возражения и даже дискуссии.
– С предрешенным исходом, конечно?
– Исход этих дискуссий будет зависеть от нас самих, от убедительности наших слов, и думаю, что не нами, а самими фактами, самою реальностью он действительно уже предрешен, – холодно возразил Брянцев, – но превращать эти предполагаемые собеседования в демократическую говорильню мы, конечно, не будем.
– Этого не опасайтесь, Всеволод Сергеевич, – горячо вступился Мишка. – Если кто из прежних активистов теперь попробует рот раскрыть, так сам народ ему сразу заткнет. Кому советская житуха мила? Нету таких, кроме, конечно, партийных. Да и те тоже не без рассудка.
В продолжение всего этого разговора Мирочка строго выдерживала принятый на себя серьезный вид, но думала совсем о другом:
«Вакуленку выдвигают, – поняла она из слов Брянцева, – даже руководящую работу ему поручают. Вот уж не ожидала… А впрочем, – взглянула она сбоку на оживленное лицо Мишки, – почему бы и нет? Чем он хуже других? Как я этого прежде не замечала … Или он теперь изменился? Пожалуй, стал даже очень интересным. Только одет ужасно. Хоть бы меня не зачислили в эту группу … Что я там буду делать? Хотя … Хотя именно этого и требует от меня Котик».
Эти ее размышления были прерваны Брянцевым.
– Теперь с вами, госпожа Дашкевич, – подчеркнуто официально начал он. – Доктор Шольте передал мне ваше желание работать с нами и ваш пробный перевод… – Тут Брянцев сделал паузу, подбирая возможно более мягкие выражения. – Его удивило упоминание вами кирасиров, их стремительные, победоносные атаки, – заглянул он в лист, – откуда вы взяли этот, теперь совершенно исчезнувший род оружия?
– Из словаря Макарова. Там так напечатано, – с достоинством ответила Мирочка.
– В словаре Макарова издания 1888 года, – взял у Брянцева злосчастный листок Крымкин, – слово «панцер» действительно переведено чем-то вроде кирасира. Но беда в том, что в то время не было танков и это слово имеет теперь совершенно другое значение.
– Ну, так чем же я в этом виновата? – со слезами в голосе воскликнула Мирочка.
– Виноват, конечно, старик Макаров, – иронически согласился Крымкин, – мерзкий старик, доводит до слез неопытных, доверчивых девушек.
Углы губ Мирочки стремительно опустились. Напитанный ароматами тэжэ платочек уже готов был вспорхнуть к ее глазкам, но Брянцев не допустил его взлета.
– Пользуйтесь современными словарями, советского издания. Если нет у вас, то возьмите у меня. Вакуленко вас проводит … Первый блин комом, гласит пословица, но не огорчайтесь и переведите теперь хотя бы это, – подал ей немецкий журнал Брянцев, отметив в нем наугад какую-то статью.
«Еще расплачется здесь, что с ней тогда делать!» Но слезы стыда и обиды закапали из глаз Мирочки только на улице.
– Все, все говорят, что я прекрасно знаю немецкий язык. И Марья Фридриховна говорила, и немецкие офицеры теперь говорят. Проклятый панцер! – ткнула она носком ботика в свисавшую с крыльца ледяную сосульку. – Надо было ему попасться. Ну и что тут, собственно, такого? Ну, кирасир, ну, танк – не всё ли равно?
– Вы на этого Крымкина не обращайте внимания. Он всегда ко всем прицепляется, – пытался утешить ее Мишка.
– Такой вредный.
– На него всё равно никто внимания не обращает, а тем более Всеволод Сергеевич.
Мирочка еще прикладывала к глазкам надушенный «Белой ночью» платочек, но зимнее солнышко так задорно лезло в них, а свежий белый снежок так аппетитно похрустывал под ее ботиками, что вытирать было нечего. Однако и отнять платочка от глаз было тоже нельзя: положенная перед входом в редакцию краска (дома нельзя – мама сердится), конечно, смазалась с ресниц.
Девушка переложила платок в левую руку, а правой нагребла ком снега с забора.
– Ну, мы пришли, – остановился Мишка у дома Брянцева. Метко брошенный ком талого снега залепил ему глаза. «Теперь полчаса протирать их будет, а я тем временем…» – думала Мирочка, приведя в исполнение свой стратегический план.
Но Мишка лишь весело фыркнул, потряс головой и постучался в дверь.
– Подождите! – дернула его за рукав Мирочка. – Кто вас просил! Облом колхозный, даже этого не понимает… – с сердцем выхватила она из сумочки пудреницу и кругленькое зеркальце. – Держите! – сунула пудреницу растерявшемуся Мишке. – Не могу же я такой к ним войти.
На счастье Миры Ольгунка за шипеньем примуса не слышала стука Мишки и открыла дверь лишь по повторному, когда вся процедура тэжирования была уже благополучно закончена.
– Вот хорошо! – обрадовалась она и ворвавшемуся в чад кухонки снопу солнечных золотистых лучей и свежим, разрумяненным морозцем лицам пришедших, еще покрытым каплями снежной росы. – Мирочка! Миша! Солнышко! Все вместе разом! Вы уже здесь, Миша, значит, и Всеволод Сергеевич вернулся?
– Он в редакции, а когда придет домой, не сказал.
– Я к вам только на минуточку, Ольга Алексеевна, – совсем по-светски проговорила Мирочка и важно добавила: – по делу.
– Какая там минуточка, – тянула ее в комнату Ольгунка. – Прекрасная у вас шубка, Мирочка! Прямо прелесть! – поставила она девушку перед окном и отошла на шаг, любуясь на нее. – Настоящий шевиот, и какой тонкий! Где вы только его достали? А воротничок из ангорской козы! Еще б вам муфту такую же…
– Это все мамино, – скромно опустив глаза, ответила Мира, – у нее в сундуках нашлось. Там и муфта такая же есть. Но ведь теперь их не носят.
– Нет ни у кого, потому и не носят. А вы возьмите у мамы, и все только позавидуют. Миша, – накинулась она на стоявшего у дверей студента, – чего вы там, как пень, стали! Помогите снять пальто вашей даме.
– Я только на два слова, – еще упрямилась Мира, но Миша так энергично ухватил ее сзади за воротник, что она поскорее расстегнула пуговицы: «Оборвет еще, обломина».
– Какое же у вас ко мне дело? – с комической важностью спросила Ольгунка, усадив гостей. – Чем могу служить? – добавила она басом.
– Всеволод Сергеевич обещал мне, то есть разрешил мне взять его немецкие словари советского издания, – я ведь теперь перевожу для газеты.
– Ай-яй?! Значит, тоже приобщились к литературе? Сейчас я вам отыщу эти словари или по крайней мере постараюсь отыскать. У Севки такая скверная привычка засовывать нужные книги в самые неподходящие места. А мне запрещает наводить порядок. Словарь где-нибудь близко. Он часто в него заглядывал. Да вот он, перед носом, на столе лежит! Оба тома: и русско-немецкий и немецко-русский. Вам оба? – подняла со стола Ольгунка две пузатых книжки, густо набитые какими-то закладками.
– Если можно – оба.
– Получите, Только нет… – отдернула книгу Ольга от протянутой руки девушки. – Сначала я все это вытряхну. Всевка, подлец, мои девичьи драгоценности посовал… девичьи мечты мои … А я их до сих пор трепетно храню.
Она встряхнула книги, и из них посыпались на стол однотипные картонные листики, пожелтелые и сильно затрепанные по углам. На каждом виньетка: розовенький амурчик, целящийся из лука в пылающее среди цветов сердце.
Стоявший у стола Мишка взял один из листов и прочел вслух:
– Жасмин. Любви все возрасты покорны. Пушкин.
– Что это такое, Ольга Сергеевна? Старорежимные экзаменационные билеты, что ли?
– Экзаменационные билеты, – с обидой передразнила его Ольгунка. – Какие у вас догадки все плоские, меркантильные! Это «Флирт цветов», дорогие мои, игра такая! Замечательная игра. Мы в молодости ею отчаянно увлекались. Впрочем, откуда вам это знать? – с горечью добавила она. – Ведь у вас-то, у вашего поколения и молодости нет…
– Как же в нее играли? – заинтересовалась Мирочка, набравшая полную руку карточек.
– А очень просто, – сверкнула глазами Ольгунка, – собирались девушки и молодые люди, сдавали эти карты… Вот так!
Ольга собрала со стола все листы «Флирта цветов», перетасовала их и сдала Мирочке, Мишке и себе.
– Потом каждый передавал выбранный им листок тому, кому хотел, и вслух говорил название цветка. Получившая же или получивший прочитывали, что под этим цветком написано, стихи или пословицу… Так многое можно было сказать такого, что вслух выговорить бывало трудно. Вот так, смотрите!
Ольгунка быстро просмотрела несколько карточек и, отобрав две, протянула их гостям:
– Вам, Миша, незабудка, а Мирочке гвоздика. Обоим в назидание от старой бабы.
– Какая же вы старая, Ольга Сергеевна! Вам никак больше тридцати, даже двадцати восьми лет дать нельзя, – по всем правилам вежливости ответила Мира.
– «Смелость города берет», – прочел Миша и подумал: «К чему это она мне дала?»
– «В уборе куколки невидном таится яркий мотылек», – прочла Мирочка, взглянула на Мишку и вздернула носиком: – Подумаешь! Мотылек тоже…
Мише посчастливилось. На первой же карточке он нашел подходящее к его настроению двустишие:
Когда б надежды луч желанный
Грядущий день мне осветил,
– Астра! – передал он листок Мирочке.
Девушка прочла, улыбнулась и, перебрав несколько листков, бросила один из них на колени студента:
– Ромашка!
– «Надеяться никто не запрещает», – прочел Мишка, разом просиял и торопливо забегал глазами по карточкам. Иногда он отрывался от них и упирался взором в потолок.
– Я помню день… Не то… Любви все возрасты покорны… Совсем не годится, – шептали его губы. – Вот оно! Роза!
«Я вас люблю. Чего же боле, Что я могу еще сказать» прочла Мирочка и собрала носик в морщинки.
– Неверно. У Пушкина не так. Там – я вам пишу… – сказала она, покраснев.
– Зато здесь крепче. Яснее, – тоже залившись густым румянцем, ответил Миша, – и еще вот вам резеду.
«Ответь на зов любви
Души моей мятежной»
Мирочка поджала губки, собрала карточки с колен и встала.
– Ответ получает тот, кто умеет его заслужить, – наставительно, как старшая младшему, сказала она растерявшемуся Мише. Пора, Ольга Алексеевна, а то мама будет беспокоиться. Большое спасибо за книги! До свидания.
Ольга вышла проводить Миру до двери, Миша один столпообразно торчал среди комнаты.
«И не попрощалась даже… Неужели обиделась? Говорит, заслужить надо. Всей душой бы рад, да как это сделать?»
ГЛАВА 31
В один из первых дней нового, 1943, года после обычного утреннего делового разговора доктор Шольте протянул Брянцеву замызганный, смятый листок бумаги.
– Взгляните на это и скажите ваше мнение.
На вырванном из ученической тетрадки листке разборчиво, но корявым почерком полуграмотного человека было написано обращение к населению. Подпись – городской комитет ВКП(б).
Этот комитет сообщал о переломе в ходе войны, достигнутом благодаря гениальному руководству товарища Сталина, о полном поражении зарвавшихся фашистских бандитов на южном участке фронта, об их паническом бегстве под победоносными ударами советской армии. Он призывал всех советских граждан к сопротивлению интервентам, к партизанской борьбе, к диверсиям; клеймил изменников, врагов родины и народа, угрожал им неизбежной карой. Привычный к правке ученических тетрадей глаз Брянцева механически отметил грубые орфографические ошибки и полное отсутствие знаков препинания, кроме точек. Стиль обращения был трафаретен, словно всё оно полностью было списано со страниц советской газеты. Чем-то затхлым, промозглым пахнуло на Брянцева, и он брезгливо бросил листок на стол.
– И много таких листовок разбросано по городу? – спросил он Шольте.
– Они были расклеены на стенах сегодня ночью. Немного. Обнаружено лишь около десяти.
– Действительно маловато на город со стотысячным населением. Слаб видно этот городской комитет ВКП(б). Смотрите, герр доктор, – взял снова Брянцев листок обращения, – во-первых, написано от руки на листке из тетрадки. Значит, нет даже пишущей машинки и какого-нибудь портативного гектографа. Второе, – множество орфографических ошибок, полная безграмотность – следовательно, нет и грамотного человека в этой подпольной организации, который должен был бы выправить текст. Кустарщина! Выдохлась советская пропаганда.
– Вот все это вы и дадите в комментарии к этой листовке, которую мы напечатаем на первой полосе очередного номера. Полностью! Даже лучше не набором, а факсимиле.
Брянцев откинулся в кресле и с удивлением посмотрел на Шольте. Тот улыбался.
– Именно таким жестом мы подтвердим, подчеркнем слабость врага и нашу силу, наше пренебрежение к его диверсионным попыткам, которых мы не боимся.
– Но одновременно подтвердим и слухи о поражении германской армии на южном фронте? – возразил Брянцев.
– Ну, никакого поражения нет, – казенно улыбнулся Шольте. – Слухи всегда преувеличены. Есть некоторая неудача атаки Сталинграда нашей шестой армией. В ходе всей войны это не играет большой роли. Стратегический отход на более выгодные позиции. Мы опровергнем преувеличения слухов тем самым, что напечатаем у себя эту листовку.
– Возможно, что и так, – уклонился от прямого ответа Брянцев. – Во всяком случае, это смело. Так и сделаем. Давайте мне листовку, я тотчас же перешлю ее в типографию.
А по городу действительно ползли зловещие слухи. Говорили о поражении немцев на сталинградском фронте, о глубоком прорыве вплоть до Дона, о вполне возможном захвате советскими войсками Ростова и неизбежном тогда отступлении немцев с Северного Кавказа.
Слухи ползли, как змеи, извивались, переплетались и кусали за сердце. Ограниченная, урезанная, куцая свобода, принесенная занявшими город немцами, уже пустила корни в психике его населения. Страх перед завоевателями был ничтожен по сравнению со страхом перед НКВД. Люди уже начали говорить свободно, не боясь слежки и доносов, а, начав, ощутили всю радость свободного слова, свободной мысли. Возникла и некоторая уверенность в возможности личной собственности, а из нее – стремление к созидательному, конструктивному труду. И дальше – мечта. Мечта о своих стенах, о своей крыше, о своей кухне, без коммунальных жактовских дрязг, без страха перед уплотнением, перед завистливым соседом, перед давящим со всех сторон социалистическим бытом.
«Эта мечта мизерна, думал Брянцев, пусть так. Но разве могло быть иначе? Разве не мизерны, не размельченная пыль, не раздробленные личности те, кто прожил почти четверть века под советским жёрновом?»
И вновь попасть под этот жёрнов?
Страшно! Страшно! Страшно!
Но некоторые, немногие в общей сумме населения, втайне радовались и перешептывались между собою.
– Нарвались немцы на крепкий отпор. Теперь им крышка. Обещанный товарищем Сталиным перелом наступил.
Эти немногие делились между собой на две неравных части. Большую, состоявшую из видевших в переломе хода войны пробуждение русских национальных сил, начало народной войны. И меньшую – из бывших активистов и закамуфлированных партийцев, продолжавших верить в непогрешимую гениальность Сталина и безоговорочную правильность генеральной линии возглавляемой им партии.
И те, и другие, хотя по-разному, вспоминали Кутузова и Отечественную войну 1812 года. Раскрывшие себя непримиримые враги советского строя, ненавидящие его во всех ответвлениях и проявлениях, приуныли. Надежды на свержение режима, вспыхнувшие в них с приходом немцев, теперь померкли. В этой среде упорно циркулировал слух о том, что командующий германскими войсками на Северном Кавказе, фельдмаршал фон-Клейст, получив какое-то важное сообщение с фронта, воскликнул в присутствии штабных офицеров:
– Krieg ist verloren! Война проиграна!
Подавляющее же большинство городского населения просто боялось будущего. Боялись вполне вероятной бомбардировки города, уличных боев в нем, а главное, жестоких репрессий со стороны вернувшихся советчиков. В неизбежности этих репрессий не сомневался никто.
Страх темной тучей висел над городом.
Главным рупором панических слухов был базар. Он явно сокращался день ото дня в своих размерах; часть продовольственных товаров совсем исчезла с лотков; не было уже привоза из дальних поселков; торговки неохотно брали немецкие военные марки, а нередко и совсем отказывались их принимать. Покупатели обменивались между собой свежими новостями, и эти новости были всегда тревожны.
Но вышедший из мышиной сутолоки базара обыватель разом попадал в иной климат. По улицам также спокойно и самоуверенно, как в первые дни прихода немцев, медленно текли колонны тяжелых автомобилей с военными грузами, гусеницы танков скребли не покрытую еще снегом мостовую, а сами немцы своими тяжелыми, подкованным сталью сапогами – тротуары. На их лицах не было заметно ни тени тревоги.
На душе обывателя становилось легче.
«Ну, что ж, думал он, может быть, и прорвались где-нибудь советские… На войне это легко может получиться, но разве смогут они с разбитой армией, с расшатанной вконец экономикой, потеряв чуть ли не половину военной промышленности и весь лучший кадровый состав, разве смогут они теперь победить эту мощь, эту железную организацию?»
«Конечно, нет», – отвечал сам себе обыватель и успокаивался до новых, еще более тревожных слухов.
Мысль об уходе вместе с немцами мелькала у многих, но немногие решались даже и временно покинуть свои насиженные места.
«Во-первых, возьмут ли нас с собой немцы? Если припечет их, отрежут, примерно Ростов, так не до нас им будет. Лишь бы самим выскочить… А если даже и возьмут, то куда? В какой-нибудь голодный и холодный концлагерь… Зима… Дети…»
Нет, уж лучше переживем как-нибудь. Все-таки дома. Крыша над головой, полтонны дровишек запасено, пуд муки.
А репрессии? Что ж, раньше, что ли, их не было? Кружил черный ворон по городу, выхватывал себе добычу, а я вот уцелел! Ну, снова покружит и, конечно, еще многих подцепит в когти, но меня-то, меня… Что я – как служил при советской власти бухгалтером, так и при немцах. Надо ж кому-нибудь вести учет народного хозяйства. Преступление это? Враг я народу или советской власти? Не без голов же люди, поймут, а главное – я человек им нужный, специалист. Эх, пронесет как-нибудь, а ехать… Куда? На какую жизнь?
Но были и бесповоротно решившие уходить с немцами во что бы то ни стало, при любых условиях, в любом направлении. Одних толкало к этому ясное понимание неизбежности их гибели при возврате советов, других – твердое решение продолжать борьбу за свободу до конца. Были и такие, что совмещали в себе оба эти стимула, но все молчали.
Редакция отражала в себе почти все эти настроения, кроме лишь уверенных в непогрешимой правильности генеральной линии.
Женька, не стесняясь даже присутствием немцев, вдохновенно повествовала о героических для Красной армии эпизодах битвы за Сталинград, восклицая после чуть ли не каждой фразы:
– Вот каков русский народ! Вот каков русский солдат! Невозмутимо слушавший ее доктор Шольте даже снимал очки от изумления.
– Черкешенка, человек иной расы, иных традиций – более чем горячая русская патриотка! Именно русская… Я ничего не понимаю!
– Я дочь своего народа! – гордо выкликала Женя, тыча пальцем в болтавшийся на ее груди бронзированный кулон с видом на Спасские ворота.
– Но какого народа? – вскакивал с места доктор Шольте. – Черкесского, русского или советского?
– Это безразлично, – надменно задирала голову Женя и удалялась.
– Ничего не понимаю, – повторял доктор Шольте, надевал очки и опускался в свое кресло.
– Обязательно запишите это мудрейшее ваше изречение, уважаемый герр доктор, – вихлялся перед ним Пошел-Вон, – и добавьте, что черкесский автор данной формулы тоже понимает ее не больше вас и что вообще никто ничего не понимает. Все это, безусловно, пригодится для вашего будущего философского труда.
– Менять коммунистический тоталитаризм на нацистский? Имеет ли это какой-либо смысл? – рассуждал, теребя бороденку, Змий.
– Этот сложный вопрос вы, безусловно, разрешите, забравшись первым в первый вагон первого отходящего на запад поезда и, конечно, захватив в нем лучшее место, уважаемый господин Земноводный. Так, кажется, именуется подкласс пресмыкающихся, к которому вы себя причислили вашим остроумным псевдонимом? – отвечал ему всюду поспевавший Пошел-Вон.
– Уйду с немцами. Я не самоубийца, – коротко, спокойно и точно формулировал свои соображения Котов.
– Дураков теперь мало стало, в концлагерях все ишачат, – продолжил их Вольский.
– А папочка решил оставаться. Он говорит, что докторам ничего не будет, потому что они всем нужны, – наивно вставила реплику проводившая теперь целые дни в редакции Мирочка. – Он говорит, что врач должен быть там, где он нужнее. А у немцев врачей достаточно.
Брянцев, знавший со слов доктора Шольте несколько больше, корректно молчал или высказывался очень неопределенно. Молчал и Мишка. Только брови его теперь были всегда сдвинуты. Думал должно быть, напряженно думал о чем-то, решал что-то в себе самом, в самых глубинах души.
– Гуси, обещанные вам Пошел-Воном, вами получены и израсходованы? – спросил перед русским Рождеством Брянцева доктор Шольте.
– Нет еще, но он не отказывается от своего обещания, раз его коммерция с вашей помощью удалась.
– Очень хорошо. Устройте редакционный рождественский вечер. Можно взять еще денег из фондов газеты, а о крепких напитках позабочусь я сам за счет пропаганды. Нужно поднять настроение сотрудников, а то оно падает.
– Нужно, – согласился Брянцев, – сделаем эту вечеринку в русский сочельник, когда и вы будете свободны. Идет?








