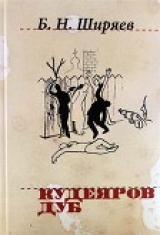
Текст книги "Кудеяров дуб"
Автор книги: Борис Ширяев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц)
ГЛАВА 10
Все разом повалили на крыльцо. Кричала Анюта, первая из нескольких бежавших к конторе женщин. Рядом с нею, едва поспевая за ловкой, статной девушкой, подбрыкивал голыми ногами Молотилка, сын профорга. В загсе он был записан под чисто пролетарским рабочим именем Молот. В учхозе принял местный колорит – стал Молотилкой. В этот тревожный день мать забыла надеть ему штаны, но нехватка такой мелочи его не смущала. Добежав до крыльца, мальчишка схватил Анютку за юбку и выпалил с пафосом между двумя дыхами:
– Немцы! На трех… – а договорить «машинах» не успел. Анютка лягнула его босой пяткой и сама затараторила: – На трех машинах, дедушка Евстигнеич! С бугра всё видать. Мноо-о-го их! Сейчас к нам подъедут! – частила она с каким-то почти радостным любопытством, но, опомнившись, смахнула с лица это чувство и пустила на него чью-то чужую, чуждую ему тень. Пригорюнилась: – Ох, боязно…
Три мотоцикла с прицепами въехали во двор и стали у первых строений. На каждом густо, человека по четыре, сидели запыленные солдаты в разлапых, низко надвинутых шлемах. Виднелись висевшие поперек груди автоматы.
С передней машины сошел молодой, цибастый немец в коротких, выше колена, штанах и в сапогах, не в ботинках. Он неторопливо размял затекшие ноги, скинул через голову ремень автомата и бросил оружие в кабину. Потом, так же не торопясь, оглядел весь двор: мужчин на крыльце конторы и отбежавших от этого крыльца женщин, крикнул что-то по-немецки и призывно замахал рукой.
– К себе зовет. Надо вам иттить, – подтолкнул Евстигнеевич Брянцева.
Тот и сам понимал, знал, что идти к немцам надо именно ему, а не кому другому. Это логично: он один говорит здесь по-немецки, он сможет тактично вести себя с оккупантами. Но нелогично было то, что он сам ощущал себя не только центром, но главой этой кучки жмущихся к нему людей, придавленных неизвестностью твоего «завтра» и даже своего «сегодня». Он ощущал и то, что за это «сегодня» и «завтра» этих людей несет ответственность именно он, Брянцев, укрывавшийся в садовом шалаше, «подозрительный и ненадежный в политическом отношении» доцент советского вуза, а в далеком, заваленном тусклыми серыми годами, прошлом еще более «подозрительный» для советских людей золотопогонник, «закамуфлированный враг народа».
Он ответственен.
За кого? За этот советский народ? За подозрительно, опасливо косившихся на него мужиков? За этих подглядывавших за ним визгливых вороватых бранчливых баб? За грязных, сопатых ребятишек? Он ответственен? Всеволод Брянцев?
Вот тут тонкий мостик логики обрывался. Ее ясность терялась в каком-то сумбуре глухих, напиравших на него снизу сил. Именно снизу ощущал Брянцев их грузный, стихийный, непреодолимо нарастающий напор. Снизу. От земли. Это он стряхнул его с крылечка конторы, он понес его на себе, укрепил его поступь и гулко, одобрительно отзывался на каждый его шаг:
– Ты должен! Ты должен! Ты должен!
– Молотилка! Молотилка! Куда ты, гад, сатаненок, – донесся до него придавленный шип, – вертай назад! Сейчас он с пулемета резанет!
Брянцев оглянулся. За ним вприпрыжку бежал голоногий Молотилка, и вся его густо разрисованная темным соком тутовника морда горела таким жадным предвкушением чего-то нового, невероятно интересного и заманчивого, что совсем несозвучная моменту улыбка шевельнула губы Брянцева. Он успокаивающе махнул бабам и взял мальчишку за протянутую к нему руку. На душе разом стало светло, даже весело, и окрепшие ноги четко, по-молодому, по-строевому сами зашагали к патрулю.
– Добро пожаловать, – сказал он по-немецки выдвинувшемуся к нему долговязому и, заметив белые шнурки погон на его плечах, добавил: – господин офицер.
– Ах, вы говорите по-немецки? – радостно удивился немец. – Как это приятно. Где вы научились? – протянул он Брянцеву руку и тотчас полез в карман за сигаретами.
– В гимназии, – пожал плечами Брянцев и про себя добавил:
«Думаешь, одни свинопасы в России?»
– Вы, вероятно, здешний школьный учитель? Но об этом потом, а сейчас, – вы разбираетесь в карте? – перебил он сам себя и взялся за планшет рукой, в которой был красненький пакетик сигарет. – Ах, да, вы курите?
«Четко ведет разведку, – мысленно оценил немца Брянцев, взяв предложенную сигарету, – пользоваться опросом населения, устанавливая с ним дружеские отношения. Наверное, и у них такая же инструкция. Ну, ладно, что дальше будет».
– Мы, приблизительно, здесь в этом квадрате, – нажимал немец на карту твердым, сухим пальцем, – но ваше селение, очевидно, не обозначено. Где оно? Покажите. Как оно называется?
– Карта устарела. Это, очевидно, копия нашей русской двухверстки, то есть съемки, сделанной до 1914 года, – медленно, примеряя в уме формы сложных глагольных времен, ответил Брянцев и сам удивился: не забыл всё-таки языка. А ведь тридцать пять лет ни одного слова на нем не сказал.
– Мы здесь, – подвинул он палец немца своим, – здесь, где расходятся две дороги. У вас обозначены только деревья, строений тогда, вероятно, еще не было.
– А-а-а? Вы знаете и топографию? Вы были офицером? – еще добродушнее заулыбался немец. – Это совсем хорошо. Gans gut… – похлопал он по руке Брянцева.
– Одна идет на Темнолесскую, вот она, – указал Брянцев на левую дорогу развилки. – Вот та. Другая, эта – на Барсуки.
– Скажи, на Невинку, – послышался сзади хрип Середы. – Барсуки – что? Кто их знает, а Новинка – переправа, на нее направление надо взять.
Брянцев оглянулся и увидел позади себя всех наличных мужчин учхоза. За ними кучились женщины и дети, но напирать не решались. Молотилка впереди всех, рядом с Брянцевым, делал осторожные попытки, обогнув немца, пробраться к мотоциклам, но, вероятно, всё же побаивался внеочередного подзатыльника от стоявшей невдалеке матери.
– Вы им закусить предложите и… по рюмочке… – дергал Брянцева за рукав кладовщик. – Это обязательно надо. Литровка у меня найдется. А бабы уж за сметаной, за салом побегли.
– Я тоже жену за медом послал, – дергал его за другой рукав Ян Богданович. – Мед свежий, первокачественный.
Брянцев снова оглядел все лица: «Любопытства много. Искательность, подхалимство тоже есть. Вот хотя бы у кладовщика. А враждебности нет. Ни у кого нет»…
– Наши крестьяне предлагают вам и вашим солдатам немножко закусить. Мед, сметана, по стаканчику русской водки. Вы разрешите?
– Благодарю. Но сначала я должен выполнить приказ. Через сорок-пятьдесят минут мы вернемся той же дорогой, и тогда можно будет сделать остановку. Значит, Невинномис-кая, – с трудом выговорил немец, – там? Прекрасно, – протянул офицер руку Брянцеву. – Теперь всё ясно. Мы еще увидимся и не позже как через сорок минут. Нам нужно лишь проконтролировать эту дорогу на двадцать километров.
Немец впрыгнул в кабину, и мотоциклы без команды зафыркали по шоссе. Молотилка провожал их восхищенным взором, продолжая все же придерживаться за полу пиджака Брянцева.
– Обращение вроде деликатное, – пробасил спустившийся с крыльца конторы бухгалтер, он же теперь и отец Павел. – Сообщения газет о зверствах и насилиях подтверждения не получают. Однако осторожностью пренебрегать не следует, равно как и выявлением дружелюбия и покорности. Посему же вам, женщины, надлежит взять из директорской комнаты стол, очистить его от всего непотребного, – явно впал он в церковно-учительский тон и даже волосы на затылке оправил, словно они были длинными, – покрыть его чистой скатертью или чем иным соответственным. Стульев тоже набрать и посуды, коей хлебное вино вкушать полагается, по преимуществу стеклянной и по возможности не побитой и не выщербленной.
– Правильно плануешь, отец бухгалтер, – перебил Середа, не подававшую признаков близкого конца речь отца Павла. – Бабы! Живо! Одна нога здесь, другая там! Тащи, что у кого найдется. Помидорчиков, огурчиков соленых. Да на блюдцах, как полагается, а не в навал! А ты, кладовщик, за полками у себя пошукай, чего там из директорской брони завалялось.
– Без тебя знаю.
– А знаешь – так действуй!
Женщины мигом разбежались по домам. Анютка, кликнув ребятишек, повела их табунчиком в контору. Оттуда, цепляясь за притолоки ножками, выплыл стол, а за ним потянулась вереница стульев. Отец Павел внимательно осматривал каждый предмет, а стол даже пальцем поковырял.
– Не мыли, выражаясь конкретно, с самого дня совершения октябрьской революции. По размерам же его, пожалуй, достаточного покрова во всем здешнем поселении не отыщется, – всё увереннее и увереннее вкладывался он в стиль семинарского красноречия.
Но эти опасения отца Павла не оправдались. Едва стол был обметен и установлен в тенечке у крыльца, как, словно выросшая из-под земли, активистка Капитолинка покрыла его слежавшейся, слегка пожелтевшей, но широкой, с узорной каймой добротной скатертью.
Евстигнеевич, щурясь своими медвежьими глазками, присмотрелся к ней и тихонько шепнул Брянцеву:
– Эту самую скатерть я помню. Признаю. Деминская она. У него на праздничный стол постилали. И меточка его с угла вон виднеется. Значит, вот еще когда заграбастала. Ты старайся, – подмигнул он самой Капитолинке, – твоя статья в текущий момент очень даже сурьезная.
Активистка и сама понимала «сурьезность» своего положения. Она торопливо разгладила слежавшиеся складки скатерти и метнулась назад к дому.
– Сейчас еще салхветок к ней представлю. Куда я их забельщила, никак не припомню. Из ума вон.
– Ума твоего не хватит, чтоб упомнить всё, чего нахватала, – раскатисто пустил ей вслед Середа.
– А твое на собственном чердаке помещается? – незлобно подцепил его веселый зоотехник.
– Мое дело иное, – ощетинился на него бывший конвоец. – Верно, забирал добро от буржуев в гражданскую. Так то война была. Значит, трохвеи. Я за них жизнью своей рысковал. А чтоб от чужого разорения пользоваться, такого я себе не допускал. Или чтоб писать на кого. Этого за мной нет. Кого хошь спроси.
– Что было, то было и травой поросло, – распевно протянул Евстигнеевич, – у кажного свое было, – посмотрел он по очереди на перекорявшихся. – Его и поминать теперь нечего. Кто Богу не грешен? Время такое стояло, что и нехотя все безобразили. Так, отец Павел?
– Истинно, – подтвердил, как с амвона, бухгалтер, – Господу Богу ответ каждый сам даст, мы же ближним своим не судьи. «Кто без греха, тот первый брось камень» в Евангелии сказано.
– Правильно сказано, – помягчел Середа, – умная это книга. Я ее всю в точности знал, когда в хоре церковном пел.
– Да ведь и я тоже пошутил только, – оправдывался зоотехник, – какая тут может быть обида.
– Что было за каждым, это теперь подлежит забвению, – огладил рукой сверху вниз бритый подбородок бухгалтер, – предадим забвению личные распри и злобствования.
– Бородку-то, отец бухгалтер, теперь опять отрастить надобно, а то не по форме получается, – деловито посоветовал Середа, – служение-то свое восстановите ведь?
– Всенепременно. Но сие обсуждению здесь не подлежит, а на повестке дня стоит вопрос общего продовольствования. Обмолоченное зерно у нас имеется, но куда теперь на размол его вести, раз Гулиевская мельница взорвана, это никому не известно. Также и по части скота, то есть бывшего показательного стада, отары овец породы Рамбулье, молодняка и прочего. Всё это подлежит учету и сохранению. Но одновременно встает вопрос пользования, ибо хотя и не единым хлебом сыт человек, но без оного хлеба сему человеку обойтись невозможно.
– Это дело первейшее, – поддакнул Евстигнеевич, – пускай вот они, – указал он на Брянцева, – у офицера спросят, как и что. Разрешение какое там возьмут или как иначе.
«Действительно, кроме меня, этого сделать некому, – подумал Брянцев. – Вот и попал самотеком в „народные избранники“. Жрать-то ведь надо. И какой-то регулятор экономики нужен. Значит – власть. Вероятно, она и всегда так зарождалась: не сверху, а снизу. Не от стремления повелевать, но от необходимости быть подвластным».
– Спросить я, конечно, спрошу, – сказал он громко, – но вряд ли получу точный ответ. Ведь это только разведчики, передовой разъезд, какой-то случайный младший офицер. Что он знает?
– Это мы понимаем, что разъезд, а всё-таки спросить надо, – поставил точку Середа. – Бабы, готово у вас?
Вокруг стола шла суетливая толкучка. Каждая хозяйка что-нибудь принесла, то на тарелке с каймой из розанов, то в глиняной чашке. Ольгунка распоряжалась, перекладывала, расставляла. Ее никто не ставил на это дело, но тоже как-то само собой вышло, что все женщины, в обычное время завзятые спорщицы и «протестантки», теперь молча и беспрекословно подчинились ее авторитету, лишь изредка подавая сами советы. И то неуверенно, даже просительно.
– Зеленым лучком, а не репкою помидоры-то посыпать было бы антиллигентнее?
– К творогу сахар нужен, а нет его. Значит, мед к творогу ставьте.
Полчаса пролетели незаметно, и по дороге, но теперь уже в обратном направлении, снова задымились клубы пыли.
– Вертаются! Ишь, на машинах как быстро скатали!
Завернув на двор, офицер что-то крикнул. Передовая машина сделала заезд и стала. Солдаты упруго спрыгнули с седел и из кабин.
– Смотри, пожалуйста, – удивился Середа, – оружие в корзинки кидают.
Солдаты действительно сбрасывали ремни автоматов и, расправляя затекшие ноги, шли гурьбой к столу.
Долговязый офицер прошагал прямо к Брянцеву и представился:
– Зондерфюрер Шток. Мы можем пробыть здесь не более пяти минут. Пусть солдаты съедят что-нибудь, но не садятся, – сказал он громко, обращаясь уже к ефрейтору.
– Могу вам предложить? – пододвинул к немцу налитую рюмку Брянцев.
– А вы сами? Давайте выпьем вместе за скорое окончание войны, за мир, за дружбу!
«Отравы боится», – подумал Брянцев, наливая себе в чашку. Но немец, не дожидаясь его, вытянул свою рюмку мелкими глотками и потянулся к рдевшим на большом блюде помидорам.
– У русских хороший обычай: сначала выпить, а потом съесть. Это усиливает аппетит. Впрочем, на войне аппетит не всегда приятен, – засмеялся он.
«Удобный момент заговорить о продовольствии», – подумал Брянцев. – Как поступить с выдачей населению продуктов питания? – начал он. – Ведь вы знаете, что мы жили в системе государственной экономики. Скот, например, государственный, да и хлеб тоже, – завел он издалека.
– Война ломает все системы, господин учитель, – перебил его эондерфюрер. – Ваш вопрос излишен, но русские нам часто его задают. Конечно, берите, что надо, и пользуйтесь. Это совершенно ясно.
– Можно ли получить от вас письменное разрешение?
– Квач! – засмеялся офицер. – Какое разрешение? Как могу дать вам его я, не имея на то приказа? Берите и ешьте! Это – война. Потом прибудет гражданское управление и всё войдет в норму, порядок. А пока – война, война, господин учитель, и в прошлом, кажется, тоже офицер. – Но что это? Пожар? Смотрите! – указал он на дом, занимаемый Капитолинкою, от крыльца которого вздымались змеями огненные языки. – Распорядитесь тушить!
Но Брянцев не успел сказать ни слова, как Середа, зоотехник и Мишка разом понеслись к огню. Однако, столкнувшись с бежавшей оттуда Анюткой, и поговорив с ней, повернули назад. Все они чему-то смеялись.
– Вот стерва, как в один момент обернулась! – грохотал Середа. Ну, и ловка! Своего не упустит!
Обогнавшая мужчин Анютка повалила, как из мешка:
– Что делает, что делает – сказать невозможно! – сыпала она, поправляя сбившийся платок.
– Да кто она? Говори толком! – прикрикнул на нее Брянцев.
– Она же самая, Капитолинка…
– Она огонь запалила?
– И валит и валит в него, как попало.
– Чтоб тебя черт, – рассердился Брянцев. – Что валит? Зачем огонь?
– Книжки валит и патреты. Прямо ворохом насыпает! А сама все причитает. Разбойники, кричит, людей обманывали и других себе пособлять заставляли! Всякие там слова.
– Ничего не понимаю.
– Не сразу и поймете, – хохотал подошедший зоотехник, – активистка наша стопроцентная на сто градусов, то есть даже на все сто восемьдесят переворачивается. Что, думаете, там горит? – махнул он рукой на разраставшийся дым. – Все основоположники во главе с самим «хозяином». Горючего хватает! У нее ведь все подписные издания были. Ишь, Марксы-Энгельсы как полыхают!
– Патрет Сталина на самый верх установила, – перебила его Анютка, – прямо в рыло ему плюет. А сама…
– Не то еще увидим. Она, глади, опять в начальство словчится проскочить, – хрипел Середа. – Только мы теперь по-иному дело повернем.
– Это население сжигает книги Маркса и Энгельса, – коротко объяснил немцу Брянцев.
– И хорошо делает. Ну, до свидания, – протянул немец руку и одновременно резко выкрикнул команду.
– Пропуск в город у него попросите, – теребил Брянцева сзади Мишка. – Пропуск мне очень нужен.
– Может ли получить у вас пропуск в город вот этот студент? – догнал немца у машины Брянцев. – Он живет там.
– Какой пропуск? Зачем? – крикнул тот с зафыркавшей машины. – Пусть идет домой. Но лучше до темноты, иначе может быть задержан патрулем! – кричал он уже с ходу.
– Значит, я потопал, – подтянул пояс Мишка, когда Брянцев перевел ему ответ. – Времени терять нечего, а то не добегу до захода – на самом деле зацепят.
– А зачем вам в город, Миша? – вмешалась Ольгунка. – Оставайтесь здесь. Сейчас и мы есть будем.
– Да, будем, – подтвердил и Брянцев, разом ощутив сжигавший его желудок голод. – Вот видите, сколько на столе осталось. А мы весь день не ели. Ешьте, – угощал он Мишку, набив и себе рот.
– Некогда, Всеволод Сергеевич! Вот разве на дорогу кусок хлеба прихвачу. Некогда! Надо.
– Зачем надо? – допытывалась Ольгунка. – Ничего вам там не надо.
– Надо, Ольга Алексеевна, – решительно заявил Мишка и вдруг густо покраснел до самого верха оттопыренных ушей. – Надо. У меня там неотложное дело.
– Знаю я это дело, – хитро засмеялась Ольгунка. – Оно в малиновом берете ходит. Ишь, как покраснел! Никуда не убежит ваше дело. Его папа-мама от своего домика не двинутся.
– Вы уж выдумаете, – совсем смутился Мишка. – И ничего не это. А другое дело. Пока! – торопливо зашагал он к дороге.
ГЛАВА 11
Знакомство и даже дружба Миши Вакуленко с Брянцевыми начались совсем незаметно и для него и для них.
Во дворе жакта, где жили Брянцевы, в углу между колодцем и мусорной свалкой, стояла какая-то развалюшка, должно быть остатки дровяного сарая бывшего владельца. Крыта она была железом, положенным на обрезки каких-то тоже железных прутьев, почему эту крышу и не растащили на дрова в течение всех двадцати пяти лет счастливой жизни под солнцем коммунизма. Окон в ней не было, дверь же, конечно, сгорела в чьей-то печке в какую-то морозную зиму.
Вот этот буржуазный пережиток и привлек к себе внимание первокурсника Вакуленко, когда он, окончив колхозную десятилетку, переселился в областной университетский город. Получить разрешение на ремонт за свой счет веселому Мишке было нетрудно, тем более что председательница домкома – крикливая баба лет за сорок – благоволила к юнцам, особенно круглолицым и кудреватым, а Миша обладал обоими этими качествами.
Ремонт производил он единолично и закончил его в одну неделю. Как и откуда добывал студент нужные материалы, какие-то обрезки фанеры, сучковатые слеги, ржавые, погнутые гвозди было известно только ему самому, но все это снабжение протекало без перебоев, и лишь с известью для штукатурки получилась некоторая неувязка. Едва начав штукатурить, Мишке пришлось прервать работу и проследовать с пришедшим милиционером на стройку близлежащего маслозавода. Однако и этот этап был им пройден, очевидно, благополучно, так как вернулся он уже в одиночестве и в самом радужном настроении, а, проходя мимо окна домкомши, даже подмигнул ей:
– Ничего! С каждым человеком можно договориться. Главное – психологический подход! К тому же всего полмешка, да еще извести, а не цемента. Точка!
В дождливый осенний день, когда Ольгунка, чертыхаясь, тянула на ослизлой веревке ведро из колодца, Мишка в одной рубашке выскочил из своего обновленного пережитка буржуазных времен и выхватил у нее веревку.
– С чего вы? – ощетинилась на него Ольгунка. – Сама вытяну. Чертова жизнь проклятущая, – попыталась перехватить у него веревку, но Мишка легонько отвел ее руку, ловко выхватил ведро из почти развалившегося сруба и, шлепая по грязи, понес его к дому.
– Дайте! Сейчас же поставьте, – забегала сбоку Ольгунка, – я сама. Кто вас просит?
Но студент не отдавал ведра, а только набавлял ходу.
– Идите к себе, – постепенно смягчалась Ольга, – я в калошах, а у вас ботинки худые. Вон дыра какая! Да еще в одной рубашке. Зачем вы выскочили?
Когда Миша водрузил ведро на полагающийся ему по рангу ящичный постамент, Ольгунка совсем помягчала и звонко рассмеялась.
– Вот еще кавалер отыскался! Теперь женщины равноправны, и все галантности отменены.
– Не для галантности, а для уважения, – внушительно ответствовал Миша, – я на литфаке. Всеволод Сергеевич у нас читает.
– Вот, значит, как, – в тон ему согласилась Ольгунка, – значит, уважение. Ну, уважитель, выпейте стакан чаю, как раз горячий.
– Это можно, – распустил во всю ширь свое полнолуние Мишка, – чаи, если с сахаром, это…
– Даже с оладьями, – не дала ему договорить Ольга. Так у колодца, как в седые библейские времена, завязалась дружба между недоверчивой к людям и всегда готовой ощетиниться интеллигенткой уходящего в прошлое типа и пришедшим в вуз из колхоза юнцом.
Самого Брянцева эта дружба сперва удивила.
– Ведь ты, Ольгун, вся полна протеста, то скрытого и подавленного в самой себе, то частично прорывающегося. Протеста против всей современности в целом, всего течения жизни. Тебя даже вот этот фонарь около нашего дома злит, потому что он в советское время поставлен.
– Потому что занавесок нет, и он спать мешает.
– А занавесок нет, потому что советская власть, – смеялся Брянцев, – от нее все качества. А Миша современный студент, продукт этой власти, колхозник, пришедший в высшую школу пешком, с котомкой за плечами.
– И совсем не продукт, – ершилась Ольгунка, – и раньше Ломоносов черт знает откуда пешком шел с такой же котомкой. А в Мише есть то, чего ты не хочешь или не умеешь увидеть: старое, настоящее, вечное, от земли. У него все просто и все от сердца. Он людей любит, уживается с ними не потому, что так надо, так ему кем-то предписано, а потому, что ему самому хочется ужиться, по-хорошему со всеми быть. Где ж тут современность, товарищ доцент? Современность – борьба. Борьба, грызня со всеми и против всех. Все и везде грызутся. В комнате, в очереди, в трамвае, в литературе, в учреждениях. Все теснят друг друга, давят, травят, подсиживают. Это подлинная современность, чтоб ей черт!
В установившихся и окрепших отношениях Миши с Брянцевыми, между ним и Всеволодом Сергеевичем всегда лежало какое-то пустое пространство. Они дружили, порою откровенно разговаривали на серьезные темы, но смотрели друг на друга словно через стекло. А между Мишей и Ольгой этого стекла не было. От каждого из них к другому шло тепло. От Ольги – смешанное с неизжитым в ней материнством, а от Миши – с чуть уловимым отсветом романтики, влюбленности пажа в королеву. Ольга была для него отражением какого-то иного, необычного мира, но не враждебного, а, наоборот, влекущего к себе и вместе с тем недостижимого и непонятного. Но она была сама по себе все же реальна и близка ему. Ей он выкладывал все, что попадало на сердце, даже то, чего он не говорил самым близким своим друзьям-сверстникам. Он знал, что ей можно сказать и о том, как улыбнулась ему сегодня утром Мирочка Дашкевич, его однокурсница, дочь самого популярного в городе доктора, и о том, какая морковь выросла в прошлом году на приусадебном участке его семьи.
– Вы не поверите, в полметра длиной! Да красная! Да сочная! Толщиной с руку мою.
Теперь, торопясь поспеть в город до темноты, Мишка мысленно подводил итоги впечатлениям дня. Некоторые фразы он произносил даже вслух, особо подчеркивая их, как привык делать, задалбливая в школе нудные физические и химические формулы.
«Вот они, какие немцы оказались в натуральном виде. Положим, судить по одному только передовому разъезду нельзя. Но всё-таки»…
– Значит, газеты и здесь врали. Всё равно как про колхозы, – выговорил он вслух и даже помахал сверху вниз указательным пальцем, как это делал физик в десятилетке, выведя конечную формулу, – и здесь обратно врали.
Вспомнил: Ольга Алексеевна не велела «обратно» в смысле «опять» говорить. Плюнул три раза налево и три раза вслух повторил:
– Не говорить обратно. Не говорить. Не говорить.
Так бабка научила делать, если что-нибудь запомнить нужно. Очень верный способ.
«Однако чтобы на ночь патрулей по городу не посылали, этого быть не может. Надо поторапливаться, – посмотрел он на скатившееся к самому горизонту солнце, – ничего! Тут только эту балочку перевалить, а там спуск, под горку пойдет».
В самом низу балки, у каменистого русла, по которому весною бежит ручей талых вод, кто-то сидел на обочине дороги.
«Наверное, тоже какой-то из города сбег в панике, а теперь раздумался и обратно возвращается. Здесь можно сказать „обратно“, – подумал Мишка, глядя на поднявшегося при его приближении человека. Вроде колхозника, судя по одежде. А может, возчик или сезонник, – вглядывался в него Мишка. – К тому же кривой. Эк, фотография у него разработана! По-стахановски потрудился кто-то!»
Вставший сделал пару шагов навстречу студенту, поравнявшись, повернулся и пошел рядом с ним.
– С Деминского учхоза идешь?
– Оттуда, – охотно вступил в разговор Мишка, – а ты туда, что ли, топал?
– Немцы, что по саше проезжали, к вам заворачивали? – не отвечая на Мишкин вопрос, спросил встречный.
– Оба раза даже, – ответил студент, – и когда туда ехали и когда возвращались.
– Ну, как?
– Обыкновенно, – повел плечами Мишка с видом бывалого человека и даже подчеркивая свое превосходство уже осведомленного о немцах, – как и полагается, расспросили про дорогу, по карте сверились. Разведка.
– А ваши как с ними обходились?
«Э, друг, ты вон куда заворачиваешь, – подумал про себя Мишка, приглядываясь к кривому, – ты, наверное, по заданию оставлен!» вслух же ответил:
– Тоже обыкновенно. Что ж, бабам с ними воевать, что ли?
– Это, конечно. Про хождение по городу не спрашивали?
– Как же, в первую очередь. Сказали, пожалуйста, до наступления темноты. Видишь, сам туда иду.
– Ну, значит, вместях шагаем. Ты сам-то, из каких будешь? Где работаешь?
– Студент, – отрезал Миша. «Вот навязался черт в попутчики», добавил он про себя и, должно быть, помимо воли отразил это на лице.
Кривой оглядел его сбоку своим единственным глазом и дружески толкнул кулаком под ребро.
– Ты, пацан, меня не опасайся. Я по своему делу тебя пытаю, по своей, единоличной, нуждишке. У меня в городу семейство оставлено. За ним и иду теперь.
«Может и не врет, – решил Миша. – Даже, наверное, не врет. Мало ли сегодня таких, что свои семьи разыскивают». В попутчике было что-то располагавшее к себе студента, и он сам спросил его, уже с искренним участием:
– А где жили? На какой улице?
– Коло станции. В том и корень дела.
– Тогда правильно, тебе поторапливаться следует, – посоветовал уже с полным участием Миша, – туда здорово садили. Можно сказать, центр удара был на станционный район.
– То-то и оно, – покрутил головой его спутник, – там теперь, надо полагать, крутая каша заварена.
– Значит, нажмем, – прибавил шагу студент. – Ты через Варваринскую площадь вали, а не по Красной, так ближе будет.








