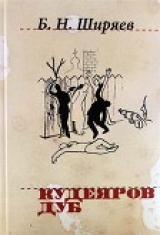
Текст книги "Кудеяров дуб"
Автор книги: Борис Ширяев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц)
ГЛАВА 4
Евстигнеевич долго не возвращался к шалашу. Брянцев слушал, как гомонили в конторе, как истошным голосом выкликала какая-то женщина:
– Всех их передушить надо! Диверсанты! В гепею надо дать знать! Какой ты после этого дилехтор, когда у тебя в конторе спиёнов полно!
– Потише ты, потише, – гудел бас бухгалтера, – прибудут власти – найдут виновников. А на всех огулом валить разве возможно? Ты рассуди спокойно.
– Нечего мне рассуждать, – взвизгивал женский голос. Теперь Брянцев узнал его. Кричала жена профорга Матвеева, тупого, подслеповатого неудачника из партийцев, подолгу томившего всех на докладах о международном положении.
«Она, – решил Брянцев, – так же, теми же взвизгами она орала третьего дня у колодца на какую-то бабу, упустившую туда бадью. И слова те же: диверсанты, спиёны. От мужа нахваталась и козыряет ими, запугивает. Права Ольгунка – страх, всюду страх. Но что ж? Значит, в профорга кто-то выпалил?»
Из темноты неслышно выполз Евстигнеевич и уселся на лавочке.
– Ну, дела, – вздохнул он всею грудью и огляделся.
– Да говори толком, расскажи, что случилось? – дергал его за рукав Брянцев.
– Тут рассказывать надо с соображением, – снова оглядел темноту Евстигнеевич. – Наше с тобой дело – стрельнул ктой-то, – слышали, верно. На то мы и сторожа. А больше ничего не знаем.
– Кто стрелял? В кого стрелял?
– Вот то-то. Кто? Через окошко пальнул и прямо ему в пузо. Он в этот раз аккурат к окну повернулся.
– Да кто?
– Известно, Матвеев, профорг. Не узнал, что ли, по голосу? Черт его узнает, визжал, как резаный поросенок. Подумать на кого хочешь возможно, – продолжал, снова выдохнув из груди, Евстигнеевич, – на кого хошь. Он, профорг, на всех писал. Хотя бы и на директора. Все на него злобятся. Только тут с другого конца подходить надо. Кто осмелился, вот в чем вопрос? Молодых ребят, так сказать, рысковых, у нас не осталось. Все мобилизованы. А старики на такое дело не пойдут. Кровью весь залился. Как есть, прямо в пузо. Директор велел запрягать, чтобы разом в больницу везть, а сам с ним собирается. Для сообщения, значит. Дело, конечно, серьезное. Ты, милок, вот что, о прохожем этом, какой закуривал, помалчивай, и Середе я тоже скажу. Молчок. Это не иначе, как чужой кто-то пальнул. Из наших некому. Ты помалчивай как черепаха. Черепахой-то спокойнее.
– Какая еще черепаха?
– Обноковенная. Не видал, что ли, в степу? Их там сколько хошь. А кто она есть, эта черепаха? Жаба, самонастоящая жаба, только костью обросла. Для того обросла, чтобы жить спокойнее. Жабу камнем пришибить очень просто или ужак заглотнуть может. А этой подавится. Кость.
– Обалдел ты, что ли, с испугу, Евстигнеевич? Чушь какую-то порешь?
– Нет, милок, – по голосу слышно, что старик уже снова повеселел, – не чушь это, а я жизнь свою так прожил в благополучии. Тоже кость, навроде черепахи себе нарастил. Думаешь, ужаков-то мало? Везде они, скрозть. Каждый тебя заглотнуть интересуется. И не убегёшь от них, некуда. А коли костью себя оградил, – живи спокойно и бежать никуда не надо. Сиди на своем месте с полным удовольствием.
– Да ты, Евстигнеевич, дарвинист, – засмеялся Брянцев, – даже больше того, сам вроде Дарвина.
– Дарвин там или дарвинист какой, – мне это ни к чему. А только считай. Вот Демина этого, который хутор наш устроил, разменяли в восемнадцатом годе, хотя не чиновник был и не офицер, так себе – крестьянин с деньгою. Тавричанами у нас таких зовут. Они нездешние. Ну, хорошо, обстроился он, думал жить-поживать, а кости-то себе не нарастил. Его – хлоп! – и нет ваших, а мне от его строительства домик тогда отвели. Понял? Живу себе тихо: пчельник, овечки, сыны при хорошей службе, дочка на докторицу обучается. Чего мне еще?
– А скажи, Евстигнеич, – тихо заговорил Брянцев и сам услышал в своем голосе какие-то давно не звучавшие в нем тона, – не бывало с тобой так, чтобы ты задумался? Вот такие же, как ты, крестьяне в колхозах живут. Живут они плохо, сам знаешь, а ты всем доволен. Прикрылся партбилетом и благоденствуешь.
– Как это прикрылся? Если без соображения, так тебя никакой партбилет не прикроет. Мало их, что ли, на моих глазах постреляли, партийцев-то, директоров, председателей? Потому – без рассуждения жили. То же и в колхозах. Живут там, конечно, очень даже плохо. А мне что? Я никому не вредительствую, не сообщал, не доказывал ни на кого. За мной такого сроду не было. Живи, пожалуйста, как тебе возможно – я не против, мне это спокойнее, когда ты хорошо живешь. А вот тот же профорг, к примеру, через что пострадал сейчас? Через свою личную глупость: в чужую жизнь влезал.
– Кто все-таки его мог хлопнуть? – сам себя спросил вслух Брянцев.
– Не иначе, говорю, чужой, – уверенно ответил Евстигнеевич, по старой злобе. Таил в себе эту злобу до времени, а пришел часок, – подвел ее к балансу. Мало ли, что ль, такого по колхозам? У вас в городу, конечно, строже, там нагляднее, а тут вот пальнул в окошко и нет его. Ищи! Теперь самое время балансу сводить.
– Думаешь так? Время?
– А как иначе? Шаткое положение. Каждый свою думку таит.
– А ты Евстигнеевич, таишь?
– Мне что, – нараспев протянул уклончивый ответ мужик, – я при своем месте. На меня никакого указания быть не может. Та ли власть останется или другая какая установится, я, как был мужик, жук навозный, так и есть до скончания.
Окно конторы всё еще светилось, и там шумели. Кто-то приходил, что-то говорил, хлопала и визжала на блоке дверь. Было слышно, как прогремела поданная бричка. Потом свет потух. Стихло. Темнота сада посерела. Потянуло сы-ростью.
– Светает, – зевнул Евстигнеевич. – Ну, теперь готовься, завтра жди гостей. Всех прошерстят, это обязательно. Так ты насчет прохожего помалчивай. Оно так и пройдет: сторожили, слышали, а знать ничего не знаем.
ГЛАВА 5
Но ожидаемые гости – энкаведисты – наутро не явились, а, вместо них, совершенно неожиданно, в будний день, пришла Ольга, да не одна, а с Мишкой. Оба, особенно Мишка, были сверху донизу обвешаны узлами, узелками, мешками и мешочками, с чемоданом и корзинкой в руках. Брянцев, заснувший на рассвете и разбуженный окликом Ольги, выбрался из шалаша, ничего не понимая со сна, сел на лавочку и даже не поздоровался с пришедшими.
– Это что за великое переселение народов? – протер он плохо раскрывшиеся глаза.
Ольгунка стряхнула с плеча вязку узлов, опустила корзинку на плантацию чистотела и, сев на нее, вдохнула всей грудью, сколько смогла, свежего утреннего ветерка. Ответил за нее Мишка.
– Эвакуация. На полный ход. Еще вчера с утра началась: по учреждениям стали списки составлять, потом бросили, и кто куда на высшей скорости.
– У нас успели составить, – едва переведя дух, заторопилась выложить свои новости Ольгунка, – наверное, заранее подготовили. В здравотделе ведь большинство евреи. Они в первую очередь. Меня тоже вписали.
– Ну? – заволновался теперь и Брянцев. – Ну и как же? Ехать?
– Я сказала, что за тобой должна сбегать. Там ведь знают, где ты. Ничего, Вера Исаевна и тебя вписала, как члена семьи.
– Ну, как ты не сообразила?! – вскочил с лавочки Брянцев. – Куда ехать, зачем ехать?
– Говорю – ничего, – передохнула и засмеялась Ольгунка, – Вера Исаевна свой человек, поняла, конечно, что я от общей погрузки увиливаю. Ей что? Не все ли равно? Но сама застраховалась, как полагается – вписала.
– Вы не беспокойтесь, – вмешался тоже разгрузившийся от своих вьюков Мишка, – никто там о вас и не вспомнит. Такой шухер по всему городу идет, что вообще никто ничего не понимает. Только одно и слышно везде: эвакуация. В институте ни директора, ни завуча. Секретарь на всех чуть не с кулаками лезет, орет: «Что я, больше вас, что ли, знаю? В парткоме справляйтесь!» А в парткоме полная пустота: у столов ящики вытянуты и перерыты. Видно, всю ночь выбирали оттуда, что полагается.
– Ну, а кто же на секретаря наседает? Профессора? Они эвакуироваться хотят?
– Какой там, – ухмыльнулся Мишка лоснящимися от пота щеками и стал разом удивительно похож на полнолуние, – тоже страхуются, видимость делают на всякий случай. Я нарочно по институтскому городку пробежал: везде туфта. Суетятся, новости выспрашивают, какие-то матрасы перетряхивают, а всерьез ехать даже и не думают. Не только профессора, но и из партийных. Кленов, например, срочно заболел. Его жена охает и трехтонку у секретаря требует. Явно для отвода глаз. Трехтонку-то уже обком забрал. Хватов остается, Бороденко, Аветьян. Марья Прохоровна мне сама потихоньку шепнула.
– Ну, так на какого черта ты все это барахло приволокла? – кивнул на узлы Брянцев. – Тут целый воз.
– Может и полтора, – задористо ответила Ольгунка, – все белье, вся одежда и вся посуда. Одни книги дома остались. Их никто не потащит. И все мы с Мишкой вдвоем доволокли! Ох, тяжело было! Ну, спасибо вам, Мишенька дорогой! Без вас пропала бы!
– Зачем все это?
– Вот увидишь зачем, – сделала знающее тайну лицо Ольга, – я, слава Богу, эвакуации гражданской воины помню, хоть и девчонкой тогда была. Все дочиста подрастеряли. Так и теперь без ничего остаться? И так голые. У тебя две рубахи только, обе старые, латаные.
– Правильно, правильно Ольга Алексеевна поступила, – подтвердил Мишка, кивая своей круглой головой с таким усердием, как будто вбивал лбом никому не видимый гвоздь. – Вы, Всеволод Сергеевич, здесь, в своей конурке обсиделись и от народа оторвались. Не слышите того, что люди говорят, особенно бабы.
– А что? – недоуменно спросил Брянцев. Но ответа не получил. Мишка прикусил язык, увидел подходящего к шалашу пчеловода Яна Богдановича.
Тот сделал вид, что не замечает наваленных у шалаша узлов, и скромно-вежливо пожал руку знакомой ему Ольги. Незнакомому Мишке только кивнул, но тоже очень вежливо и с улыбкой.
– Супруга навестить? Значит, правильно, как раз к случаю я подгадал, – заулыбался он, засовывая руку в боковой карман пиджака, – помните, про что я вам говорил, Всеволод Сергеевич? Медовое винцо, – вытянул латыш поллитровку с мутноватой бледно-желтой жидкостью. – Надо бы еще денька два дать побродить. Только разве утерпишь? Она так даже крепче. Вот и попробуем по случаю прибытия Ольги Алексеевны. Давайте посуду, во что разлить.
Брянцев пошарил в соломе у входа в шалаш, нащупал стакан и протянул его пчеловоду, но Ольга перехватила.
– Какой ты! И сора, и муравьев набилось! Нельзя же так! – вытерла она стакан углом платка, которым был укручен узел. – Вот так. Сладкое?
– Рафинад! – чмокнул губами латыш и даже возвел к небесам свои оловянные глазки.
Ольга выпила налитый ей стакан и тоже смачно чмокнула.
– Хорошо! Сладенькое и вместе с тем кисленькое. Так всю дорогу пить хотелось. Ведь эдакую нагрузку волокла! А вы, Мишенька, прямо герои труда, – сколько на себя навьючили!
– Или ишак, – ухмыльнулся Мишка. – Разница невелика. Ишаки тоже на спинах черте сколько тягают. Как, по-вашему, Всеволод Сергеевич, кто – герой или осел?
– Вы, чем с ишаком себя сопоставлять, лучше нам городские новости сообщите, – вкрадчиво попросил, протягивая ему стакан, латыш.
– Я все их разом, оптом уже вывалил. В целом, – ничего не поймешь. Ясно только одно: немцы где-то совсем близко. Эвакуация объявлена, в учреждениях неразбериха и суета на все сто процентов, ну и точка, – хватил он залпом поданный стакан. – Первый раз медовое вино пью. Не вредное! Князь Серебряный с Морозовым должно быть тоже такие меды распивали? Как, Всеволод Сергеевич? Но за что же я, собственно говоря, выпил? Так, без лозунга?
– Второй глотните, тогда лозунг сам собой определится, – налил ему еще латыш, не скрывая своей цели подпоить парня и вызвать на интересный разговор. Даже подмигнул Брянцеву белесою бровью.
Мишка хлопнул второй, прошелся спинкой ладошки по пухлым едва запушившимся первым нежным подшерстком губам:
– Пока без лозунга. Лозунг сам выявится в процессе событий, – крякнул он, тоже подмахнув бровью Брянцеву. – А события ждать себя не заставят.
– Вы в контору сегодня еще не заходили? – спросил Ян Богданович Брянцева и, не дожидаясь ответа, добавил: – Все институтское начальство там сейчас в полном сборе: директор, секретарь парткома института, завуч. И с семьями, – добавил он тише, но значительнее. Потом еще значительнее, – и с багажом. На четырех подводах.
«А из профессоров кто?» – хотел спросить Брянцев, но его сердце вдруг болезненно сжалось, словно захваченное в железные тиски. Под горло подкатил тугой клубок.
– Пройдусь немного, – едва выговорил он, – что-то с сердцем неладно. Пить я, что ли, отвык.
– Это моя вина, – засуетился латыш, – недобродившего сусла отцедил, и на сырой воде. Не дотерпел до срока. Ничего, вы прилягте – сейчас же пройдет.
Но Брянцев уже шел по аллее. Клещи боли все крепче и крепче огрызались в сердце. Колени дрожали и подгибались. Едва дойдя до лип, он совсем обмяк, и кулем повалился на траву.
– На тебе лица нет. Выпей, выпей воды, – хлопотала над ним Ольгунка, поливая ему на голову из стакана.
Брянцев слышал ее голос откуда-то издалека, все тише и тише. Потом совсем перестал слышать.
– Вот они! Вот они! – первое, что донеслось до возвращавшегося к нему сознания. Это кричал Мишка. И надо было кричать, иначе его бы никто не услышал. Над садом крутился грохочущий стрекот. Что рождало его, Брянцев еще не понимал, но чувствовал, всем своим существом чувствовал, что этот грохочущий по небу вал возвещает что-то огромное, неведомое и новое. Совсем новое. Грохот ломал, рушил нависшую над садом застойную душную тишину давившего всю степь жаркого полдня. Равномерный, беспрерывно нарастающий, он необоримо приближался, сотрясая своим гулом ветви яблонь. Казалось, сама земля и сад и степь глухо урчали ему в ответ.
Брянцев вскочил на ноги. Боли в сердце – как не бывало. Колени не дрожали. Ноги твердо упирались в гудевшую землю.
Недопеченным блином перед ним желтело растерянное лицо латыша.
«Щеки в один цвет с бородкой стали. А глаз совсем не видно, будто растеклись», – запомнилось Брянцеву.
Рядом напряженное до последней возможности, заострившееся лицо Ольгунки. У нее вся кожа стянулась к скулам – так сжала она зубы и разметнула стрижиными крыльями обе брови.
Мозг Брянцева словно сфотографировал в этот момент ее всю, до мельчайших деталей. Ощупав объективом каждый мускул напрягшегося тела, сжатые так, что ногти впились в мякоть ладони, кулаки загрубевших маленьких рук, напружиненные для прыжка колени, воткнутые в зеленый свод аллеи глаза, такие горячие, такие накаленные скрытым под ними огнем глаза, каких Брянцев не видел у нее ни прежде, ни после.
Мишки ему не было видно, но его голос слышался отчетливо и ясно, несмотря на скатывавшийся с неба грохот:
– По звуку можно было безошибочно определить. Наши моторы совсем не так верещат – тише и чаще. Прямо на нас идут. Сейчас увидим.
Все четверо выбежали из-под кленов на полянку, к высокому пеньку срубленной яблони. Отсюда был виден весь полог раскинутого над степью гладкого, отутюженного накалом летнего дня неба. Из-за обрамлявших сад деревьев опушки на эту безоблачную гладь выползла огромная, поблескивающая металлом стрекоза. От нее и из-за нее выкатывался грохот.
– Двухосный. Видите, шасси какое? – слышал Брянцев голос Мишки и ясно ловил в нем интонацию жгучего интереса, напряженного ожидания.
«А страха? Вражды? – спросил сам себя Брянцев. – Нет их. Совсем нет, ни на полтона».
– Теперь и опознавательные знаки видны. А за ним другой, третий. Низко идут. Метров на пятьсот, не больше. Четвертый. Пятый.
Пять громко урчащих машин, построенных неполным клином, всплыли над садом. За ними уступом еще двое. Снизу казалось, что они шли медленно, словно не сами своей силой, своим стремлением, а какое-то невидимое с земли воздушное течение несло их на себе, и в этом, именно в этом, было самое страшное. Страшное своей несокрушимой силой, неведомой, непонятной и неотвратимой, как судьба.
– Вот и новый хозяин пожаловать соизволил. А с чем – кто же его знает? – услышал Брянцев голос стоявшего под яблоней Евстигнеевича. Ему показалось, что старик над чем-то хитровато посмеивается.
ГЛАВА 6
На дворе учхоза сгрудилось в галдящую галочью стаю почти все его население, по крайней мере низший его слой. Высший, директор, бухгалтер и парторг, заседали, затворившись в канторе вместе с институтским начальством, подводы которого стояли нераспряженными под навесом, хозяйственно, крепко сложенного еще расстрелянным Деминым амбара. На бричках и тачанках – крытые горы беспорядочно наваленных узлов, ящиков, чемоданов. Из иных, незабитых, торчали свиными ушами полы пиджаков и лениво свешивали рукава зимние пальто.
Кучеров и конюхов при подводах не было. Лошади были взнузданы, и вожжи неумело обвязаны вокруг столбов навеса. Их петли путались в ногах у тревожно и суетливо копавшихся в барахле женщин – жен начальства.
Безбровый и безлобый, толстощекий директорский сын, точь-в-точь слепок с такой же, но уже заметно обрюзгшей матери, примеривался пустить камнем в удивленного необыкновенной суетой кирпичнорыжего петуха. Мать его тянула за угол из-под наваленной сверху клади какой-то узел, откачнувшись назад всем грузным телом. Узел вылезать не хотел. Руки директорши соскользнули, и она смачно шлепнула о притоптанную до глянца землю круто выпиравшим гузном. Слепок испустил крик восторга.
– Матери твоей черт! – метнула в него родительница. – Нет, чтобы помочь в такое время, а горлопанит!
– В кучу не сбиваться! – размашисто выкрикнул вышедший на крылечко конторы Середа. – Как раз по скоплению и ахнет! К стенам становитесь или под деревами маскируйтесь, как вам объясняли!
Кое-кто из баб торопливо перебежал к саду. Отрываться от кучи было страшнее, чем стоять в ней, хотя и на виду.
Шедший головным аппарат повис над самым двором и дал какой-то завывный перебой в реве мотора.
– Вот сейчас бросит! – взвизгнула Капитолинка, и вся толпа, давясь и спотыкаясь, метнулась под навес амбара, забила его выкликами, причитаниями, всхлипом. Директорша так и не встала с земли, а прямо переползла под воз на четвереньках.
– С нами сила Господня! – мелко закрестила там она, распиравшую платье-капот, полновесную грудь.
– В таких как раз завсегда и попадает, которые от своей дури лезут, – раскатился с крыльца хрип Середы. Сам он был спокоен и даже явно склонен к некоторому сарказму. – Овцы! Как есть овцы на пожаре! Никакого различия.
Но рокочущий вал уже перекатился через хутор к видному с него, как на ладони, городу.
Сначала поодиночке, потом табунчиками вылезли из-под навеса спрятавшиеся там и снова затолпились на дворе, вглядываясь в затуманенный зноем город.
Из сада вышел Евстигнеич, за ним вразброд остальные, латыш последним, с таким же, как и там, облезлым лицом.
Над правым, прилегающим к полотну железной дороги, краем города вздыбился большой кудлатый столб черного дыма и рядом с ним два других поменьше. Взметнулись к небу и расползлись в верхах, как гигантские грибы-опёнки.
– Бросил! – увесисто объявил Середа с крыльца, и в ответ ему в городе ухнуло, а потом рвануло целой горстью сухих резких ударов.
В толпе закрестились. Босоногая девчонка в одних трусиках, с коричневым от загара телом и лохматыми, нечесаными мутно-желтыми волосами, завыла и побежала к дому. За ней – две женщины, но на краю двора стали, потоптались на месте и снова вернулись к табунчику.
– Бьет метко, – засвидетельствовал с крыльца Середа, принявший на себя обязанности, если не военного руководителя, то, во всяком случае, специалиста-комментатора начавшейся битвы, – в нефтехранилище при станции ударил. Вишь, как густо черный дым пошел! Значит, нефть загорелась.
– Что теперь там, на станции делается! Могу представить, – шепнул Мишка Брянцеву, – всю ночь шла погрузка, все пути составами забиты. Неразбериха была, что называется, на все сто. А теперь, надо полагать, еще процентов на двести повысилась. Перевыполнение плана!
Второй бомбовоз сбросил свой груз также над станцией, а остальные проплыли несколько дальше и раскатисто прогромыхали там.
– Выходит, будто по Архиерейской роще садит, по оврагам? – озадачился Середа. – С чего бы ему туда бить?
– Вчера и третьего дня там окопы рыли. По ним и бьет, – ответил ему теперь уже во весь голос Мишка.
Бомбовозы сменили курс и тем же строем пошли на север, а с запада, из-за сада, уже слышалось хриплое урчанье второй волны. Еще пять громоздких двухосных машин пророкотали над Деминским хутором, а над залитым полуденным солнцем городом поднялись новые столбы дыма, то серые, то черные. Поднявшись во весь рост, они растеклись под облаками, покрыв своею тенью полгорода. Под двумя из них заиграли языки желтого пламени.
Через ровный промежуток прошла третья волна. За ней – четвертая и еще две.
Табунчик на дворе не расходился и не редел. Даже наоборот – загустел: из домов, подвалов, картофелехранилищ и силосных ям выбирались те, кто там сначала прятался. Страх почти растаял. В головах всех собравшихся ясно оформилась одна и та же общая для всех мысль. Вслух ее высказал Евстигнеич:
– В нас бить не будет. Никакого ему нет расчета нашу навозную кучу бонбой ковырять, – как всегда, несколько иронически проговорил он, ни к кому в отдельности не обращаясь, – знает, видно, куда следует ударить, в точности.
– С такой-то высоты и слепой попадет, – ответил ему Середа. Не более трехсот метров. Можно сказать, в упор. Ничего не опасается, а наша артиллерия молчит.
– Какая там артиллерия – ни одной зенитки в городе нет, – отозвался теперь уж совсем громко Мишка, – а пехота! нагнали до черта. Все, за последнее время мобилизованные, еще в городе. Оба института, музей, клуб совторгслужащих – всё ими забито. А винтовок нет. Сам видел: с палками их на учение водили.
– Наверно, и плант городской у него имеется, – продолжил свои соображения Евстигнеич.
– Спиёны, – взвизгнула по привычке Капитолинка, но огляделась кругом и скисла.
Две стоявшие рядом с нею бабы отошли в сторонку. Капитолинка еще огляделась и скинула на шею свою красную косынку.
Начальство высыпало из конторы при первой же волне, но держалось особняком, группируясь под старой корявой грушей возле крыльца. Тихо переговаривались между собой. Полноватый, медлительный директор института был, несмотря на жару, в заношенной кожаной куртке со слежавшимися складками, что сейчас же отметил Евстигнеич.
– Кожушок-то на нем, на дилехторе, должно с девятнадцатого года. Тогда на такие у комиссаров мода была, – подтолкнул он локтем Брянцева, – смотри, слежался, будто утюгом по нем пройдено. Приберег, значит. Вот и пригодился. Правильно, – одобрил он.
Зав учебной частью, читавший также в институте диамат, в шляпе и тяжелых роговых очках, придававших ему необычайное сходство с совой, весь такой же, как эта птица, серый и встопорщенный, прошел под навес к подводам и завозился около лошадей.
– Павел Павлович, – позвал он оттуда директора учхоза, – здесь, очевидно, упряжь не в порядке. Какие-то ремни болтаются. Пришлите, пожалуйста, конюха.
Сторожкая молодая гнедая кобылка переступила с ноги на ногу и брезгливо лягнула его.
– А, черт бы тебя с таким транспортом! – отскочил от нее завуч.
– Аккуратней с лошадьми надо бы, – наставительно сказал подошедший директор совхоза и сам перетянул ремни упряжки. – Не привыкли? Привыкайте. Для будущего не вредно. А к коню сзаду не жмитесь.
От города донеслось равномерное цоканье, а потом разом, перебивая одна другую, застрочило несколько равномерно отстукивающих машин.
Брянцев в первый раз за этот день ощутил страх. Этот равномерный, машинный, бездушно-неумолимый постук пугал его еще на полях Галиции. Давно. Теперь он, отраженный памятью, снова пробежал оторопью по его спине и коленям.
– Пулеметы в самом городе бьют! – уверенно объявил Середа и, словно удовлетворенный этим, пояснил: – Значит, кончено дело. Пиши в сводках новое направление «по стратегическим соображениям», – хрипанул он потише.
Начальство разом заспешило под навес. Там женщины уже громоздились на подводы, поверх наваленных на них тюков, и тянули к себе примолкнувших детей. Лица всех посерели.
Директор института первым распутал вожжи, тяжело плюхнулся на передок и выкатил из-под навеса, шаря правой рукой за бортом кожаной куртки.
– Деньги, что ль, щупает, – размыслил вслух Евстигнеич, – а может и крестится на путь предстоящий, хотя и партейный…
Завуч неумело задергал вожжами, подкрутил передок своей тележки и сцепился колесами с нагруженным горой возом худого, как жердь, страдающего язвой желудка, парторга Жукова. Жуков порывисто повернулся к нему, блеснув оскалом золотых зубов в провале безгубого, как у черепа, рта.
– Куда прешь, черт очкастый? – злобно выкрикнул он, осаживая задравших головы коней.
– На Темнолесскую повел, – проводил глазами выехавшего со двора директора Евстигнеевич, – значит, на Нальчик маршрут. Ну, что ж, с Богом!








