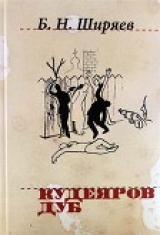
Текст книги "Кудеяров дуб"
Автор книги: Борис Ширяев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)
Напряженно смотревшая на пришедших Ольга взяла с тарелки только что испеченную парующую оладину и медленно, продолжая неотрывно вглядываться в лицо бородатого, подошла к нему. Перекрестилась и протянула оладину:
– Прими, Христа ради, человек Божий!
В тусклых, выцветших глазах старика промелькнул теплый свет. Промелькнул и снова погас. Взяв лепешку, он тою же рукой широко перекрестил Ольгу.
– Благословенна будь, дщерь сионская, в путях тебе предначертанных.
Потом проурчал еще что-то, увязшее в его бороде, и закусил подаяние.
Ольгунка опустилась на колени и в землю поклонилась старику. Смиренная, тихая вернулась в шалаш. Все молчали, и в наступившей тишине было слышно, как чирикал прыгавший по аллее воробей:
– Жив-жив! Жив-жив!
– Звать-то тебя как? – словно невзначай спросил Евстигнеевич кривого.
– Поп Иваном крестил, а люди Вьюгой от себя докрестили.
– Посеявшие ветер пожнут бурю. Возвратися ветер на круги своя, – прошуршало в сивой бороде так тихо, что услышало эти слова только напряженное ухо Ольги.
– Жив-жив! Жив-жив! – ликующе чирикал воробей.
ГЛАВА 16
В типографии, куда Брянцев пошел тотчас же по возвращении в город, он разом попал в распростертые мощные объятия Шершукова. До того они не были знакомы. Шершуков знал Брянцева в лицо, как большую часть сотрудников краевой газеты и просто часто бывавших в редакции. Видал в ней и Брянцев Шершукова, но теперь лишь смутно вспоминал его выделявшуюся среди рабочих крупную, осанистую фигуру.
– Ну, теперь все в порядке, – тряс чуть не до вывиха в плече руку Брянцева Шершуков, – к вечеру экстренный выпуск отстукаем на американке! За нами задержки не будет. В момент наберем и сверстаем две полосы. Гоните только материал! Заголовок пока афишными наберем. Как назовете новорожденную, – вытянулся во весь рост Шершуков, – русскую свободную беспартийную газету?
Последние слова он произнес тем же торжественным, высокопарным тоном, каким еще так недавно заканчивал свои выступления на рабочих собраниях, провозглашая имя гениальнейшего, мудрейшего вождя народов.
– Позвольте, позвольте, – Брянцев даже на шаг отступил перед этим бурным натиском. – Как же так. Сразу. Ни сотрудников, ни помещения, ни машинистки. Ничего еще не организовано…
– Темпы! Темпы, господин профессор! – особо подчеркивая титулование, выпалил, как из пушки, Шершуков. – Темпы решают все, как говорит товарищ… А, черт бы его побрал! В общем же и целом, переживаемый нами момент глубоко революционный.
– Но, прежде всего, нужно утверждение меня в должности редактора.
– Утверждение у меня в кабинете сидит и сводку с немецкого переводит. Идемте! – подхватил Брянцева под руку Шершуков и столь же стремительно повлек к низенькой двери в глубине канцелярии. Оглушенный Брянцев успел лишь заметить, что за всеми столами сидели бухгалтеры, счетоводы, кассир. Они что-то записывали в разостланные полотнища ведомостей, щелкали костяшками счетов, – словом, все шло обычным, установленным порядком рабочего дня в советском учреждении. Это его поразило и запомнилось. Остальное ушло в туман. Запомнился еще осыпанный осколками битого стекла подоконник подслеповатого маленького кабинетика зава типографии, где за едва помещавшимся в нем письменным столом сидел пожилой немецкий офицер с коротко подстриженными, переходящими в лысину седыми волосами.
– Вот ваше утверждение в должности. Оно же и непосредственное начальство, – подтолкнул к нему Брянцева Шершуков, – а вам, Василий Васильевич, честь имею представить главного редактора газеты, профессора Брянцева, – снова подчеркнул он ученое звание.
– Только временное и даже очень кратковременное начальство, – протянул ему руку офицер и назвал себя: – Полковник фон-Мейер. Кратковременное, потому что я – офицер штаба дивизии, а не абтейлюнг-пропаганды, отдела, говоря по-русски, который прибудет потом. Тогда и организуете работу, как надо. А пока мы, то есть штаб дивизии, будем давать вам лишь краткие сообщения, чтобы внести успокоение в среду населения. Ну, и сводки, конечно. Вот вам первая, – протянул он Брянцеву три листа, исписанных мелким, бисерным, но очень четким почерком. – И еще там, что сможете и найдете нужным, печатайте, конечно, но коротко. И, пожалуйста, первый выпуск сегодня же. Успеете?
– Не беспокойтесь, Василий Васильевич! – ответил за Брянцева Шершуков и приложил ладонь к виску, как бы отдавая честь.
– К пустой голове руку не прикладывают, – засмеялся немецкий полковник, – так в русской армии раньше говорилось. И ладонь нужно распрямить и довернуть, – поправил он растопыренную пятерню Шершукова. – Вот теперь настоящее русское отдание чести. Ну, я ухожу. Вернусь в пять, нет, даже в четыре тридцать. Тогда просмотрим корректуры и поговорим подробнее.
– Будьте покойны-с. Точно! – уже вслед ему рапортовал Шершуков.
– Кто это? – только и нашелся спросить его Брянцев.
– Видите теперь, как немцы дела делают? – спросил его в свою очередь Шершуков вместо ответа. – Безо всякой волокиты и бюрократизма. На слово. Полное доверие. Раз, два, – и в дамках. Вот это действительно темпы! – упер он руки в бока.
– Нет, кто этот полковник? По-русски он говорит без малейшего акцента.
– А зачем ему этот акцент, когда он, Василий Васильевич, родом из Крыма. Теперь, понятно, эмигрант. Ну, его автобиографию сами потом узнаете, а сейчас, не теряя минуты, начинаем. Где будете работать? В редакции? Тогда пошли, там уже кто-то есть.
Редакция краевой газеты занимала два этажа в том же доме, над типографией. Шершуков уверенно взбежал по лестнице, шумно вздохнул, отдулся и покрутил головой.
– Склерозец. Ничего не попишешь, – хлопнул он себя по широкой груди и с удивлением осмотрелся, – ничего не поперли! Даже занавески на месте. Удивительно! – протянул он. – А вы видели в крайкоме? Все дочиста растащили. Да, впрочем, вас в городе не было. Тут такое вчера творилось, больше, правда, по части продуктов питания. Ну, и мануфактуры, конечно. Вот и ваш кабинет, – растворил он плечом обе половинки двери и театрально расшаркался. – Ну, я смываюсь. Жду материала. Не задержите.
Оставшись один, Брянцев оглянул знакомый ему редакторский кабинет. Все, как было. Все в полном порядке, только серый налет пыли на большом, покрытом зеленым сукном столе редактора, на массивном письменном приборе с бронзовым бюстом Ленина, да разбитые стекла в окнах говорили о прерванной внутренней жизни, размеренно протекавшей в этой комнате.
«С чего же начать? Как начать», силился связать в плотный узел беспорядочно клубившиеся в его голове мысли Брянцев? «Была четко налаженная, действовавшая без перебоев машина, ее агрегатами, винтами, шестернями, валами были десятки людей. Теперь их нет. Значит, нет и машины?»
– Сейчас я только со стола обмету и с подоконников уберу, а вечером полный порядок наведу. Сегодня уж как-нибудь так поработайте.
Оглянувшись, Брянцев увидел незаметно вошедшую широколицую, широкобедрую уборщицу Дусю с ее неизменными атрибутами – ведром, метлой и тряпкой. Увидел и обрадовался ей, как родной. Даже метле и грязной тряпке обрадовался.
– Дуся! Вот хорошо, что вы здесь!
– А где ж мне быть? – просто, по-домашнему ответила техничка. – Комната-то моя при редакции. Я все эти дни, когда самый грабеж шел, в ней и сидела с ребятишками. Нижнюю дверь заперла. Застучат, а я им в ответ: «Немцы здесь, занято». Этим только и отбилась, а то бы все начисто растащили.
– Вот какой вы молодец. Только вы одна здесь и остались? Зачем одна? С нашего двора никто не эвакуировался. Надя-стенографистка здесь, Мария Гавриловна – в библиотеке. Куда им с детьми ехать? А из сотрудников только один Котов два раза приходил. Он и сейчас здесь. Позвать?
Дуся поставила ведро на пол и, раскачивая бедрами, выплыла в коридор.
– Вот он сам идет! – крикнула она оттуда, снова заглянув в дверь.
В кабинет вошли двое. Брянцев знал обоих. Впереди прямой и высокий, похожий на англичанина с иллюстрации к Жюль Верну, сотрудник редакции Котов, всегда удивлявший Брянцева своей исключительной сдержанностью, резко выделявшей его в среде шумных, торопливых и размашистых работников газетной кухни. За ним – хорошо знакомый – студент-выпускник Зорькин, всегда ловивший Брянцева в коридоре института с дополнительными вопросами, в которых неизменно чувствовалась недоговоренность, боязнь самому поскользнуться.
– Слышал от Шершукова, редактором назначены вы. Очень рад, – пожал протянутую Брянцевым руку Котов. Фразу он выговорил медленно, тихо, раздельно и без улыбки. – Кстати, ваше имя и отчество? Простите, я не знаю, а «товарищ», надо полагать, навсегда отменен. Вот очерк городской жизни за последние дни. Трудно, конечно, писать, не зная требований и цензурных условий. Однако факты говорят сами за себя. Осмотр подвалов НКВД – ужас. Стены забрызганы кровью и мозгами. На полу разорванные в клочья трупы.
– Гранаты в окна кидали, – не утерпел вставить, захлебываясь сенсацией, студент. – Что там сейчас творится – уму непостижимо! – схватился он за голову. – Родственники сбежались! Плач! Крик! Дети!
– У вас о том же? – протянул руку к листку студента Брянцев.
– Нет, у меня повеселее. Хроника. Уличные сценки. Но тоже очень интересно. Директора маслозавода рабочие убили при попытке поджога.
– Это, по-вашему, весело? – покосился на студента Котов.
– А как же? – наивно удивился тот. – Всем интересно. Пожар элеватора тоже. – Рылся в своих листках студент. – Еще – реестр запасов продовольствия, обнаруженных в закрытом распределителе. Целый «Гастроном», – прищелкнул он языком с завистью голодного человека. – И сейчас еще оттуда таскают. Я только у зава выборку из складной книги взял. Не все, конечно, но самое главное, – частил Зорькин, – масла две тонны, сыр, ветчина дальше, вот и ещё… Только почерк у меня аховый.
– Пошлите Дусю за машинисткой Надей и передиктуйте, – посоветовал Котов. – Вашу куриную скоропись в набор не примут, – брезгливо приподнял он со стола один из листков. – Дуся!
– Разместимся пока здесь, господа! Всем вместе в одной комнате удобнее. И начинаем работу, – чувствуя как с каждым словом крепнет его голос и уверенность в себе, распорядился Брянцев. – Итак, в экстренный выпуск, две полосы, у нас есть уже сводка, три объявления от немцев, ваш очерк, хроника. Теперь моя передовая и, пожалуй, будет уже достаточно. Перья вот все острые, – порылся он в мраморной вазе, стоящей на редакторском столе, – досадно. Привык к рондо. Ну, сажусь, – опустился Брянцев в кресло и придвинул к себе большой блокнот с бланком главного редактора. Оборвал с него несколько верхних исписанных красным карандашом листов и обмакнул перо в загустевшие чернила.
«Вот и двинулась в ход машина, – думал он про себя. – Агрегаты появились сами собой. Как все легко получилось! Ну, – сдавил руками виски Брянцев, – первые слова первой передовицы первого номера первой в нашем крае свободной русской газеты. Как прозвучат они?»
Брянцев еще сильнее сжал виски, словно прессуя в них хаос клубившихся мыслей, и с каким-то внезапным порывом схватив перо, уверенно написал первые слова Великого Манифеста:
«Осени себя крестным знаменем, православный русский народ».
ГЛАВА 17
Рабочая жизнь редакции быстро налаживалась. Брянцеву казалось, что и он, и сотрудники, число которых с каждым днем возрастало, разом вливались в какое-то, уже проложенное когда-то и кем-то, русло, шли по проторенной дороге, открывавшейся им самим шаг за шагом, без поисков и усилий с их стороны. Немецкий цензор не мешал. Он аккуратно приносил переводы сводок, приказы и оповещения комендатуры, а от просмотра корректур в большинстве случаев отказывался:
– Мне некогда. В немецких штабах много работы. Но ведь не будете же вы помещать статьи, направленные против Германии? Остальное же – городские новости, беллетристика и прочее их не интересует.
– Вы всегда говорите о немцах в третьем лице: они, их, – сказал ему как-то Брянцев. – Но ведь вы немецкий полковник, да и по крови, по крайней мере, по фамилии, немец?
– Не только немецкий, но и русский полковник, – с осветившей его лицо бледной и несколько грустной, но вместе с тем теплой улыбкой ответил фон-Мейер, – да и по крови. Кто подсчитает, сколько ее во мне, русской и сколько немецкой. Не в том дело.
– А в чем же?
– Вот в том, что родился, вырос и прожил лучшие годы жизни в России, – совсем уже грустно, без улыбки ответил старый офицер, – в том, что позже телом жил в Германии, а душой вот здесь где-то.
– Счастье ваше, что не наоборот, а то, пожалуй, вашего тела не было бы теперь ни в России, ни в Германии.
– Счастье или нет, – не знаю. Но в эмиграции, особенно в первые годы, это не было счастьем. Скорее мукой. Я чувствовал себя тогда беглецом, изменником, дезертиром, трусом. Это было тяжело. Особенно для тех из нас, кто был воспитан в традициях служения родине.
Брянцев понял, что коснулся каких-то сокровенных, запрятанных в глубь души струн, что расспрашивать дальше фон-Мейера неделикатно, нечутко, но не смог удержаться от вопроса:
– А теперь?
– Теперь нет, – твердо ответил фон-Мейер, – теперь я снова служу ей.
– Даже в этом мундире?
– Мундир – условность, неизбежный тактический маневр. Впрочем, и у меня были видимо волнующие вас теперь сомнения, пока я воочию не насмотрелся картин современной России, вернее того, во что ее превратили. И еще другого…
– Чего?
– Того, что населяющие ее люди – такие же самые, каких я видел, прощаясь с Россией, остались теми же самыми, а не превратились в уродов, какими мы их представляли себе, живя за рубежом.
Но подобные разговоры, в которые Брянцев часто пытался втянуть фон-Мейера, были все же редкими. Полковник явно избегал их и после двухтрех вырвавшихся у него фраз круто менял тему.
Брянцева это удивляло и даже обижало. В уклончивости Мейера он видел недоверие к себе, но Ольгунка, когда Брянцев рассказал ей об этом, посмотрела с другой стороны.
– А как иначе? Не забывай, что он состоит офицером германской армии. Мундир обязывает ко многому, а его – к еще большему, чем природного немца. Вероятно, на него там если не косятся, то, во всяком случае, смотрят несколько недоверчиво, не как на вполне своего. А двойственность в его душе чувствуется – те же сомнения в своей правоте, как у тебя. Но разве ты болтаешь о них каждому встречному? Эх, ты, интеллигент мой российский! – дернула Брянцева за волосы Ольгунка. – Не можешь обойтись без рефлексии, без нудных противоречий с самим собой. Бери лучше пример с Мишки: у него все просто и ясно. Стал на дорогу, так идет по ней, не озираясь по сторонам.
– А что он, кстати, делает?
– Об этом сам тебе расскажет, – загадочно ответила Ольга. – Лучше ты мне расскажи, как идет работа в редакции.
– Там все гладко, – разом повеселел Брянцев. – И знаешь, странно, редакция стала каким-то русским центром, особенно в первые дни по занятии города. Кто только ни приходил и с какими только вопросами не обращались! Для прямой работы времени не оставалось. Ибрагимова и еще какая-то учительница приходили о своих мужьях справки наводить. Этих мужей арестовали перед самым приходом немцев и, конечно, куда-то угнали, раз среди трупов их не нашли. А об этих угнанных самые печальные сведения: половину или больше того в глубокой балке из пулеметов ликвидировали. Немцы там около сотни не зарытых трупов нашли. Я и направил их туда: неизвестность еще тяжелее. Стасенко, помнишь, такой длинный, в прошлом году институт окончил, этот прибежал узнавать, где ему получать разрешение на открытие ресторана. Не пропадет парень, – разом врос в капитализм.
– Не он один. Ты посмотрел бы базар – кого и чего там только нет. И спекулянтки, эти, конечно, всюду поспеют, и пригородные колхозницы, и городские интеллигентки – все за торговлю взялись! Кто чем! Колхозницы овощами, картошкой, мукой из разбитых амбаров, городские – добытым со складов распределителей. Конечно, и те и другие награбили. Впрочем, зачем это глупое слово? Не награбленным, а своим, конечно, своим, недоданным им, у них выхваченным!
– Интересно! Надо туда репортера послать.
– Как важно, – репортера! А у тебя их много?
– С каждым днем прибавляется. Первый номер делало нас трое, а теперь уже за дюжину перевалило.
– Ого! Кто же? Знакомые есть?
– Почти все знакомые. Неожиданные скрытые таланты в них открылись.
– Даже таланты!
– Да. Таланты. Бухгалтер плодовоща Крымкин такие фельетоны пишет, что и Дорошевичу не стыдно было бы. Помнишь его? С бородкой, вид уездного Мефистофеля и псевдоним себе избрал «Змий». Наших студентов человек пять во всех жанрах упражняется. Стихов, конечно, непрерывный поток. Но главное интересно то, что все стали хорошо писать: искренно, доходчиво.
– Потому что много на душе накипело, паров в ней накопилось. Знаешь, Всевка, – Ольга замолчала, подошла к окну, посмотрела на залитую осенним солнцем пустую улицу, по которой деловито разгуливало две курицы, и досказала: – Знаешь, я думала, если бы найти такой способ, чтобы все эти накопившиеся в человеческих душах за советское время пары пустить разом в дело, в творческую работу, что б тогда было?
– Мечтаешь ты, как всегда. Тебе бы Гербертом Уэлсом быть.
– Нет, ты послушай. Я знаю, что будет, – постукала Брянцева по лбу Ольгунка, – смотри, после бегства советов едва лишь неделя прошла, а как, разом все ожило! Все начали что-то делать. Одни на базаре торгуют, другие рестораны открывают. Профессор Гриценко забегал сегодня, думал тебя утром застать. Он брошенные по учрежденским библиотекам книжки собирает. Что-то задумал: то ли книготорговлю, то ли библиотеку, а может и то и другое вместе. Об этом он и хотел с тобой поговорить.
– Не люблю его: хитрый, двуличный хохол.
– Это неважно. Сволочи были и будут. Всегда будут, всегда! – уверенно повторила Ольгунка. – Но надо так, чтобы и они делали дело. А хороших людей тоже достаточно. Мария Васильевна, например. Она с бабами какими-то собрала беспризорных коров в Архиерейском лесу и теперь «Каплю молока» для больных детей организует.
– Знаю. Была у меня. Свел ее с немцами. Те тотчас же за неё схватились, во всем пошли навстречу: помещение ей отвели, дали ордер на получение кормов, сепаратор и еще что-то там. Одним словом, все имущество советской «Капли молока».
– От которой населению ни одной капли не приходилось? – злобно вставила Ольгунка.
– Да, она молодец, деятельная, – пропустив мимо ушей реплику Ольги, продолжал Брянцев. – Кроме того, церковь ремонтирует в бывшем клубе Спартака. Тоже все своими силами. Вот никогда не подумал бы, что в этой скромненькой, тихой, безличной, как казалось, машинистке окажется столько инициативы и энергии.
– А главное – воли к добру. Вот я и твержу тебе все время про это. Это тот самый сдавленный советами пар рвется наружу. К добру. К свету рвется.
– Ну, и к злу тоже, моя дорогая! В редакцию достаточно этой дряни тащат. Форменные доносы под видом фельетонов и корреспонденций. Сведение личных счетов или просто пена кипящей злобы.
– Что ж, и ее накипело достаточно. Это естественно. Разве могло быть иначе? Но ведь и злоба, Всевка, и ненависть могут быть тоже направлены к добру, если они вступают в борьбу с другою, сильнейшей ненавистью.
– Опять зафилософствовала!
– Никакой тут философии, а самая обыкновенная, вот такая повседневная, обывательская жизнь, – обиделась Ольгунка, но тут же снова вспыхнула изнутри, выкрикнула: – Вот Мишка, например! – выкрикнула и тотчас же прикусила язык. – Не могу еще пока сказать, это его тайна. Он сам тебя в нее посвятит.
– Посвятит, так посвятит. Будем ждать. А вот с обедом ждать не буду. Мне нужно опять в редакцию бежать.
– Ждать не придется, все готово. Да еще что готово-то! Угадай! – сняла Ольга с примуса прикрытую тарелкой сковородку. – Ни за что не угадаешь. Твоя любимая рыба! Свежая! Сегодня утром в озере еще плавала. А к ней – грибной соус.
– Откуда такие деликатесы?
– От свободы, дорогой мой, все от нее. На Сенгилеевском озере, помнишь, охрана всегда стояла. Черт их знает, что там чекисты оберегали, границу аэродрома, что ли. Но ловить рыбу никому не давали, да и вообще гоняли всех с берега. Теперь ребятишки побежали туда, конечно, раков ловить. А там уже немцы гранатами рыбу глушат. Крупную себе взяли, а мелочь отдали мальчишкам. Те два ведра на базар приволокли. Тоже предпринимательством занялись, и, кстати, грибов по дороге набрали. Говорю тебе, Всевка, изо всех этих сдавленный пар прет.
Ольга сняла со сковородки тарелку и, как фокусник, наслаждалась эффектом, весело смотря на втягивавшего носом запах любимого кушанья Брянцева.
– Дары свободы!
– Добавь – желудочной. Ну, пожалуй, еще по наполнению карманов. А о прочих ее видах пока помолчим. Я, знаешь, вчера смотрел карту будущей Восточной Европы по немецкой планировке. Весь юг России – Украина, отдельное государство под германским протекторатом. Русская граница проходит к северу от Курска. Одесса – румынская. Крым, кажется, полностью германский. На Кавказе какая-то неразбериха: федеративное казачье царство, еще какие-то лоскутные союзы, но в целом тоже немецкая сфера.
– Начертить на бумаге что угодно можно, – спокойно и даже несколько презрительно откликнулась Ольгунка, но потом разом помрачнела, – чушь все это. Ничего подобного никогда не будет!
– Немцы иначе думают. И знаешь, что особенно интересно: показывает мне зондерфюрер эту карту и уверен, глубоко уверен, что она должна мне очень понравиться! Расплывается в самой благожелательной и вполне искренней улыбке. «А вам», говорит, «мы предоставим Персию с выходом в Индийский океан. Колоссально! Какие необозримые перспективы! Вы станете великой азиатской страной, владеющей двумя океанами. В этом ваша историческая миссия».
– Как раз! – стукнула о стол опустевшей сковородкой Ольга. Здорово выдумал! Азиаты! Никогда этого не будет! Не дадим!
– Кто это «не дадим»? Какие силы? – усмехнулся Брянцев. – Ты, что ли, с Мишкой?
– Сила опять тот же пар, – уверенно и спокойно проговорила Ольга. – Это земля парует. Русская земля. Понимаешь?
Брянцев не ответил.
Возвращаясь в редакцию, он завернул на базар. Несмотря на поздний час – было уже около трех – вся площадь кишела народом. С въезда, там, где в нее вливались две главные улицы, что-то строили. Брянцев рассмотрел два свежеотструганных толстых столба, к которым стоящие на лесенках плотники прилаживали перекладину с ввинченными в нее большими железными кольцами. Сомнений в назначении этой конструкции быть не могло.
«Виселица!» – передернуло Брянцева. «Вот тебе и свобода, о которой твердит Ольгунка. Пар земли русской. Плотники-то русские ставят, немецкий унтер лишь распоряжается».
– Всеволод Сергеевич! – окликнули его сзади.
Отдельной группой, не смешиваясь с толпой, позади Брянцева стояли три студента. Двух из них он узнал – Броницына и Мишку. Лицо третьего ему лишь смутно припоминалось.
– Идите к нам, Всеволод Сергеевич, – звал Мишка, – разрешите наш спор. Вот Таска, – указал он на незнакомого студента, – протестует и возмущается этим сооружением, а Броницын говорит: так и надо.
– Надо! – горячо, почти раздраженно выкрикнул сам Броницын. – Надо! Слишком много всякой сволочи развелось. Нельзя иначе! Надо! Надо! Надо!
– Что же получается, – так же горячо возразил ему тот, кого Мишка назвал Таской, – то в подвал тащили и там шлепали, а теперь на базаре на перекладину вздергивать будут. Прежде вниз, а теперь вверх. В этом только и разница. В двух этажах.
– А вы, Миша, как думаете? – спросил Брянцев, вспомнив недомолвки Ольги. – Надо или не надо?
– Сам не могу этого решить, Всеволод Сергеевич, – почесал себе вихры Мишка, – и надо… Прав Гришка, много сволочи, и… обидно. То обидно, что эту хоть и сволочь, а все-таки нашу сволочь, чужие вешать будут. Если бы мы сами, – тогда другое дело. Тогда – надо.
– Договорился, – развел руками Таска, – собственноличную кандидатуру в шлепальщики и вешальщики, в общем и целом в палачи выставил.
– Надо! Надо! – упрямо повторял, словно дятлом кору долбил, Броницын. – Сволочь уже теперь на верхи выскакивает, на всех руководящих должностях партийцы утверждаются. Наш Плотников, например, член бюро комсомола, самый твердокаменный во всем бюро, – жилотделом теперь заворачивает. Проскочил. Сумел.
– И пусть, – забыв о Брянцеве, напустился на него Мишка. – Ты Плотникова не хуже меня знаешь. Кто он? Пламенный коммунист, по-твоему? Ничего по-добного! Весь коммунизм его только на схеме и держится: раз предписано, – значит надо выполнять. А исполнитель он дельный, выдержанный на партработе. Ты тоже это знаешь. Спустят ему новую схему, – он и ее так же выполнять будет. Чердак у него, правда, пустоват, ну, для размещения по квартирам философских знаний не требуется. Увидишь, на своем месте он будет. Здесь нужен к каждому индивидуальный подход. Есть и полезная сволочь… То есть не совсем сволочь, не полностью, а так, вроде полусволочи или временно осволочившихся, – запутался Мишка в клубке своих мыслей.
– Опять хватанул! Наломал дров. Полезную сволочь какую-то нашел, полусволочь, – вставил реплику Таска.
– Я только оформить не могу, а мне ясно, как надо поступать, – почти извинялся Мишка.
– Тебе ясно, так пойди, разъясни немцам, – злобно, как и прежде, огрызнулся Броницын. – Пусть классифицируют сволочь на полезную и бесполезную. Чудные они! Не то фантазеры, не то просто дураки. Делают определенную ставку на партийцев. Всюду! Во всех учреждениях их сажают.
– Дело, мне кажется, не в самом факте установки виселицы, – вступил теперь в спор и Брянцев, – а в том, кто на ней будет висеть.
– Пусть и невинные, случайные повиснут, – перебил его Броницын, – такие случайности неизбежны в ходе войны, но кого надо все-таки повесят. А надо, надо! – злобно и упорно повторил он, махая кулаком сверху вниз, словно вгоняя в землю какой-то кол. – Надо!
– Страсть-то какая! – причитала проходившая женщина. – На самом базаре вешалку ставят! На виду у всего народа.
– А, по-твоему, втихую, в подвале шлепать лучше? – бросил ей в ответ Броницын.
– Конечно, это для людей спокойнее, когда не наглядно, – приостановилась баба. – А то на самом базаре, где едой торгуют. Какой может быть тогда аппетит?
– Вот вам еще и третья точка зрения, – улыбнулся Брянцев, – на этот раз полностью базирующаяся на желудке.
– Значит, самая правильная! Полностью марксистская! – хлопнул себя по животу Таска. – Вы, ребята, уже подожрали, а я нет еще. Направляюсь прямолинейно к Галке Смолиной, она теперь в немецком офицерском клубе подавальщицей, значит и мне на кухне кое-что перехватить найдется.
– Пристроился?
– Давлюсь, друг, а ем…
– Это как прикажешь понимать? – иронически и несколько высокомерно усмехнулся Броницын. – В прямом смысле или в иносказательном?
– Можешь хоть в обоих. В прямом смысле – генеральский рацион по первому классу, а в иносказательном – разрешение проблемы ищи на своем собственном чердаке.
– Ты, видно, жук хороший! – покачал головой Броницын. – Ну, что ж, вали! Приятного аппетита тебе и в прямом и в переносном смысле.








