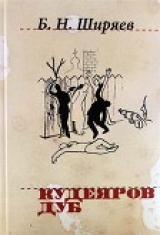
Текст книги "Кудеяров дуб"
Автор книги: Борис Ширяев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц)
ГЛАВА 2
«Когда переломы жизненного пути повторяются слишком часто, они перестают быть травмами, нарушениями нормы, а становятся чем-то вроде хронического вывиха. Ни боли, ни сожалений по утраченному. Каждый новый удар воспринимается не как катастрофа, а как что-то, закономерно и логично связанное с предшествовавшим, следовательно, не только неизбежное, но и оправданное этой неизбежностью».
Так думал доцент Брянцев, когда оставшуюся половину его педагогических часов учебная часть поделила еще надвое и отдала «излишки» прибывшему из захваченной немцами области беженцу, учителю средней школы. Половина часов первого дележа была уже отдана тоже беженцу, ловкому плановику-экономисту какого-то крупного учреждения.
– Однако простой арифметический подсчёт свидетельствует с абсолютной точностью, что жить решительно не на что. Вычеты остались теми же, а получение сократилось в четыре раза. Итак?
Это «итак» он произнес вслух уже за дверью кабинета заведующего учебной частью института, на этом его монолог оборвался. Дальше «итак» не пошло. Но когда это слово было повторено дома, то его продолжила Ольгунка, Ольга Алексеевна, жена Брянцева.
– Итак? Остается то, что неотъемлемо, неотрывно от человека, – без тени смущения или испуга сказала она, даже засмеялась.
– Что же? – с большим интересом спросил Брянцев, приученный опытом к недоверию всему, якобы неотъемлемому.
– То, на чем ты стоишь, я стою, мы стоим, дом стоит.
– Пол? Земля? – с недоумением спросил Брянцев.
– Земля. Конечно, она. Родящая, кормящая, вмещающая.
– Но, позволь, у нас с тобой нет ни сантиметра этой родящей и кормящей. Разве вон там, на окне в цветочном горшке.
– Колхоз, совхоз, племхоз. Какой угодно «хоз», но с землей. Там – паек. Проживем.
– Мнето что делать в этом колсов-племхозе? Что? – развел руками Брянцев.
– Всё, что придется. Как кавалерист в прошлом, ты можешь быть конюхом, как знающий арифметику, – учётчиком. Да мало еще чем, ночным сторожем, наконец. Не всё ли равно? Я что-нибудь буду делать. И еще одно соображение, очень важное, – голос Ольгунки снизился до шепота, – ты человек заметный, ты на учете, – она опасливо посмотрела на стену, – ты уцелел в тридцать восьмом году, потому что был тогда нужен, почти случайно. Второй раз это не удастся: уходя, они хлопнут дверью. Все так говорят. И тебя прихлопнут. А где-нибудь в колхозе – проскочишь. Во всяком случае, там больше шансов проскочить.
Планировать дальше было уже легко. Не только планировать, но и претворять план в реальность. Агроном учебного хозяйства соседнего зооинститута был свой человек и к тому же любил выпить под хорошую закуску. За литровкой и сладились.
– Правильное взяли направление, Всеволод Сергеевич, – сказал он, выслушав просьбу Брянцева, – у нас вам только и быть. Сделаем! За большим не гонитесь. Лучше будет, коли потише. Назначим вас сторожем к парникам, хотя бы и сверхштатным, но паек тот же пойдет. Прокормитесь. Потом, летом, в сад можно будет перевести. Там полное раздолье. Природа! Витаминьтесь всеми буквами: А, В, С, Д. Этого добра хватит. Курорт, я вам доложу. С пчеловодом подружитесь. Он тоже свой парень, хотя и латыш, но человек русский. Бородку себе отрастил, а пузо само нарастает. Ишь, вы какой худокормый, – пощупал он ребра Брянцева, – ну, дернем очередную. Подпись и печать. Всё в порядке.
Институт тоже не протестовал против ухода доцента Брянцева. Там всё шло теперь турманом. Большинство студентов были мобилизованы, оставались почти одни лишь девушки, да и тех поубавилось: одних тоже мобилизовали, другие сами пошли в связистки, медсестрами, кое-кто даже в авиашколу. Расписания, графики, программы, учебные планы изменялись чуть не каждую неделю. Об их выполнении теперь никто не думал и никто не спрашивал. Секретарь учебной части сначала хватался за голову и пытался что-то кому-то доказывать, потом сам махнул рукой и так исчертил весь лист расписания поправками и заменами, что сам перестал понимать, кто, в какой аудитории и по какой дисциплине будет заниматься? А студенты перестали удивляться, встречая преподавателя диамата вместо ожидаемого профессора языкознания или математика вместо химика.
Кроме того, учебной части самой нужны были свободные педагогические часы. Различные организации то и дело требовали устроить то одного, то другого беженца. Протестовать было опасно. Кто их знает, этих беженцев? Может, и высокого полета, – неприятностей наживешь. Курсы кромсали, делили, перераспределяли, приспосабливали. Обалдевший так же, как и секретарь, заведующий учебной части отдавал кафедры точных наук – математики, физики – каким-то непонятных специальностей инженерам или бухгалтерам; литературные предметы – учителям, а порой и плановикам-экономистам. Не все ли равно! Сегодня все кувырком летит, а что будет завтра – черт его знает! Может, ни института, ни студентов, ни самого города не будет.
– Не все ли равно? – думал и Брянцев, идя по степи. – В учхоз сторожем – так сторожем! Паек дадут, – сегодня сыт, и баста. Сегодня скверно лишь то, что проклятая веревка с узлом.
Он скинул с плеча переброшенные через него тючки с одеялом, подушкой и какой-то посудой.
– Эк, нагрузила меня Ольгунка! Всегда масса лишнего. А впрочем, не все ли равно?
Брянцев сел на уже просохший придорожный лобок и сбросил шапку на землю. Ее пушистый кроличий мех забивался в уши, глушил, душил. Робкий мартовский ветерок скользнул по его вспотевшему лбу, подкинул на нем прядь седеющих волос, побаловался ею и побежал по мерцающим в колеях рябоватым лужам. Снега в степи оставалось уже мало, но весенняя трава еще боялась вылезать, пробивать бурую прошлогоднюю ржавчину.
От кочки, на которой сидел Брянцев, тянуло влажным теплом, парным, весенним пригревом и еще чем-то. Чем? И не только от кочки, а от всей земли. Словно тот струистый, прозрачный парок, узкую ленту которого видел Брянцев вдоль всего горизонта, входил в его тело, заполнял в нем какие-то щели, трещины, пустоты, – скреплял, спаивал его.
«А ведь давно я настоящей земли не видел, – подумал Брянцев, – цемент и бетон – не земля. Черствая корка земли. Нет, даже не корка. Та сама от хлеба, из хлеба, родная ему, а бетон – оковы, насилие, как стены тюрьмы».
Серые стены одиночной камеры в Бутырках ясно встали перед Брянцевым. Серые, глухие. И двери с решетчатым окошком-глазком.
– К черту! – крикнул он во весь голос и замотал головой, вытряхивая непрошенное воспоминание. – К дьяволу!
Вившийся над ним жаворонок прянул в сторону от этого крика. Брянцев обвел глазами всю ширь степи, оперся о землю обеими руками, потом копнул ее и, набрав обе горсти влажного рассыпчатого чернозема, долго внюхивался в них.
«Так и тогда она пахла. Тогда. Далеко это „тогда“, словно совсем его не было. Ничего не было. Ни широкого парующего поля, ни серо-серебристой колосящейся ржи, ни самого гимназиста Всевы Брянцева, скачущего средь нее по проселку на ладном гнедом меринке Каштанчике. Ничего этого не было! К черту! Марево. Раз ушло из реальности – значит, нет его, исчезло, как круги на воде от брошенного камня. Разойдутся – и нет их. Даже и следа нет. К черту. Надо идти в учхоз, в паек, в реальность, в жизнь. Она есть. Она не марево. Учхоз, паек, сторожевка. Точка».
Но найти себе пристанище в учхозе оказалось труднее, чем ожидал Брянцев. Жилищный кризис злобствовал и здесь.
– Придется вас к Яну Богдановичу, пчеловоду нашему, вселить. Вернее сказать, втиснуть, – басовито ответил полный, осанистый бухгалтер, приняв его документы, – человек он тихий, можно сказать, даже интеллигентный. Это дебет, – подвел он итог, произнося слово дебет с ударением на первом слоге, и загнул один палец на левой руке. – Но с другой стороны, пять человек малых детей. Меньшая еще в пеленках. Это кредит, – также ударил он на первый слог и загнул на правой руке один палец, – теперь сбалансируем, – свел он оба пальца, распрямив их. – Впрочем, и балансировать нечего. Или к пчеловоду или в холостяцкое общежитие. Там – мат, грязь, совсем из нее проистекающим и происползающим. К Яну Богдановичу. От конторы проулком четвертый дом. Здесь не город – всякий покажет.
– Но, а если я разом, как полагается садовому сторожу, в шалаше поселюсь, при парниках? – спросил Брянцев.
– Дело, конечно, ваше. Но пока у нас март месяц. По ночам еще заморозки, да и вообще морозы возможны. В целях сохранения здоровья – не советую.
– Ничего, я уроженец севера. Холода не боюсь, и одеяло у меня теплое.
– Ну, как вам желается. С нашей стороны препятствий нет. Только шалаш вам самим придется построить. Сумеете? – с сомнением оглядел он Брянцева.
Но в этом строительстве неожиданно нашелся дельный помощник, в лице Яна Богдановича, молодого белобрысого латыша из Псковской области. Он разом притащил каких-то слег, добыл снопов пятьдесят сухого ломкого камыша и, пошептавшись с зоотехником, объявил Брянцеву:
– Будет еще воз соломы. Через контору, конечно, невозможно, а по блату – в два счета. Теперь всем обеспечены.
Строительное рвение латыша не требовало объяснений: иметь еще одного и к тому же неизвестного жильца в своей набитой детворою небольшой комнатке, его ни в какой мере не привлекало. Шалаш, в котором можно было стоять не сгибаясь, соорудили в один день. Даже что-то вроде двери примостил ловкий Ян Богданович, оторвав несколько досок от старых ульев.
– Придет весна, будете сидеть и любоваться. Сад, надо вам сказать, неплохой, зарос только без присмотра, одичал, а садивший его хозяин знал дело. Я ведь тоже садовник. Мы, латыши, все садовники.
Так и покатились дни, ровные, гладкие, как обточенные водой голыши – ухватить не за что. Сначала Брянцев не находил своего места в жизни учхоза. Чужим, случайным казался он и другим и самому себе. Устроив его туда, агроном Трефильев теперь явно его избегал. Это понятно: боялся обнаружить свой протекционизм. Случись что, – кумовство пришьют, а то и хуже. Директора Брянцев также знал раньше, но теперь сам избегал встреч с ним. Тогда они были равными, встречались в одном и том же институтском кругу, а теперь Брянцев – один из самых низких на социальной лестнице его подчиненных. Как-то фальшиво, несуразно. Плотный бухгалтер сидел день и ночь в конторе и четко, звонко отбивал костяшками счет. Даже ритмично, вроде какого-то джаза получалось, особенно эффектного при итогах. Брянцев и к нему не заходил. Бухгалтеры казались ему даже не людьми особого, сниженного вида, а лишь внешностью людей при цифровом дебетно-кредитном содержании. Зоотехник учхоза – молодой, очень веселый комсомолец Жуков, только что окончивший тот же институт, целый день носился по двору, коровникам, свинарникам, выкрикивал ходкие, навязшие в зубах лозунги или отпускал такие же замызганные советской «житухой» словечки. Он не «задавался», охотно и легко шел на мелкий блат, разрешал брать охапки соломы из неприкосновенного кормового запаса, манипулировал с удоями, нагоняя премиальные заигрывавшим с ним дояркам, списывал, как негодных, овец, шедших под нож в котел и, конечно, лучшими частями – администрации. Словом, он был «свой в доску», и это коробило Брянцева.
Путь к учхозной интеллигенции был закрыт, а другого, к «массам», Брянцев сам не мог нащупать.
ГЛАВА 3
Навел его на этот путь лысый Евстигнеевич – другой сторож; Брянцев – в саду, он – при складах, как назывались, теперь амбары, строившего их разбогатевшего тавричанина Демина, расстрелянного еще в девятнадцатом году. Евстигнеевич пришел к парникам в первую же ночь сторожевки Брянцева. Маленький, словно придавленный горбом сутулины, он вширь пошел, в сучья, как сам говорил. Корявыми сучьями были его непомерно длинные руки с ветвями буграстых в суставах пальцев; клочьями прошлогоднего моха рыжела не то борода, не то давно не бритая щетина. Позже Брянцев узнал, что Евстигнеевич не брился, а стриг себе подбородок большими тупыми портновскими ножницами. Неопределенной формы ушастая шапка сидела на голове у него вороньим гнездом, а под нею поблескивали хитроватые медвежьи глазки, прячась за выпирающими мослаками скул.
– Совсем леший, мужичок-лесовичок Коненкова, – подумал, увидев его, Брянцев, – и на «Пана» Врубелевского тоже похож, только этот на свирели не заиграет.
Оказалось потом – ошибся. Была своя свирель и у Евстигнеевича. Только не семиствольная, как по классическим образцам полагается, а вроде сопелки или погудки, на каких наши скоморохи зажаривали. Этим инструментом была его речь, на переливы которой он не скупился.
Придет Евстигнеевич свечеру к шалашу, сядет рядком с Брянцевым на лавочку, свернет козью ножку из собственного самосада и заведет. Про что? Про все. Тут и воспоминания о царском времени, и самые новейшие учхозские сплетни, и сарказм, и умиление, и вопросы, и поучения – все вместе, и все это связано, сплетено меж собой, наборные ремешки в любительском кнутике.
– Слышал, милок, – он, единственный в учхозе, с Брянцевым разом на «ты» заговорил. – Капитолинка-то, активистка-то наша стопроцентная, опять гомозит вещевой сбор на армию. Это, знаешь, подо что она подводит? Под мое одеяло. Даа, одеяло это я в прошедшем году знаменито себе справил. Мануфактура вроде как старорежимный рипс, кроме директора да бухгалтера только мне и досталось. Теперь она с меня хочет его стребовать, а в сдачу свое латаное вместо него сунет. Такой у нее план. Эх, народ! Куда свою совесть дел? Куда? Ты человек ученый, как это понимаешь? Молчишь? И правильно делаешь, что молчишь. О чем ином помалчивать лучше. Спокойнее. Я, милок, так всю мою жизнь прожил, шестьдесят два годка. Когда с меня требуется – подам голос, а не требуется – помолчу, – наигрывал он на своей сопели. – Так и ты действуй. Худого не будет. Я-то знаю – шестьдесят два годка прожил.
Удивил Евстигнеевич Брянцева тем, что оказался партийным еще с восемнадцатого года и красным партизаном к тому же, а в учхозной иерархии – экспонатом почетного старика, на особом положении. Домик под железом, в котором он жил, считался его собственным, и к нему никого не вселяли. Евстигнеевич хвастался даже каким-то документом на этот счет. Ему принадлежали несколько ульев на учхозной пасеке и пяток овец в показательной отаре.
«Когда требуется, – голос подам, а не требуется – промолчу», вспомнил, узнав это, Брянцев.
Свой голос в буквальном смысле Евстигнеевич подавал очень аккуратно, всегда посещал все собрания и высиживал на них до конца.
– Отчего ж не пойтить, раз приказывают, – объяснял он Брянцеву, – за час-другой штанов там не просидишь. Вроде отдыха даже. Ну и послухать, что болтают, тоже можно, а велят голоснуть, – отчего же, извольте. Мне что? Руку поднять трудно, что ли? С нашим вам удовольствием!
Вслед за Евстигнеевичем к шалашу стал приходить комбайнер Середа, полная его противоположность, хотя тоже партиец и красный партизан. Этот не говорил, а обязательно «крыл» кого-нибудь или что-нибудь, «крыл» напролом, не заботясь об аргументации покрытия. Наружность для этого у него была самая подходящая: рост гвардейский, голос хриплый, но зычный, шаг широкий, решительный, уверенный.
Середа не ставил ноги на землю, а вбивал их в нее.
– Гады! – громыхал он. – График ремонта составили, выполнения требуют, а запчастей черт-ма. Не шлют и не чешутся! Директор этот, – следовала долгая малоцензурная характеристика, – гад, говорит, обойдись, преодолей трудности. Пускай он так сам без… со своей бабой обходится!..
Днем в сад заглядывал иногда еще кладовщик, с румяными лоснящимися щеками. Он был любезен, даже искателен, в разговор вставлял какие-то очень мало понятные намеки, но в первый же день, уходя, задержал руку Брянцева в своей потной, пухлой ладони.
– Вечерком придете с бутылочкой, – молока возьмете.
– Мне разве полагается? – удивился Брянцев.
– Что значит, полагается? Дернете там с парников редисочки да зеленого лука, вот вам и ордер. Иначе как проживешь? – вздохнул он, – сами понимаете.
Так, различными, но переплетающимися между собой, тропинками входил Брянцев в новый для него быт. Не обошлось и без ухабов. Когда началась пахота, и мужчин на плужки не хватило, активистка Капитолинка, крикливая баба с острым, как у цапли, носом, потребовала на производственном совещании, чтобы и Брянцева поставили на плуг.
– Что же с того, что антилигентный? Мужчина он крепкий, молодой еще, должен выполнять свои обязанности перед государством!
– Дура! – громыхнул на нее комбайнер. – Тебе чего нужно? Чтобы землю как ей следовает быть подготовить или глотку свою подрать? Видишь, человек городской. Он, может, и плуга близко не видал, такого тебе наворотит, что вслед трактор пускать придется. Надо понимать, что к чему.
К плугам поставили двух стариков: Сивцова и Опенкина. Сивцов числился в учхозе конюхом, а Семен Иванович Опенкин не служил. Совсем, жил при сыне, теперь мобилизованном.
Агроном с сомнением посмотрел на обоих:
– С этой древности толку будет немного. Но делать было нечего. Война уже съела не только всех молодых, но заглотнула и пятидесятилетних.
Опенкин почесал давно небритый подбородок:
– Лошадкам овсеца добавить обязательно надо. С зимы сморены. Какая на них теперь пахота?
– И так из брони берем, – отмахнулся директор, – какой там еще добавок. На посевную бы только хватило. А так, – трава в степи подойдет.
– Насчет тракторов, значит, никак не выходит? – жалостно безнадежно спросил старик.
– Бабит… – многозначительно рыкнул магическое слово Середа. – Ремонт трактора стоял, не было нужных материалов и главным образом поглощенных войной металлов.
С этими стариками Брянцев почти не соприкасался. При встрече здоровался, пробовал втянуть в разговор, но оба они отмалчивались и как-то отчужденно, даже подозрительно взглядывали на него.
«Кто его знает, что за человек», – читал в их глазах Брянцев.
Посевного плана не выполнили.
На общем собрании активистка Калитолина попыталась найти виновников срыва, покричала, но тут же и осеклась. Очевидность была слишком ясна. Да и кого совать во вредители? Нету работников. Одна администрация осталась, а ее цеплять опасно.
Прошла весна – пришло лето. Борода у Брянцева отросла, и проседь стала заметней. Это разом состарило его. Нечищеные и неглаженные штаны висели теперь мешками, и сам он чувствовал, что утратил внешнее отличие от других обитателей учхоза, сравнялся с ними, приспособился к среде, как говорил он сам приходившей к нему каждую субботу Ольге. Даже речь его стала иной, час-то неправильной. Ее литературные формы выветрились, а на их место втиснулся советский жаргон.
– Совсем настоящим ты дедом стал, – говорила, смотря на него, Ольгунка, – даже дубинку себе вырезал дедовскую, с корневой булдыжкой.
– Надо же стиль выдерживать, – смеялся в ответ Брянцев, – да и удобней это. Дед так дед, сторож при саде, и больше ничего: орёт на ребятишек, баб выпроваживает, матерится, когда требуется – и ладно. А то глазеют, как на какое-то чучело, или еще того хуже – сочувствовать начнут. А теперь я в ансамбле, врос в него.
Недавно наших студенток сюда на полку прислали. Правда, не моего курса, но в лицо, конечно, знали прежде. Увидели меня и кричат:
– Дедушка, отец, пусти яблочек порвать!
– А закон от седьмого августа вам известен? – отвечаю, ехидно так говорю, – вы люди антиллигентные, – народно язык ломаю, должны социалистическую собственность понимать.
– Ну и что?
– Да ничего. Обругали меня «старым режимом» и ушли. Впрочем, я потом двум из них полные подолы падалицы насыпал.
– Хорошенькие были? Ретивое не выдержало? – поддразнила Брянцева Ольгунка.
– Нет, так себе. Но очень уж умильно на ту вон румяную розовобочку поглядывали. Даже вкус ее чувствовали – по глазам видел. Что ж делать, не выдержал, пожалел. Совершил социалистическое преступление.
– Утешься. Все мы теперь социалистические преступники в той или иной мере.
– В этом ты права, – засмеялся Брянцев. – Знаешь, у меня в Москве знакомая была, даже приятельница, американка, увлекшаяся коммунизмом, журналистка. Прекрасно выучилась по-русски, но всё же забавные у нее экивоки получались. Вместо уголовной ответственности ляпнула – поголовная ответственность в СССР. А с клубом имени Ленина того хлеще получилось: была, говорит, в публичном доме имени Ленина. Это она мысленно – publishing haus – с английского перевела. Слушавшие чуть не лопнули: и смех разрывает – очень уж в точку попала, – и смеяться нельзя – влипнешь!
– Сошло?
– Ей сошло, конечно. Дружественная американка. А один из пересказывавших этот анекдот угодил, куда полагается.
– В страшное время мы с тобой, Севка, живем, – глухо, в себя, проговорила Ольга, срывая травинку.
– Открыла Америку! Конечно, в страшное. Только бояться его не надо. Самим себе тогда хуже.
– А как же, как же не бояться? За тебя, за себя, за папу? – подняла Ольгунка свои большие серые глаза.
– А так. Плыть по течению. Куда-нибудь донесет. Или…
– Или?
– Или найти упор, – твердо и четко сказал Брянцев, – чтобы ногами в него впереться, оттолкнуться от него, и – против течения пойти.
– А где этот упор? Какой он?
– В этом-то и беда, что ни ты, ни я, никто из нас его не знает и тем более не чувствует. А он есть. Должен быть. Обязательно должен.
Ольгунка осторожно сняла с травинки красную с черными пятнами божью коровку и посадила ее себе на палец:
– Хотел бы ты, Севка, быть букашкой? Вот такой, как эта, пестренькой? Смотри, как она спокойна. Беру ее, сажаю на палец. Она не улетает. И не боится. Ничего не боится. Что ей – жить или не жить, все равно? Ведь не даются же в руки мухи и комары?
Божья коровка расправила крылышки, попробовала их и медленно полетела.
– Видишь, и она боится.
– Нет, это она по своим делам отправилась, – убежденно сказала Ольгунка, – к деткам. Есть же у нее детки? А ты книги прочел, какие я тебе в тот раз принесла? Давай, переменить надо.
– Ни одной не прочел. Я и читать тут совсем разучился. Знаешь, сяду в тенёчке, открою книгу и с первых же строк бросаю.
– Ну и что? Что же ты делаешь? Ведь скучно же?
– Нет, – покачал головой Брянцев, – совсем не скучно. Сижу, смотрю, как трава растет, как облачка по небу бегут. Знаешь, я раньше всегда спешил. Всю жизнь спешил. Когда маленький был – скорее вырасти. Потом скорее кончить гимназию, университет. Потом война. Тогда спешил, торопился, как бы без меня немца не победили. Вот дурак был! – по-доброму засмеялся Брянцев, мысленно представив себя тогдашним. – Знать все торопился, познать, разрешить, любить. Заглатывал жизнь, даже не разжевывая. Все мы так жили и так теперь живем.
– Поживи по-другому, когда семью кнутами тебя в темпы загоняют, – злобно огрызнулась Ольгунка, и лицо ее стало разом серым, сухим, даже нос заострился.
– Нет. Не это. Не только это, а жадность гнала. Ко всему жадность. К времени. Вот скорее бы да побольше заглотнуть его, «своего», моего времени. Потом умру, и времени больше не будет. Значит, хватай что попало.
– Всегда так было.
– Нет, не всегда. Когда люди верили в вечность своей жизни, в ад, в рай, в чистилище, тогда они не спешили. Незачем было спешить. Здесь на земле – не конец, а только этап. Зачем же торопиться, заглатывать, давиться? Поэтому и в пустыню уходили, чтобы там познавать себя, мир и Бога. Полностью познавать, а не клочки из знаний вырывать. Или наоборот – земными радостями наслаждались. Да еще как наслаждалисьто! Во всю ширь! Грешить, так уж грешить. Не по мелочам грешничать, не с оглядкой на милиционера. Оптом люди жили, а не в розницу. Поняла?
– А ты как жить хочешь?
– Никак. Сам жить, своей жизнью совсем не хочу. Нет ее, и добывать, трудиться не стоит. Хочу вот смотреть, как трава растет – и всё тут.
Ольгунка тревожно заглянула в лицо мужа. Внимательно осмотрела лоб, глаза, щеки, расправила сбившиеся брови и бороду.
– Плохо дело! Стареешь ты, Севка! Или просто устал, слишком измызгался. Седины у тебя сколько набилось, – выдернула она седой волос из его бороды, – и от глаз морщинки побежали. Вот откуда это «как трава растет». Седина в бороду, а бес в ребро?
– Какой там еще бес! Меня теперь и дюжина чертей блудить не потянет.
– Не блудный, нет. И даже жаль, что не блудный. А тот, которого великопостной молитвой заклинаем: «Духа праздности и уныния не даждь ми». Я всегда удивлялась, почему уныние – грех? А теперь понимаю. Ведь ты совсем другим недавно был. А прежде? Вспомни, и война, и контрреволюция, и свое внутреннее нарастание протеста?
– А теперь трава, – без грусти, даже с улыбкой кивнул Брянцев на куст разросшегося чистотела. – Пусть вот он растет, а я посмотрю. Вырастет – хорошо, засохнет – черт с ним. Знаешь, Ольгунка, были когда-то герои, люди подвига, змиеборцы, победители драконов. Кто они были? Вероятно, такие цельные, из одного сплошного камня высеченные куски жизни. Они не боялись. Ничего не боялись и добивали последних птеродактилей. Но окружающих они так поражали, что и теперь о них помнят. О победах Зигфрида, святого Георгия, Добрыни. Они рождались тогда именно потому, что оптом люди жили, размашисто, во всю! А теперь в розницу живут, как в мелочной лавочке. Значит, теперь ни подвига, ни змиеборцев, ни победителей зла быть не может. Одно только и остается – смотреть, как трава растет, – снова засмеялся Брянцев.
– Заладил свою траву, – сердито отвернулась от него Ольгунка, – и вылезти из нее не может, запутался, завяз. Нет, мне не до травы, – повернулась она снова к Брянцеву, – у меня два толкача: ненависть и страх. Да, два! – почти выкрикнула она с таким напряжением, что подбородок задрожал, – и оба к одному толкают. Смотрю на людей и в каждом врага подозреваю, каждого боюсь, следовательно, ненавижу. Всё ненавижу! – ударила она по коленке своей загрубевшей, но маленькой рукой. – И яблоко, вот эту розовобочку ненавижу, потому что и она – советская! Смотрю на нее и вспоминаю, какие у дедушки в саду яблоки были. Его собственные, а это чужие, социалистические! Ненавижу их и сама этой ненависти боюсь. Прорвется – плохо будет. За тебя боюсь. За себя боюсь. Днем боюсь. Ночью боюсь. От страха еще сильнее ненавижу. Так вот и толкает страх и ненависть вместе с разных сторон, но к одному.
– Оттого и мучишься, – погладил Ольгунку по голове Брянцев, но она оттолкнула его руку, – а я, видишь, спокоен.
– Погоди, – совсем злобно прошептала Ольгунка, – погоди, и ты забеспокоишься. Это так сейчас на себя тишь да гладь напускаешь, сам перед собою позируешь. Ничего! Пройдет! Ведь не травоядный же ты, чтобы на эту красоту любоваться, – ткнула она в куст чистотела ногою в продранной сандалии. Ткнула, сломала мягкие стебли, с брезгливой ненавистью присмотрелась, как из них потек густой желтый сок, потом порывисто выхватила из земли пук травы, смяла, изорвала и с силой бросила о землю.
– Все ты врешь! Не трава ты! Не мог ею стать!
– Упора нет, Ольгунка, упора для ног нет, чтобы над травой подняться.
– Врешь! Сам его найти не хочешь! А есть он.
– Где?
Но такие споры бывали редки. Ни Брянцеву, ни Ольгунке их не хотелось. Лишняя нагрузка. Чаще она, приходя по субботам к его шалашу, вываливала разом целый короб новостей, главным образом военных слухов. Ими жил весь город. Официальным сводкам не верили, да и говорили они сжато и мало. То под Харьковом, то под Воронежем шли упорные бои с переменным успехом. Новых «направлений», как в прошлом году, теперь сводки почти не обозначали. Но известие о взятии немцами Ростова всколыхнуло город до самых глубин.
– Близко! Значит, к нам идут, – шептали то со страхом, то с затаенной, но просачивающейся помимо воли надеждой.
– Ростов взят! – было первым словом Ольгунки в ее последний приход на хутор.
– Ты так сияешь, словно сама его брала! – обнял ее Брянцев.
Но и сам он при этом известии выпрямился, расправил плечи и дернул отросшую бороду, словно хотел ее оторвать. Потом крупными шагами прошелся по аллее.








