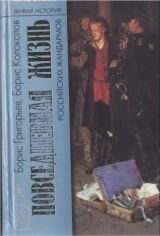
Текст книги "Повседневная жизнь российских жандармов"
Автор книги: Борис Григорьев
Соавторы: Борис Колоколов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 53 страниц)
Конвойцы прекрасно джигитовали и отличались завидным искусством в стрельбе с коня, но вскоре возникли проблемы с чеченцами. Процитируем переписку 1836 года графа Бенкендорфа – тогдашнего куратора конвоя – с кавказским начальством по поводу чеченца, зарезавшего в казарме своего слугу и открывшего огонь по товарищам [156]156
См.: исторический очерк С. И. Петина «Собственный Е. И. В. Конвой» (СПб., 1899).
[Закрыть]: «Несчастный случай этот подтвердил давно делаемые мною замечания насчет чеченцев, которые по времени сформирования полуэскадрона постоянно показывают менее прочих покорности и вообще строптивым и необузданным их нравом часто приводят начальство в большое затруднение. А потому нахожу я необходимым просить не назначать чеченцев в Конвой Е. И. В. …Я же, с моей стороны, приму меры к удалению под каким-либо благовидным предлогом и тех чеченцев, которые в полуэскадроне находятся».
Отвечая ему, генерал Вельяминов писал: «Между чеченцами, отличающимися наибольшею суровостью и дикостью нравов, царствует совершенное безначалие. Чеченцы почитают себя равными всем князьям в мире и не признают над собою никакой власти».
В другом письме Бенкендорф замечал: «Народ горский необразован, напитан дикостью, удаляющею от всего, что несообразно с их обычаями, с их верой и, смею сказать, с давнего времени раздражен разными усиленными мерами, кои правительством предпринимаемы были по необходимости. В этом положении закоренело в них отвращение от русских, в которых они привыкли видеть якобы своих злодеев, ищущих уничтожения их свободы и стремящихся к покорению…»
В апреле 1865 года, когда император Александр II отбыл за границу, в его поезде до Вержболова следовала команда казаков конвоя, затем их вызвали в Ниццу для охраны и сопровождения в Россию тела умершего там цесаревича Николая Александровича. Соперничество двух составляющих конвоя – кавказского и казачьего эскадронов – продолжалось. Как пишет в своем очерке С. И. Петин: «Кавказский эскадрон, по ловкости на коне, мало чем отличался от казачьего. Но разница между эскадронами ярче всего выступала в поведении чинов. Казаки вели себя безукоризненно, а представители восточного конвоя часто исключались за дурные поступки».
Во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов Александр II передал свой конвой в действующую армию для охраны главнокомандующего Дунайской армией великого князя Николая Николаевича-старшего. При поездках императора на театр военных действий его сопровождали 1-й Кубанский и 2-й Терский эскадроны конвоя под командованием полковника П. А. Черевина. В письме к главнокомандующему Кавказской армией 10 октября 1877 года Александр II писал: «Кубанцами и терцами не могу я достаточно нахвалиться. Вот уже более 4-х месяцев, что они меня оберегают и днем, и ночью и не оставляют меня ни на шаг, оказывая всевозможные услуги мне лично и всей моей Главной квартире».
20 августа 1878 года император прибыл на отдых в Ливадию, где дворец охранял Терский эскадрон (днем два поста, ночью посты усиливались). В 1879 году 2-й Кубанский эскадрон нес охрану Царскосельского дворца, а 1-й Кубанский эскадрон – Ливадийского, когда там находился император. Таким образом, Собственный его императорского величества конвой постепенно эволюционировал от особой кавалерийской части, несшей охрану императора в экстраординарной, чаще всего военной обстановке, до вооруженного конного подразделения, осуществляющего повседневную охрану в виде постов и разъездов царских резиденций и личную охрану императора во время его выездов за их пределы.
В 1881 году Кавказский эскадрон был расформирован и конвой стал состоять исключительно из казаков: двух лейб-гвардии Кубанских и двух лейб-гвардии Терских сотен, входящих в состав Императорской главной квартиры и подчиняющихся командующему ею.
Выше мы говорили о том, что народовольцам было трудно проникнуть в царские резиденции, чтобы совершить там покушение на августейших особ. Из этого положения было одно исключение – одному народовольцу все-таки в Зимний дворец проникнуть удалось, и последствия этой акции были катастрофическими. И снова царская охрана оказалась не на высоте, проявив удивительную беспечность и преступную халатность. Но так уж устроен русский ум, что крепок задним числом.
Урок охране преподал крестьянин Вятской губернии С. И. Халтурин (1856/57—1882), который, работая на различных фабриках и заводах, вел в рабочей среде революционную пропаганду и стал вместе с В. П. Обнорским в 1878 году основателем «Северного союза русских рабочих». После разгрома союза и ареста Виктора Обнорского опролетарившийся вятич примкнул к народовольцам, склонившим его усилиями и красноречием А. А. Квятковского к террористической деятельности. Халтурин отнюдь не сразу дал согласие на свое участие в покушении на царя в Зимнем дворце, не без оснований опасаясь жертв среди случайных людей. Что, в конце концов, и случилось при исполнении задуманного дьявольского плана 5 февраля 1880 года.
Торопившиеся с покушением руководители Халтурина не позволили ему довести количество приносимого во дворец взрывчатого вещества до нужной критической массы, способной, по расчетам ученого народовольца Н. Кибальчича, разрушить подвальное перекрытие дворца, поэтому царская семья от взрыва не пострадала, а пострадали невинные люди из охраны и прислуги дворца.
Наследник великий князь Александр Александрович записал в своем дневнике: «В ½ 6 отправился на Варшавскую дорогу встречать вместе с братьями… Д. Александра… Со станции все отправились в Зимний Дворец к обеду, и только что мы успели дойти до начала большого коридора Пап а , и он вышел навстречу Д. Александра, как раздался страшный гул, и под ногами все заходило, и в один миг газ везде потух. Мы все побежали в желтую столовую, откуда был слышен шум, и нашли все окна перелопнувшими, стены дали трещины в нескольких местах, люстры почти все затушены и все покрыто густым слоем пыли и известки. На большом дворе совершенная темнота, и оттуда раздавались страшные крики и суматоха. Немедленно мы с Владимиром побежали на главный караул, что было нелегко, так как все потухло, и везде дым был так густ, что трудно было дышать. Прибежав на главный караул, мы нашли страшную сцену: вся большая караульная, где помещались люди, была взорвана, и все провалилось более чем на сажень глубины, и в этой груде кирпичей, известки, плит и громадных глыб сводов и стен лежало вповалку более 50 солдат, большей частью израненных, покрытых слоем пыли и кровью. Картина раздирающая, и в жизнь мою не забуду я этого ужаса!
В карауле стояли несчастные Финляндцы, и когда успели привести все в известность, оказалось 10 человек убитых и 47 раненых. Сейчас же вытребованы были роты первого батальона Преображенских, которые вступили в караул и сменили остатки несчастного Финляндского караула, которых осталось невредимыми 19 человек из 72 нижних чинов. Описать нельзя и слов не найдешь выразить весь ужас этого вечера и этого гнуснейшего и неслыханного преступления».
Причины, способствовавшие организации взрыва в Зимнем дворце, лежали, как говорится, на поверхности и были видны невооруженным глазом да же мало сведущим в вопросах охраны лицам. Свидетельствует фрейлина А. А. Толстая:
«Прежде всего как расценить беспечность, предшествовавшую катастрофе? Беспечность тем более непонятную, что в то время жили в постоянном страхе перед происками адской банды. Правда, во дворце ввели усиленную охрану, – считалось, что были приняты меры самой тщательной предосторожности, – однако даже на жилой половине происходили странные вещи. Так, нам, фрейлинам, доводилось встречать в коридорах, а именно в коридоре, ведущем в покои Государя, очень подозрительных субъектов. Дарье Тютчевой однажды даже показалось, что она увидала мужчину, переодетого в женскую одежду, покрытого темной вуалью, из-под которой все же выглядывали усы. Мы поспешили предупредить внутреннюю охрану, но нас, вероятно, посчитали фантазерками и ограничились для очистки совести небольшим обыском, который ничего не дал.
Однажды вечером, когда я вернулась к себе, мне сказали, что приходила некая дама, уверявшая, будто я пригласила ее с собой в театр. Ложь бросалась в глаза, и у меня тут же возникло подозрение… Пресловутая дама придумала этот предлог, чтобы проникнуть во дворец, пользуясь моим отсутствием. На следующий день, встретив… коменданта Адельсона [157]157
Речь идет о генерал-майоре Н. О. Адельсоне (1829–1901), исполнявшем с 1874 года должность второго санкт-петербургского коменданта и зачисленного в свиту в 1879 году. В числе других виновных фрейлина называет также суперинтенданта дворца генерала Дельсаля, который прославился при дворе тем, что во время взрыва застрял в остановившемся лифте и просидел в полной темноте долгое время, не зная о причине остановки.
[Закрыть], я сообщила ему… о моих подозрениях… В ответ я услышала самые прекрасные обещания, и я отмечаю этот инцидент только потому, что он произошел накануне покушения… Графа Адлерберга… тоже справедливо осуждали за то, что он не захотел усилить охрану Зимнего дворца городской полицией. Говорят, он счел это позорной мерой и посягательством на свои права… Благодаря чрезмерному великодушию Государя никто не понес наказания и все остались на своих местах».
О вопиющих беспорядках, царивших во дворце, Халтурин информировал Исполком «Народной воли» сразу после того, как он был принят туда на работу. Красочная картина внутренней жизни многочисленной дворцовой челяди приведена с его слов в книге народовольца Льва Тихомирова: «За дворцом следили плохо и жили там на полной свободе… Прежде всего был удивителен общий беспорядок в управлении дворцом. Распущенность слуг переходила всякие границы: они праздновали во дворце свои свадьбы, собирали здесь своих друзей. К ним входило и выходило без всякого надзора и контроля множество их знакомых. Правда, парадные двери открывались с большими предосторожностями… но прочие лестницы дворца и день и ночь были открыты для любого, кто только накануне познакомился с кем-нибудь из дворцовых слуг. Эти же люди очень часто проводили во дворце и всю ночь, если выходить было поздно.
Воровство царило здесь широко, особенно в царских погребах хищение вина и припасов настолько было обычно, что Халтурин сам был обязан принимать участие в этих экспедициях в кухню и погреба, рискуя иначе навлечь на себя подозрения. Слуги имели несколько смягчающих вину обстоятельств: они получали очень мало денег… Камердинеры русского царя получали жалкое жалованье – 15 рублей в месяц».
Степану Халтурину удалось устроиться на работу в мастерскую подрядчика, выполнявшую заказы дворцового ведомства. Вначале ему пришлось некоторое время поработать в качестве столяра на императорской яхте, а затем, когда он зарекомендовал себя там как искусный краснодеревщик, осенью 1879 года он был принят в хозяйственную часть Зимнего дворца – разумеется, под вымышленной фамилией. И надо отдать ему должное: он не только зарекомендовал себя как прилежный и опытный работник, но и сумел установить перспективные для решения стоящей перед ним нелегкой задачи сняли среди товарищей по работе, дворцовых слуг и даже охраны дворца.
Освоившись на новом месте и изучив дворцовую обстановку, он вскоре предложил народовольцам наиболее оптимальный план осуществления теракта: использовать для подготовки взрыва дворцовый подвал, где он жил с другими столярами, над которым на первом этаже находилось помещение воинского караула дворца, а над ним – на втором этаже – царская столовая. Задача состояла в том, чтобы незаметно пронести в жилое помещение необходимое для разрушения двух междуэтажных перекрытий количество динамита. По расчетам Кибальчича, для успешного осуществления этого чудовищного замысла требовалось не менее семи-восьми пудов порошкообразного динамита. Халтурину удалось усыпить бдительность охраны дворца и регулярно проносить в него динамит, который он прятал сначала под подушкой на своей постели в подвале, а затем в сундуке под ворохом грязного белья.
Сам Халтурин в вышедшем в 1880 году в Женеве эмигрантском издании писал [158]158
Цитируется по мемуарам фрейлины А. А. Толстой.
[Закрыть]: «Каждое утро, окончив работу, я выходил и приносил с собой небольшую порцию динамита, которую прятал у себя под подушкой. Я боялся приносить больше, чтобы не привлекать внимания. Обыски были довольно частыми, но настолько поверхностными, что, на мое счастье, никому ни разу не пришло в голову приподнять мою подушку… Правда, я сумел внушить им абсолютное доверие своим хорошим поведением. Один из охранников даже предложил мне жениться на его дочери, а однажды меня водили в покои Государя для полировки мебели. Александр II вошел в комнату, когда я еще работал».
Остается лишь гадать, почему Халтурин не воспользовался этим благоприятным моментом для того, чтобы попытаться убить царя. Как нам представляется, ключ к пониманию психологического состояния Халтурина в то время содержится в опубликованных в Москве в 1933 году воспоминаниях активной народоволки-террористки Ольги Любатович «Минувшее и пережитое», которая по этому поводу писала следующее: «Считая Александра II величайшим преступником против народа, Халтурин в то же время невольно чувствовал обаяние его доброго, обходительного обращения с рабочими и как-то раз, оставшись один в царском кабинете, он даже взял себе на память какую-то безделушку с его стола, которую показывал некоторым товарищам, но по их настоятельному совету снес обратно в кабинет и положил на место…»
Времени для того, чтобы внести во дворец достаточное количество динамита, Халтурину не хватило. В начале 1880 года он узнал, что начальство намерено перевести столяров из подвала в другое помещение. Кроме того, его постоянно торопили народовольцы: «Каждый вечер, когда я проходил по Дворцовой площади, один из наших людей ждал меня у колонны и тихо спрашивал, все ли готово. Я отвечал ему: „Нет“, не останавливаясь, на ходу».
Два этих обстоятельства вынудили Халтурина и народовольцев взрывать лишь три пуда динамита, находившегося в подвале, вместо необходимых для поражения намеченной цели семи-восьми пудов [159]159
Для таких опытных пиротехников «Народной воли», как Кибальчич, предвидеть возможные последствия такого взрыва не представляло большого труда. Он знал, что трехпудовым зарядом динамита разрушить перекрытия двух этажей дворца не удастся, от него могут пострадать только люди, находящиеся в караульном помещении на первом этаже, а царь и сопровождающие его лица, в случае их нахождения в столовой на втором этаже дворца, окажутся в безопасности. Тем не менее Исполком принял решение взрывать дворец немедленно, и Халтурин в 18 часов 20 минут 5 февраля 1880 года поджег огнепроводной шнур к динамитному заряду и стремглав покинул дворец, чтобы прошептать еще до взрыва связнику у Александровской колонны на Дворцовой площади лишь одно слово: «Сделано!»
[Закрыть]. В Зимнем дворце в это время принимали только что прибывших в Петербург с государственным визитом брата императрицы Марии Александровны, принца Гессенского Александра и его сына, принца Александра Баттенбергского, недавно избранного князем Болгарским [160]160
Существует несколько версий того, почему намеченный на 18 часов 20 минут в их честь обед запоздал на несколько минут, в результате чего царь с семьей, ближайшей свитой и высокими гостями в момент взрыва, к счастью, дойти до столовой дворца не успели. По версии М. Палеолога, царь задержался в беседе с гостями в своем кабинете; по мнению А. А. Толстой, приехавшие из-за границы гости опоздали с прибытием; по версии О. Барковец и А. Крылова-Толстиковича, «…у принца Александра Гессенского остановились часы»; по книге Г. Чулкова «Императоры», Александр II, окруженный семьей, все еще беседовал в это время с гостями в своих апартаментах. Мы же склонны признать наиболее истинным вариант, изложенный с небольшими неточностями в дневниках генеральши А. Ф. Богданович: «В ту минуту, когда происходил взрыв, Государь вышел из своего кабинета в тронную залу встретить принца Александра Гессенского, приехавшего во дворец обедать».
[Закрыть].
Третьему отделению несказанно повезло, и удача сама шла ему в руки, когда в ноябре 1879 года при случайных обстоятельствах был арестован народоволец Квятковский – один из главных организаторов готовившегося взрыва в Зимнем дворце. При обыске у него был обнаружен план Зимнего дворца, на котором царская столовая была отмечена красным крестом. Дело оставалось за малым: проанализировать все теоретические и практические варианты взрыва столовой, определить наиболее уязвимые с этой точки зрения помещения дворца и тщательно обыскать их. Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы отбросить как маловероятные для этого жилые помещения, примыкавшие к столовой на втором этаже и находившиеся над ней на третьем этаже, и все внимание сосредоточить на кордегардии первого этажа, где размещался караул, и на подвальном помещении, где жили мастеровые, работавшие во дворце. Само собой напрашивалось начать обыски не с помещения, где сменяли друг друга караулы, составленные из верных престолу гвардейских частей, а именно с подвала, где на работе во дворце использовались в общем-то случайные пришлые люди.
Но охрана дворца, по словам Тихомирова, поступила как раз наоборот: «Дворцовая полиция провела обыски во всех помещениях, примыкающих к столовой. Были организованы внезапные обыски, усилена охрана на входах во дворец, где рабочих стали обыскивать. Динамит он (Халтурин. – Б. Г., Б.К.) переносил небольшими кусочками и хранил его у себя под подушкой, а затем в сундуке, который задвинул в угол 2-х капитальных стен с тем, чтобы разрушить столовую». О тщательности обысков рабочих и подвала свидетельствует то обстоятельство, что и при них Халтурин продолжал беспрерывно вносить во дворец динамит, а под его подушку и в сундук никто так и не удосужился заглянуть.
После катастрофы 5 февраля 1880 года Александру II и его ближайшему окружению стало совершенно ясно, что паллиативные меры безопасности больше не помогут и что полицейско-охранные структуры, доказавшие свою неэффективность и беспомощность, должны быть кардинально реорганизованы. Для разработки чрезвычайных мер безопасности была учреждена так называемая Верховная распорядительная комиссия, в которую вошли наследник и такие близкие ему люди, как П. А. Черевин и К. П. Победоносцев. Возглавил работу комиссии граф М. Т. Лорис-Меликов, приглянувшийся царю энергичными действиями по борьбе с эпидемией чумы в Поволжье. Проработав около шести месяцев, 6 августа 1880 года комиссия была распущена царским указом, в котором, в частности, говорилось: «Ближайшая цель учреждения Комиссии – объединение действий всех властей против борьбы с крамолою – настолько уже достигнута… что дальнейшие указания Наши по охранению государственного порядка и общественного спокойствия могут быть приводимы в исполнение общеустановленным законным порядком, с некоторым лишь расширением круга ведения Министерства внутренних дел».
Указом, кроме того, предусматривалось упразднение Третьего отделения Собственной его величества канцелярии с передачей дел в ведение МВД и образование в составе Министерства внутренних дел Департамента государственной полиции (ДГП, потом просто Департамента полиции – ДП) для заведования этими делами. Право заведования Корпусом жандармов (КЖ, потом Отдельным корпусом жандармов – ОКЖ) предоставлялось министру внутренних дел, и его теперь называли шефом жандармов. Министр и шеф жандармов получал также полномочия на ведение следственных дел по государственным преступлениям.
Министром внутренних дел и шефом жандармов был назначен граф М. Т. Лорис-Меликов, а первым директором Департамента государственной полиции 17 августа 1880 года – барон И. О. Велио (1827–1899), служивший с 1861 года в Министерстве внутренних дел на разных должностях, мало связанных с политической и общей полицией [161]161
Назначение непрофессионала и пустышки-барона Велио на такой ответственный пост определялось личным выбором графа Лорис-Меликова, предпочитавшего видеть во главе подчиненного ему Департамента государственной полиции близкого к нему по взглядам и карьере чиновника-бюрократа, а не строптивого жандармского генерала.
[Закрыть]. 27 февраля наследник записывает в своем дневнике: «…Ко мне приехал Гр. Лорис-Меликов, и мы с ним просидели до 10 ч. Вчера Пап а окончательно решил подчинить Гр. Лорису 3-е Отделение. А. Р. Дрентельн оставляет совершенно это место и назначается членом Государственного совета, а заведовать делами 3-го Отделения будет Черевин. Это первый шаг к объединению полиций, и дело может только выиграть от этого». 28 февраля А. Р. Дрентельн официально вышел в отставку, а на темном небосклоне охранных структур империи вспыхнула звезда генерала Петра Александровича Черевина.
Не все в системе царской охраны были пустозвонами, казнокрадами и «аматерами» – были в ней и энергичные способные специалисты. Одним из таких людей был жандармский капитан К. Ю. И. Кох (1846–1898[?]), прослуживший начальником императорской охраны с 1879 по 1881 год. В своих посмертных записках он выносит суровый приговор деятельности Лорис-Меликова по организации охраны императора [162]162
РГИА. Петербург. Фонд № 1328 дворцового коменданта. Записки представляют собой, очевидно, никогда не издававшуюся рукопись с многочисленными исправлениями, зачеркиваниями и вставками. Их предваряет своеобразный эпиграф: «Быть может, человеку, интересующемуся эпохою царствования Императора Александра II, эти убогие строки мои, писанные под впечатлением беспрерывной страшной головной боли, пригодятся, если не все, то хоть часть из всего, что написано без всяких прикрас и неправды в этих 2 тетрадях». К сожалению, в архиве хранится лишь вторая тетрадь, первой тетради нет, и была ли она вообще написана, нам неизвестно.
[Закрыть].
При знакомстве с этими записками испытываешь двоякое чувство: прежде всего отдаешь себе отчет в том, что как начальник охраны капитан Кох несет персональную ответственность за убийство Александра II, и его мемуары вначале воспринимаются как вполне понятная и объяснимая попытка оправдаться перед самим собой и историей. Но по мере чтения записок их искренний тон, горячее желание разобраться в причинах этой трагедии и подлинная скорбь по поводу смерти императора невольно настраивают на другой лад и постепенно формируют убеждение в том, что ответственность со скромным жандармским капитаном за случившееся должны разделить и другие, гораздо более значимые и высокопоставленные лица – прежде всего граф Лорис-Меликов.
Чтобы не быть голословным, предоставим слово капитану Коху:
«…Гр. Лорис не далее, как на другой день по вступлении своем на министерский (внутренних дел) престол… сделался неузнаваемым!!.. Вопросы и жгучее дело личной охраны Императора почти с первого дня после принятия министерского портфеля стали казаться ему делом второстепенной важности, если не меньше… сделавшись министром, он, хотя и принимал меня с рапортом по вечерам, но делал это видимо неохотно, больше по заведенному порядку вещей, если взять в соображение, что все мои вечерние явления выражались лишь в том, что по входе в его кабинет я торопливо, едва успевши отчеканить шаблонную фразу: „Ваше Сиятельство, по охране Его Величества пока обстоит все благополучно“, как он уже, как китайский богдыхан, кивал головой, этим самым давая знать, что уже можно уходить. Буде же встретится иногда крайняя необходимость переговорить с графом по накопившимся неотложной и большой важности вопросам, то у него по принятому обыкновению делалось очень серьезное, озабоченное лицо, устремленное на кипу лежащих перед ним бумаг, и засим вылетала фраза: „Извини, братец, видишь сколько у меня бумаг, голова кругом идет, переговорим завтра или утром повидай меня во дворце, а теперь пока, с Богом“. Ждешь с ужасом и нетерпением другого дня по обыкновению в 11 ч. утра во дворце, внизу, на Салтыковском подъезде… Вот и подъезжает экипаж графа, входит граф в подъезд… Отрапортовав ему шаблонную фразу, напоминаешь ему на ходу к подъемной машине о дозволении передать кое-что и получаешь опять тот же ответ: „Эх, брат, некогда. Но, впрочем, полезай за мной в подъемную машину и говори, что нужно…“ Вскакиваешь за ним в машину, а машина при самом медленном ходе в третий этаж поднимается всего только 1½ минуты, и вот в эти-то полторы минуты мне приходилось заблаговременно заготавливать, так сказать, все экспромтом, который мне приходилось высказывать до выхода Его Сиятельства из машины и до дверей царского кабинета. Можете себе представить… что можно было сказать нужного и дельного в столь ничтожный промежуток времени… Сознавать, что ты заведуешь людьми, охраняющими Священную жизнь Царя… и вместе с тем ежеминутно убеждаться в своем полном бессилии сделать из этого сброда людей охрану, которая действительно могла бы хоть сколько-нибудь соответствовать своему назначению, когда можно было ожидать каждый день того, что случилось 1 марта.
Кроме генерала Рылеева, никто не знал, что творилось в то время в моем наболевшем сердце! Он, этот единственный бессребреник и истинный сердечный друг и слуга своего обожаемого Государя, знал мою скорбь, ибо понимал все положение вещей, но ничего не мог сделать против всесильного графа..»
Штабс-капитан Кох приводит весьма любопытный эпизод, когда в один из февральских вечеров 1881 года его квартиру посетила некая вдова отставного чиновника Ковальского и передала ему список лиц, из которых половина проходила по процессу 193-х. При этом она заявила: «Пришла я к Вам, как к человеку беспристрастному, любящему своего Государя, и уверена, что по занимаемому Вами положению Вы, наверное, не отнесетесь к моему важному заявлению так индифферентно, как до сих пор относилось ко мне то начальство, с которым мне приходилось говорить по обстоятельствам, аналогичным с этими». Оказалось, что она имела в виду петербургского градоначальника генерал-майора Федорова и его любимца, начальника секретного отделения канцелярии обер-полицмейстера Петербурга Фурсова, которым, как она убедилась, «…не только по этому, но и по многим другим делам чисто политического содержания… до охраны державного нашего Помазанника столько же дела, сколько до вчерашнего снега…».
Далее она рассказала следующее: «Дело в том, что я содержу квартирантов, я живу на Васильевском острову в 11 линии (дома № не помню) и, между прочим, некоторые господа из врученного мне Вам списка занимают у меня конспиративные комнаты, конечно, с моего ведома, и вот у одного из этих господ (назвала при этом фамилию) завтра в 11 вечера предполагает быть сходка, на которой главным образом будет обсуждаться вопрос, когда, где и каким образом совершить смертный приговор над Государем Императором по распоряжению Центрального Исполнительного революционного комитета, а затем уже на том же заседании предполагается сделать новыми членами крамольной организации значительные денежные взносы на дело дальнейшей пропаганды и террора. Я у них вполне доверенное лицо, как квартирная хозяйка, почему я могу теперь смело сказать, что теперь именно настает час, когда всю эту компанию и можно схватить, когда они в числе 18–20 человек завтра в 11 часов соберутся у меня. Как видите, дело важное и не терпящее промедления, почему я и обратилась к Вам, а не к Фурсову, которому я уже неоднократно служила и была полезной в деле указания политических злодеев, но он не только не относился к моему делу с благодарностью, но даже не платил мне самых ничтожных расходов за извещение, а самые мои верные и важные заявления, к ужасу моему, оставлял без малейшего внимания».
По просьбе капитана Коха она еще раз подтвердила правдивость своего заявления и полную готовность «…в случае, если ее заявление не подтвердится на деле, отвечать перед законом».
Составив подробную записку с изложением сообщения госпожи Ковальской, капитан Кох в тот же вечер представил ее графу Лорис-Меликову «…на его усмотрение и зависящее распоряжение». В приемной графа ему пришлось ждать около полутора часов, пока из его кабинета не «…выпорхнула Варвара Игнатьевна Шебеко, которая состояла при княжне Юрьевской и имела в то время уже большое влияние при дворе и на самого Государя». Реакция Лорис-Меликова на этот документ несказанно его поразила:
«Граф молча, совершенно спокойно прочитав переданные ему мной… бумаги, с зажмуренными глазами, глянув на меня, произнес: „А ты, брат, хорош с Федоровым, с градоначальником?“ – „До сих пор генерал Федоров, бывший к тому же моим начальником по служению в дивизионе, всегда был добр и милостив“, – ответил я… На этом ответе граф вручил мне обратно эти записки, сказав: „Ну, если ты хорош с ним, так поезжай к нему и передай эти бумажки на его усмотрение… Да, вообще, брат, я советовал бы тебе сильно не горячиться, а служить потихоньку… без суеты и застращиванья! Я этого не люблю! Ты, как вижу, все видишь в преувеличенном виде и всего боишься“. При этих словах граф встает, давая мне знать, что я уже могу уходить, в то же время посылая еще фразу мне вслед: „Так смотри же, не суетись и знай, что системы графа Шувалова застращиванья, как ты это любишь с Рылеевым, я не терплю. Покуда я на этом месте, все будет хорошо, а Царь наш будет цел, так и знай и передай об этом г. Рылееву. Ну, Бог с тобой“, – с этими словами он меня отпустил». (Пометка автора на полях рукописи против этого абзаца: «Бог свидетель, что не изменено и не прибавлено ни одного слова, как и во всех записках».)
Слова графа произвели на капитана Коха эффект вылитого на него ушата холодной воды. «…Я положительно растерялся и недоумевал, как мне остается действовать впредь на занимаемом мною посту в столь ужасное время», – с горечью пишет он. Реакция генерала Федорова была еще более лаконичной: «„Хорошо, я их передам Фурсову“, – и с этими словами, позевывая, он встал, давая мне знать, что я могу удалиться».
Граф по этому поводу хранил молчание, «…а Федоров… при встрече со мной произнес следующее в довольно саркастически-насмешливом тоне: „А Ваше ужасное заявление осталось без последствий, так как заявительница, по отзыву Василия Васильевича Фурсова, оказывается сумасшедшей барыней, словам и личности которой не следует придавать никакого значения…“».
Капитан Кох дает такое объяснение этому занятному и странному эпизоду: «Начальнику секретной полиции г. Фурсову хотелось делу этому не придавать какого-либо значения в видах того соображения, что источник этого дела проходил через мои руки. А не через его, Фурсова, который получал на агентуру в год не один десяток тысяч рублей, из которых половину клал себе в карман… Чем кончилось это дело… мне потом ничего не было известно… А что я мог сделать, когда вся административно-агентурная власть, словом вся активная сторона полицейско-наблюдательного дела была вверена гр. Лорису и его главному помощнику по этому делу – градоначальнику Федорову?? Вот к чему… почти всегда сводились результаты в деле охраны нашей полицейской власти, всегда враждовавшей с личной царской охраной из корыстных, низменных целей, хотя бы в явный ущерб делу…»
Этот пассаж из записок капитана Коха, на наш взгляд, ярко и выпукло характеризует ту атмосферу самодовольства, несобранности и явного головокружения от мнимых, как вскоре выяснится, успехов в деле борьбы с революционной крамолой, которая царила в верхних эшелонах охранно-полицейской власти, начиная с министра внутренних дел графа Лорис-Меликова и кончая начальником секретного отделения канцелярии обер-полицмейстера столицы В. В. Фурсова.
Действия графа, не среагировавшего на этот острый сигнал и спустившего его вниз по команде без каких-либо указаний и даже без самой банальной резолюции типа «Пр. разобраться и доложить», нельзя квалифицировать иначе как грубое пренебрежение своими должностными обязанностями. Аналогичное обвинение можно предъявить и градоначальнику генералу Федорову. Что касается начальника секретной полиции Фурсова, то он, как профессионал, не должен был отказываться от проверки этого заслуживающего внимания сигнала, даже имея основания для того, чтобы сомневаться в дееспособности заявительницы и не верить в его серьезность.
Тем более что для его проверки не требовалось больших усилий со стороны полицейских.
Закулисная же борьба за влияние между петербургской секретной полицией, подчинявшейся столичному градоначальнику, и охранной командой, начальник которой жандармский капитан Кох был подчинен непосредственно графу Лорис-Меликову как шефу жандармов, была вполне естественна в ситуации выполнения ими одних и тех же обязанностей по охране царя, без четкого разграничения их функций. Все это дало основание безапелляционно констатировать потом жандармскому историку-генералу А. И. Спиридовичу: «Охрана государя была поставлена преступно небрежно».Всю вину за это он возложил именно на секретное отделение канцелярии петербургского обер-полицмейстера.
Судя по запискам, капитана Коха (кстати, в этом же документе он именуется ротмистром, то есть аналогичным пехотному капитану офицерским званием для кавалерии) крайне беспокоила проблема кадрового состава его охранной стражи (команды). Дело в том, что она состояла из 36 отставных и бессрочных унтер-офицеров и городовых, которые из-за своего уже солидного возраста не могли должным образом исполнять возложенные на них служебные обязанности, связанные с большими психологическими и физическими нагрузками. По совету генерал-адъютанта Рылеева 20 февраля 1881 года он подал графу Лорис-Меликову обстоятельную записку с предложением «реорганизовать всю охранную команду, из коей половину… уволить от службы с назначением пенсии, а стражникам, еще годным на службу… прибавить содержания… по 10 рублей на каждого человека».








