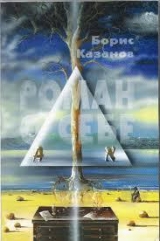
Текст книги "Роман о себе"
Автор книги: Борис Казанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 28 страниц)
Поехали с возчиком дальше. Тот сказал, пряча лопату: "Ты, паренек, обижайся, а я скажу так: ни одного я б не оставил из вас живых. Варварски ненавижу я вашу нацию".
Что ж, это был прямодушный враг, даже неопасный из-за своей открытости. Мне же потом пришлось видеть других, матерых мастеровых с благородными сединами, ласково-притворных и сладковато-приторных, по шерсти которых гулял ветерок "оттепели". Как распознать матросу, только сошедшему с борта зверобойной шхуны, казалось, повидавшему людей во всей их наготе, за "сардэчнай" улыбкой и "шчырым" рукопожатием личину не оборотня даже, а дипломированного погромщика, который ведет тебя, обняв, подводит уже – туда же, к обрыву Лисичьего рва?..
10. Идентификация
Я почувствовал, что оголен со спины, и вывернулся с зонтом против снежных струй. Повернулся к той стороне, где неожиданно подуло сквозняком...
Свислочь, куда с тобой забрел?
Оказался перед шоссе, неизвестно в каком месте, так как дорогу заслонили два обесточившихся троллейбуса. Продвигаясь навстречу, они обесточились, поравнявшись. Водители дергали за веревки, разыскивая потерявшиеся среди хлопьев снега провода, чтоб снова к ним присоединиться, а пассажиры троллейбусов, сидя неодинаково в освещенных салонах, рассматривали один другого. Какой-то хмельной дядька из одного троллейбуса, увидев знакомую тетку, как будто она рядом сидит, полез к ней поговорить, не различая разделявшее стекло, а тетка в таком же экстазе порывалась к нему, а пассажиры двух троллейбусов наблюдали за ними с серьезными лицами.
Так где же я оказался?
Заметил в метели фигуру в зипуне, в шапке, как бы явившуюся из "Капитанской дочки", и, в соответствии с описанием Пушкина, шагнул "на незнакомый предмет, который тотчас и стал подвигаться мне навстречу".
– "Послушай, мужичок", – сказал я, – где я нахожусь? Помоги разобраться.
– Я женщина, – ответил "мужичок", расслышав только первые слова, высвобождая платок из-под шапки, а ухо из-под платка. – Утомилась, иду спать.
– А я выспался! Хочу пройти к остановке "Минскэкспо", – прокричал я ей в ухо.
– Никогда не слыхала об такой остановке, – попятилась она от моего крика.
– Как не слыхала? Ты что, деревенская?
– Я местная, – ответила она, обидевшись. – Из резиденции нашего Президента.
– Значит должна знать, если оттуда.
– Нет, не должна! Я сторожица. Отдежурила – и знать ничего не хочу... А куда тебе надо?
– В институт мовазнавства.
– Я и про такой не слыхала! Что-то мудронае ты говоришь.
Пока мы разговаривали, два троллейбуса, мешавшие мне, благополучно разъехались. Привык возле Свислочи смотреть под ноги, устремил глаза ввысь, на освещенные здания. Едва ли не напротив я различил тяжеловесный, не лишенный грациозности ансамбль Академии Наук... Ничего себе! Я стоял едва не в центре столицы. Вот где заблудился! Ничего особенного: не бывал здесь года три-четыре-пять. Сориентировавшись, распознал карликовый небоскреб института мовазнавства и показал сторожихе:
– А это что? Это ж и есть то же самое.
– Да я уж и сама вижу... Так это ж здание! Я тудой не хожу, я светофоров боюсь, – призналась она мне. – Склероз у меня на них: когда зеленый горит, я стою, когда красный – иду. Ну, я пошла.
– Извини, что задержал.
Мне стало стыдно за свои расспросы... Откуда догадаться сторожихе, что целое здание может занимать один институт языкознания? Я и сам недоумевал: где он мог отыскать деньги? Сейчас целые заводы бросают недостроенными, а тут понадобился к спеху институт. Раньше институт этот занимал несколько комнаток в Академии Наук. Отделившись же, перебрался в бетонный коровник, задвинутый в переулок и угадываемый с торца. Нижний этаж был отдан плодившимся сейчас во множестве кооперативным учрежденьицам с абракадабрными названиями. Там сновали приладившиеся к торговле, переодетые партийные бюрократы. Остальные этажи этого сооружения оглушали первобытной тишиной. Я метался, как в загоне, в длиннейших коридорах, оканчивавшихся тупиками. Только одного человека успел заметить, бегая по этажам. Низкий, лысоватый, в очках, с одутловатым лицом, в мятых поношенных штанах, он стоял у окна и курил. Едва до него добрался, как он, постояв, уже удалялся, двигаясь аморфными колебательными толчками вылезшего на свет червя. Бежать за ним я не стал.
В каких комнатах могли сидеть, эти несколько человек, именовавших себя "институтом"? Сколько их насчитывалось на сей день? Ведь они сами определяли свой трудовой режим. Могли они сидеть, скажем, на заседании в Доме литераторов? Вот и сидят там, на "Вечарыне" известного поэта Миколы Малявки или не менее "вядомага" прозаика Хведара Жички. А может, разъехались по "весках" открывать какой-либо новый диалект? Прожив столько лет в Рясне, я ни слова не мог понять из их "новояза". Читал в газетенке "Свобода", что уже найдено новое белорусское слово вместо прежнего, явно русского: "яурэй". А тут и я у дверей... Быть не может, чтоб они уехали все! Кто ж будет встречать такого, как я, готового отдать деньги?
Обнаружив на стене телефон, позвонил, выбрав напропалую один номер из целого списка. Гудки, гудки – и вдруг голос с уже знакомой еврейской модуляцией: "Инстытут мовазнавства"... Я чуть не выронил трубку... Как мог сюда затесаться еврей, то есть еврейка? "Засилье жидов" – и где, в институте мовазнавства! Должно быть, они повели фронтальную атаку на национальные святыни, впиваясь в самые корни народной речи. И справки выдают, какие хочешь: белорусу – что еврей, еврею – что татарин, а татарину – что не татарин.
Кажется, эта дверь? Открыл – там сидели. Машинистка спросила: "Вы звонили?" – и как только я подтвердил, все, кто сидел, еще раз на меня посмотрели. Здесь удивлялись любому, кто заходил, но в этом повторном рассматривании просквозило скучное любопытство: "Ага, и этот принадлежит." Неужели новая функция института мовазнавства, отобранная у синагоги, всего лишь уловка? То есть они не просто смотрели, а проводили визуальное исследование в научных целях. Классифицировали безграничное разнообразие моей, – сотрясавшей умы и не таких, как они, мыслителей, – расы? Все ж это было неудобное стояние, пока еврейская машинистка отстукивала исконно белорусский текст. Никто не узнал во мне известного литератора, бегущего из страны. Да и я мог не напрягать себя бесполезным припоминанием. Это были новые люди, которые не ознаменовали себя никакими достижениями. Не в пример предшественникам, крупным мастерам, которые остались за чертой времени, тяготея к монбланам белорусской словесности. Я был наслышан и про этих, начитавшись их фамилий на этажах; знал, что скрывается за тихими кабинетами. Были среди них, сравнительно молодых борзописцев, и такие, что бойко начинали, используя все привилегии "паслядовникав". Однако их замаслили, затаскали, они исписались еще до того, как грянула новая эпоха. По-комсомольски задорные, отважно петушась, съезжались они, вместе с подобными себе, заполнять "поэтические паузы" на торжественных кремлевских концертах, вызывать старческие слезы у вождей своим гремучим пустословием. Беспринципные, они мнили себя "Павликами Морозовыми", а сейчас возомнили "Саввами Морозовыми". Коммерцией для них стало списывание текстов с бесконечных мексиканских телесериалов, состряпывание книжонок, где сплошняком шли одни голые экранные диалоги. Выдавая неряшливые подстрочники за собственные переводы, одурачивая людей, они наживались, еще как! -сделав разменной монетой ностальгию измученного народа. Крупная шайка матерых книжников-рецидивистов орудовала, пока не раскошелилась на собственный офис, под прикрытием Союза письменников. Еще одна банда, семейный писательский клан, составляла им конкуренцию со всеми атрибутами детективно-уголовного толка. В институте же мовазнавства действовали мелкие разбойные стайки, пожирая то, что оставалось от акул. А в это время монбланы, повинные в том, что оказались долгожителями, были унижены нищенскими пенсиями, на которые не могли себя прокормить. Должно быть, пенсии выдавались из расчета, чтоб эти люди поскорее закончили свою жизнь. Ведь улицы и скверы давно нуждались в переименованиях. Некоторые из долгожителей сочиняли по старинке романы, но такой роман, не списанный с экрана, равнялся цене проездного билета. Или, быть может, уже проездного талончика, так как уровень жизни подскочил за эту ночь.
– Все, отпечатала, – сказала еврейка. – Следуйте за мной.
– Куда вы меня ведете?
– На идентификацию. К директору института.
– Ничего, что я не брит?
– Вы шутите? – сказала она, останавливаясь в коридоре.
– А вдруг директор не признает, что я еврей?
– Я б вас сразу распознала...
"Еще бы! – подумал я. – Для того ты и сидишь."
В самом деле, я волновался, так как знал директора института профессора Владимира Михайловича Юревича, занимавшегося многолетними этимологическими изысками в области языковой лексики. Этот старец был моим постоянным "вычеркивателем" в Союзе письменников. Вот я и соображал: какую пакость он может сделать мне, идентифицируя отчества: "Михайлович-Моисеевич"? Сам "Михайлович", он мог быть незаинтересован, чтоб наши отчества совпали... Вдруг взял и оформил свое несогласие в "Белорусской энциклопедии", на которую опирается ОВИР! В Союзе письменников мне понадобилось 14 лет, чтоб его обойти, а как здесь? Или старик уже умер – или нет? Не раз я ошибался, представляя их умершими.
Точно! – сидел другой человек: тот человек, что курил на этаже... Ну, на этих я набил глаз! Теоретики языка, составители словарей, литературознавцы-мерзавцы, наводнявшие своими писаниями все имеющиеся в наличии издания. Перелопачивали русское под новое, белорусское, но откуда это, новое, взять? Не читал я, что они писали во взрослых изданиях. Что касается детских, то прочитывала Наталья. На нее и сошлюсь. Они публиковали в переводе на белорусский язык, без всяких ссылок на первоисточники, все, что можно было ухватить у презираемой России, вплоть до шедевров детской классики. Один из таких "вядомых" плагиаторов и сидел. Знал его фамилию, но, войдя, демонстративно придержал дверь, чтоб прочитать на табличке. Директор понял вызов, но не поддержал. Осклабясь, встал, пожал руку:
– Садитесь Борис Михайлович.
– Вы знаете, зачем я пришел?
– Да и я не знаю, чего их направляют ко мне!.. Я вас давно не видел и считаю, что вы пришли пообщаться.
– Давайте общаться и дело делать.
Мы разговаривали на белорусском языке. Директор подвинул мне чистый листок:
– Пишите заявление.
– В новом телефонном справочнике Союза писателей, – сказал я, – нет моей фамилии. Что это значит? Я еще не имею разрешения на отъезд. Только получил белорусское гражданство, а сейчас собираюсь получить новый белорусский паспорт. Я не был в Союзе писателей 7 лет, откуда кто знает?
– Вот и подумали, наверное, раз вы не заходите.
– Но я регулярно плачу членские взносы. Или сын приходит и платит.
– На членство ваш отъезд не влияет... – Он принял у меня листок, встал и завозился на книжной полке, отыскивая нужный том энциклопедии. – Вы навсегда останетесь членом Союза писателей Республики Беларусь. Вам выслали новый писательский справочник -однотомник?
– Да, получил.
Получил и ознакомился досконально... Занимательнейшая книжица! Я увидел среди разросшейся, собранной под один переплет писательской семейки, новое пополнение. Под шумок "незалежности" явились, вызванные из небытия чьими-то заклинаниями, "замежные дядьки". Никто не слышал о них как о писателях, зато знали как пособников оккупантов. Сейчас они уселись, как родные, примусолив для камуфляжа к остовам своих зловещих фамилий свистулечные охвостья, от чего их фамилии, прежде бряцавшие по-швабски, задудели "по-народному", как у некоторых здешних собратьев.
– Скажу, как своему: мне было непонятно ваше тяготение к России, ко всему русскому, – заговорил директор, поглядывая на меня из-под очков, пытаясь как-то устранить неудобство; его создавала уже оформленная бумажка на столе, он гнал от себя, подвигал брезгливо кончиками пальцев ко мне. Родились в деревне, белорусский, собственно, хлопец. Вдруг уехали, эти плавания... Непонятно! Но то, что вы едете на историческую родину вашу, это я в вас понимаю, и разделяю, и ценю.
– Для меня, знаете? Куда глянул – там и родина.
– Не наговаривайте!
– Да я бы и рад себя обелить, а что толку? Поэтому, чтоб не было кривотолков... – я перешел на русский язык, – так я вам признаюсь тоже, как своему: я ведь не просто так скитался по морям, заграницам... Приобрел капиталец! О какой еще родине может рассуждать человек, имеющий счет в банке "Сингапур интернейшн"?..
Меня понесло, но я не сомневался, что сейчас отыграюсь за этот приход. Я знал слабинку этих вот белорусских лапотников. Все они, как один, попадались на моей морской травле. Нагадив, насолив мне, увидев через годы: все тот же неизменный, ничего не помнящий, странствующий матрос! – они теплели и, вывиваясь из кодла своего, любопытствовали: "Ну што там на белым свете, Барыс?.."
– Разве вы едете в Сингапур?
– Сейчас я еду по бесплатному билету в Хайфу. Там гостит приятельница. Живет в Сингапуре, израильская подданная. Я с ней познакомился во время стоянки. Владелица магазина детского оружия.
– Детского?
– Так что? По виду не отличишь: шестизарядный кольт! Стреляет бертолетовой солью. Раскупают быстрее, чем настоящие. Да у нее особняк! Приносит доход то, что имеет спрос. Там не только оружие, разные "приколы" для моряков: прыгающий член, говно синтетическое. Между прочим, воняет, как настоящее.
– Ну? Я бы сам купил, чтоб кому подложить... – Он увидел, что я открыл "Мальборо", хотел попросить, но я сунул пачку в карман, и он закурил "Астру". – Так вам теперь и книжки не надо писать?
– Только этим и буду заниматься. Пожил в свое удовольствие. Теперь в свое удовольствие поработаю.
Сам зажегся, аж дух захватило: что за жизнь открывалась мне в Сингапуре с Чэн! Да и нет города, то есть государства, где человек бы чувствовал себя так свободно, как там. Я приучился в Сингапуре спать в ливень... Сваришься от жары, идешь в Централ-парк, ложишься на лужайку и ждешь ливня. В Сингапуре ливень, как по расписанию. Тут бац! – ливень... Окутался им и уснул. Кончился ливень, ты проснулся. Идешь, от тебя пар валит, а ты еще и закурил... Чем не жизнь для пишущего человека?
Не уверен, что он полностью поверил моей трепне: что я, вместо моряка, расписывал себя богачом. Но этим-то и подпортил ему настроение. Теперь ваш ход, господин червяк...
– Пустяк, десять минимальных...
Вот это "пустяк"! Я терял половину обменянных денег... Отсчитал новыми длиннющими ассигнациями с гербом "Погони" по десять тысяч каждая. Дал рассмотреть и необменянные "зеленые"...
– Благодарю за аудиенцию.
– Был рад с вами поговорить.
Спускаясь по этажам, рассмотрел "документ", который он выдал мне. Документ состоял из одной строки: что еврейское имя "Моисей" соответствует русскому "Михаил", – ссылка на том энциклопедии и червячная подпись. Если б не придуривался до этого, я б сейчас вернулся и объяснил, чем занимается его институт, заполучив монополию сличать родовые еврейские имена с приобретенными за столетия ассимиляции. С какой стати институт отделившегося государства взвалил на себя функцию Российской Академии? И как в этой функции выглядит институт мовазнавства... Недавно, настроив "Малыша" на московскую волну, я получил приветствие от популярной музыкальной станции "Радиорокс", чья репутация не вызывает сомнений. Меня поздравили с "Днем Моисея", пояснив, что "Моисей" – древнеегипетское имя, соответствующее еврейскому "Михаил".
11. В городском ОВИРе. Прорыв к Бэле
На площади Якуба Коласа я спустился в подземный переход, чтоб выйти на другую сторону проспекта Франциска Скорины. В переходе на грязных плитах расселись обнищавшие алкоголики; их лица, одутловатые, с резкими морщинами, отвиснув, мотались, как тряпичные. Поднявшись из глубины тоннеля, расширившись в плечах и груди, прошли парни в кожаных куртках. Один из них возбужденно говорил, притормаживая другого за руку: "Я дикий, я ко всему опоздал! Не найдешь бабу, отдашь свою – чтоб я жил!" Впереди обозначилась женская фигура, привычно взял ее за ориентир. Вдруг женщина харкнула перед собой, и я заметался, куда свернуть, чтоб не видеть ее плевка... Свет меркнет, когда очутишься в такой толпе!.. Иногда, после удачных строчек, я пробовал мириться с Минском, но всякий раз убеждался: счастье в нем противозаконно, удача – пустой звук. В море видел избавление, но и море, особенно в последние годы, отдаляло от людей. Когда пропускаешь весну, лето и осень, а взамен получаешь кучку обесценившихся рублей... Ведь мы не могли их вовремя истратить!.. Что – валюта? Валюта дается на отдых в чужих портах!.. Когда получаешь то, что любой нищий мог отсидеть за неделю в подземном переходе, тогда по приходу мы радовались, если идущий навстречу человек внезапно падал, наступив на камень, и ликовали, если при этом он разбивал себе голову.
Возле филармонии свернул под арку большого дома. Во дворе, в помещении бывшего детского садика, находился городской ОВИР. Я не знал, когда еще выберусь в город, если меня затянет "Роман о себе", и решил ничего не откладывать. Почему не получить паспорт сегодня? Придется потерпеть свой статус "отъезжающего" и все аксессуары, которыми низменная система обставляет такой статус. Мало приятного и в самих отъезжающих. Многие из них и не задумывались, куда едут и зачем. Просто меняли место жительства. Не нация, а какая-то блуждающая пыль... Подует другой ветер – и их понесет обратно. Чем больше их познавал, тем больше отстранялся. Я понимал, что моя жизнь, которую сам сочинил и следовал ей из своей потребности, так и останется при мне. Никуда от себя не денешься.
Подготовившись к длинной очереди, я был удивлен, войдя: внутри ОВИРа пусто. Обошел коридоры, где отстаивались посетители: никого. Повторялось нечто схожее с институтом мовазнавства. Только здесь персонал был зрительно уловим. То и дело какой-либо чин двумя шагами переходил из своего отдела в тот, что напротив. Остановить невозможно и выяснять бесполезно. Уже усвоил их правило – не отвечать. Людишки эти, паразитирующие на отъезжающих, открыто презирали своих кормителей... Ох, я устал об этом говорить! Но и как обминешь, если пострадал от них?
Мог быть и неприемный день, конечно. Только я не помнил случая со мной, чтоб, куда-то явившись, не позвонив, не известив заранее, я все ж не успел, не попал точно. Вот если б позвонил, договорился, – тогда дело другое. Я разгадал тишину ОВИРа, когда приоткрыл дверь в зал заседаний. Не то меня привлек афоризм, повешенный в виде милицейского лозунга: "Каждая последующая печать уничтожает предыдущую!" – не то поддался из привычки: не раз заходил в такой игровой детский класс за Олегом и Аней. Там увидел всех: человек полтораста, сжавшихся в тесную кучку и замерших в оцепенении, словно их ожидала казнь. Так смирно сидеть и терпеливо ждать могли только евреи. Тоже намеревался присесть тихонько, да зацепил ногой за перевернутый стул. Попробовал поставить в воздухе на ножки. Стул не подчинился, и я его откинул в сторону. Люди зашевелились, почувствовали себя свободнее. Среди них оказался мой знакомый по курсам иврита Иван, то есть Исаак, – в соответствии с томом Белорусской энциклопедии. Исаак имел примечательные черты: порознь русские, они складывались в еврейское выражение. Постарше меня, без единого седого волоска. Несмотря на то, что ребенком попал в гетто, пережил погромы и расстрелы. Это был человек, который познал наяву то, что я лишь представлял по Рясне. Помню свой интерес к нему, но он, интерес этот, как-то распылился.
Сейчас мы обрадовались, как свои, и отделились перекурить. Исаак жалел, что зря отпрашивался с завода. Мог отпахать те два часа, что оставались, чем тратить здесь время по-пустому. Новый завод, куда он перешел, шевелился-таки на заказах! Взяли Исаака без трудовой, повезло, когда уйма своих уволенных. А он взял да отпросился за два часа до смены.
– Три автобуса сменил, так торопился сюда, – нагружал Исаак своим горем. – И ночью плохо выспался. В 12 звонит человек, открываю: наш лагерный капо. Украинец, зверюга – как приснился! Пришел к маме подписать бумагу, что выручал евреев.
– Зачем ему такая бумага?
– Уезжает в Израиль. У него там хорошее дельце наклюнулось.
– Мама подписала?
– Ну да. Ведь он оказался еврей... – Исаак сделал паузу, как делает в разговоре человек, еще что-то припоминая. – Ведь я сегодня в ночную! Опять не высплюсь.
– Зачем мучаешь себя так? Отдохнул бы, все равно уезжаешь.
– Смеешься? У меня на руках мама больная, зять-инвалид и внученька, совсем маленькая... Это ты едешь один, что тебе терять?
– Действительно, извини.
Сколько там таких соберется в Израиле, – перевидавших Бог знает что и через все перескочивших, как через детскую скакалку? Изведав нечеловеческий ужас, они как бы утеряли болевой порог и, пребывая в атрофии чувств, жили одним днем до дня последнего. Об этом, кстати, и о многом другом сказал в своих лагерных рассказах, содрогнувших мир, Тадеуш Боровский. Поляк, не еврей, испивший свою меру унижений, он, заболев смертельной тоской, отделался от себя "Прощанием с Марией". Я попробовал представить Исаака своим потенциальным читателем... Как в нем отозвалась эта идентификация? Получил справку, что не Иван, и побежал на смену. А скоро – в Израиль, к своему капо, который, уже хозяин, "балабайт", и не посмотрит, что он Исаак. Даст палкой по спине: "Пошел работать!.."
Появилась в коридоре инспекторша, не такая миниатюрная, как Вероника Марленовна, и вовсе не такая; белобрысая, со взбитыми волосами, в черном платье, ступающая так, как впервые ходит на каблуках, поигрывающая ягодицами, несущая себя, как на блюде, затхлая, больно кусающая сука, Елена Ивановна. Неся кучу паспортов с проложенными бумажками, она зацепилась за тот стул, что я откинул, и паспорта рассыпались по полу. Люди, сидевшие смирно, не выдержали: их желанные паспорта! Бумажки перемешаются, очередь перепутается... Повскакали с мест, и инспекторша, упреждая их, пронзительно по-лагерному крикнула: "Сидеть! Не окружайте меня..." Все сели и смотрели, как она собирает паспорта, по-девичьи скромно присев, похорошев после разъяренного крика. Умаслив всех, она поднялась: "А сейчас я объясню, какие права дает вам в любой стране паспорт Республики Беларусь".
Я вышел в коридор, но не успел и выкурить сигареты, как из игрального класса выскочил Исаак. Взъерошенный, не помня себя, он промчался бы мимо, если б я не дернул за рукав:
– За что пострадал, брат кровный?
– Не дала!
– Как она даст? Она же при исполнении...
– Не дала паспорта!
– Справки не хватило?
– Какие справки?! Из-за новой работы... Теперь на нее надо переписывать и трудовую, и профсоюзный билет.
– Обожди. Откуда ей знать, где ты устроился?
– Да я ей сам сказал! – Исаак чуть не плакал. – Хотел пройти без очереди... Нет, я не дал ей в морду!
– Хорошо, что не дал.
Теперь народные избранники, обрядившись в судейские мантии, сажали в тюрьму любого, кто обижался. Я пытался втолковать Исааку, что угроза этой сучки – только угроза. Все оформлено, будет она менять бумажки! Припугнула, что полез вперед, и за длинный еврейский язык. Иди, становись обратно!.. Исаак же, поколебавшись, ответил, что посоветуется с серьезными людьми. Побежал в частную адвокатскую контору. Там его будут рады принять.
В игральном классе порядок и тишина сошли с рельсов... Те, кому не дали паспорт, рвались к Елене Ивановне, толпясь, отталкивая один другого. У нее как? Начал говорить, нельзя досказать: "Отойдите, не мешайте работать!" Пожилая женщина не могла понять: она выслала деньги в ОВИР по почтовому переводу, хотя следовало на бланке сберкассы... "Но деньги же у вас на счету!.." Елена Ивановна снизошла к разъяснению: "Ничего не знаю. Посылайте еще раз!" Молодой человек, чтоб добиться ответа, повторял, как автомат: "Куда отправлять справку?" – дождался: "Сейчас позову на помощь".
Понаблюдав со стороны, я пришел к выводу: паспорт она мне не даст. Ни одной из тех бумажек, на которых ловились эти люди, а до этого поймался Исаак, при мне не было и в помине. Ни трудовой книжки, оставшейся во Владивостоке; ни профсоюзного билета. Не существовало в Минске и такого предприятия, которое бы могло их принять. Я числился лишь в Союзе писателей. Писателю, как известно, не нужны ни трудовая книжка, ни профсоюзный билет. Творческий стаж устанавливался по публикациям, профсоюз заменяло членство в Литфонде. Я пришел сюда как человек свободной профессии, а теперь до меня доехало, что никакой я им не писатель. Обязан иметь отметки, единые для всех. Чтоб убедиться в своей догадке, позвонил Веронике Марленовне. Та подтвердила: мне не выдадут паспорта без отметки с последнего места работы и сдачи туда всех документов на хранение. Вероника Марленовна посоветовала: "Сходите к начальнику. Прошлый раз он вам помог с Бэлой".
Начальник ОВИРа начинал прием через полтора часа. Нечего мне здесь делать.
Вышел через арку на площадь и побрел, куда глаза глядят. Думая о своем, ничего не замечал вокруг. Даже не мог сказать: кончился уже или падает снег?.. Я не предполагал в себе, следуя нога в ногу за своим романом, такого необоримого желания убраться отсюда. Только собираюсь еще подписать приговор своей прежней жизни – а он уже, оказывается, подписан!.. Как мне выкрутиться в моем положении? Положиться на начальника городского ОВИРа? В самом деле, особенный человек. То, с чем тянули резину подчиненные, начальник решал одной своей подписью. Двухчасовой прием кончал за несколько минут. К нему и не было посетителей. Кому придет в голову, что он может помочь? Мне пришло когда возникла неразрешимая ситуация с Бэлой. Я поступил неожиданно. Отыскал свою приключенческую повесть, открыл то место, где мой герой вспоминает о матери, потерявшейся в войну... Вот, мол, доказательство! Начальник внимательно прочитал отчеркнутое место. Посмотрел на год издания и издательство: "Беларусь". Взял ручку и написал на моем заявлении: "Принять к рассмотрению!"
Все ж я оказался не совсем точен, считая, что потерял мать. Меня до сих пор удивляет, и это уже останется загадкой: каким образом попала к Бэле моя книга? Откуда ей знать, что это я – под другой фамилией? Мне передали в издательстве ее письмо с обратным адресом, который я проверил... Ведь я пробовал ее разыскать! Тогда поезд "Россия" застрял в Челябинске из-за неисправности пути. Я рискнул, приехал в Миасс, перепроверил в адресном бюро. Разыскал заодно и вторую Бэлу, но выбрал первую – мать. Нашел квартиру, покрутился перед запертой дверью и ретировался, боясь не успеть на поезд. Даже не побеспокоил соседей, не поинтересовался насчет нее... Что толку, что приезжал? Нужна ли была мне Бэла, а я – ей? Я не знал, как она жила, похоронив в Рясне дочь, отдав сына в приют в Миассе, оставшись без Бати, совсем одна. Все ж это она вывезла меня из Рясны, пока Батя пил, а дед с бабкой решали: убегать от немцев или, может, удастся с ними поладить? Помню как будто: женский силуэт у окна и длинный грохочущий под нами металлический мост... Так и осталась силуэтом Бэла. Жива ли она? А если умерла, то остался ли человек, который бы о ней помнил? Или никого нет, кроме меня? Ведь она могла, как и я, запереться в себе. Ничего своего не нашел я в Бате, кроме той неприятной схожести, когда перестаю за собой следить. Значит, все остальное – ее? Как же было тяжело ей! Никогда это не занимало меня. При отце и матери, я не мог сказать, что у меня есть отец и мать. Батя и Бэла – с бесконечностью вместо "и". После деда и бабки я даже не доводился никому родственником. А не то, что был чей-то родной сын. Зато любому встречному был готов отдать свою судьбу. А сейчас вспомнил о Бэле... Должны же остаться хоть слова о ней! Бэла, я не знаю, что сказать о тебе. Не могу и выговорить слово "мама". Но я, быть может, слепо копирующий какие-то твои жесты и реакции; я – если ты повинна, что исчезла из моей жизни, и если эта вина тебя удерживала, мешала сделать шаг к мечущемуся сыну, который искал тебе замену и не мог найти, – то я, если б дал мне Бог такое право! я все прощаю тебе лишь за те слова, что ты, не выдержав и прервав молчание, тогда написала: "Я плакала, глядя на твое милое лицо."
12. Под зонтом. У памятника Якубу Коласу
Опять попал в бойкое место, очутился среди озабоченных людей, теснившихся у продуктовых лотков, в стихийных очередях за овощами и фруктами, и, оказываясь чуть ли не у каждого на пути, расстроил порядок внутри этой снующей толпы. При этом я и выглядел не так как все: прохожие и люди в очередях с удивлением на меня оглядывались. Обнаружил, что держу над головой зонт, хотя нет ни дождя, ни снегопада. Напротив: сияет солнце, попав в широкое окно голубизны! Снег вокруг, растаяв, увлажнил тротуары, стволы деревьев, скаты крыш. Совсем преобразился и так уютный уголок – из разнообразно подобранных домиков: почта, баня, общежитие Политехнического института, пивбар "Крыница". Это место посещал и в молодые годы – после ночей вдохновенного труда. В молодости кажется, что способен на многое. Читаешь, грешным делом, классика и думаешь: и я могу так написать! Не от самомнения, а от того, что ничего о себе не знаешь. Можешь и не узнать, если не будешь трудиться, как вол, не пожертвуешь всем для творчества. А если не будешь беречься, и еще повезет, тогда и напишешь книгу, которая скажет о тебе все...
Словно из тех лет, прозвенел, подкатив, трамвай и знакомо удалился в перспективу, где в сужении рельсов, якобы загородив ему дорогу, сидел теперь на постаменте Якуб Колас... Недаром сюда попал! Этим номером трамвая, только в обратную сторону, ездил когда-то в Сельхозпоселок, в домик Веры Ивановны.
Не здесь ли я стоял и месяц-полтора назад, мечтая, как обычно, о великом романе? Не помню, стоял под зонтом или без, но меня заметили и окликнули из проезжавшего такси. Там были валютная Таня с подругой Валей, женой архитектора, делавшего могильные надгробья. Мои отношения с Таней были на спаде... Ох, эти слезы и истерические удержания по утрам! Уже было совестно лгать Наталье, а когда еще Аня сказала: "Если ты, папа, будешь приходить утром, то и я не буду ночевать!" – решил: "Баста!" – и прекратил связь. А тут она вылезла в своей короткой шубке из лисьих хвостов, стояла, растерянно улыбаясь без очков, ища меня, взлохмачивая светлые волосы, и радостно осветилась, найдя, и помахала рукой в варежке. Вслед за ней выпрыгнула Элди, породистая легавая, и скокнула, увертясь от Тани, ее крохотная Джемма, очень женственная собачонка. Я чуть не лишил ее девственности, спутав ночью на постели с Таней, пьяный, как всегда с Таней...








