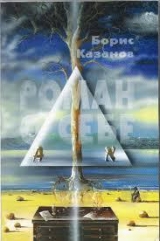
Текст книги "Роман о себе"
Автор книги: Борис Казанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 28 страниц)
Отстаивались мы за Токаревским маяком, неподалеку от пляжа Большой Улисс. Все разошлись по домам на неделю, я остался один: куда мне такому идти? Попробовал писать: может, сейчас повезет, когда бабы отпали? На "МРС-05" понял окончательно, что погубил талант. Меня приходила проведать Инна, повариха. Она знала, что я перестал быть мужчиной, и жалела меня. Инна рассказывала трогательные истории, от них я не мог уснуть... Как у себя, в деревне под Омском, ходила ребенком по сугробам. Перевалила через один сугроб, завязли валенки. Пришла без них. Ей щеки трут, раздевают, боясь, что она обморозилась, а ей тепло и без валенок, и она безобразничает. Делает руками так, чтоб им мешать снять с себя шубу, так как ей смешно... Мы пили чай с трюфелями, она мне готовила борщ, оставляла торт, уходила, обещая еще проведать.
Вечером, после Инны, я взял торт и шампанское, что мы не допили, и пошел посидеть на пляже. Не хотел купаться на Большом Улиссе, так как знал почище бухты. Бухту Патрокл или бухту Кит возле Посьета; я не хотел им изменять. Вылезешь из "огорода" в акваланге и ластах и накупаешься всласть. Чуть сошел с отмели, где мы ставили ограждения, и уже обрыв – три километра. Купание всерьез, а не то, что здесь. Сижу, выпиваю, нарочно не взял сигарет, чтоб не привлекать внимания. Подходят две девочки лет семи: "Дядя, хочешь письки покажем?" Угостил их тортом, предостерег, чтоб не бегали здесь. Пляж этот, на Улиссе, облюбовали одичавшие солдаты, которых перестали кормить. Ну и спившиеся бичи, всякий сброд. Я вообще удивлялся, как в этих местах живет народ. Помнил красивейшие поля в Южной Корее с фигурно зеленевшим рисом. Или здесь земля другая? Пока я сидел, беспрестанно кто-либо подходил. Подошел какой-то хмырь, стал ловить приблудившуюся ко мне собаку. Он хотел ее сварить и съесть. Вступился за собаку: "Она ж еще молодая!" Хмырь: "В плечах раздалась, все равно не будет расти." Пришлось ему налить. Потом меня высмотрел с дерева бич, он сидел на дереве со стаканом. Это был его бизнес. Бич предлагал стакан, если ты, допустим, пьешь без стакана. Из-за того, что он слез с дерева, он, видно, и пропустил Нину.
Вдруг ко мне прибежали девочки, вымазанные тортом: "Дядя, там тетя утопилась!.." Я бы не обнаружил Нину, так как она попала в плохое место. Зарылась в анфельцию: густой донный мох, черный, как шерсть. Но я разглядел, откуда поднимается муть. Потом распознал ее по голубой куртке. Она была голая, в куртке, начал с ней всплывать. Не сразу увидел веревку с камнем, не мог с ноги отвязать, опять спустился из-за этого. Уже сам почти задохнулся, всплыв с ней. Меня начало рвать, но я опомнился. Рот у нее был закрыт, пожалел открывать ножом. Можно еще так открыть: резко повернуть пальцем, где кончаются зубы... Удалось! Начал вытаскивать язык, тащу и тащу, весь в грязи, в слизи... У девочек нашлась шпилька, я проколол язык по складке, чтоб не было крови, и привязал к куртке. Теперь язык не мешал, начал делать дыхание. Я не мог понять по зрачкам, живая она или нет. Видимо, у нее оставалось одно мгновение жизни, и я ее вытащил-таки на белый свет. Правда, и девочки мне помогли. Мужики же стояли и глазели: вся ее раковина была безобразно разворочена от садистского похабства.
Понял, что Нина сумасшедшая, уже на "МРС-05". Очнувшись, она сказала, что у меня за спиной вырос куст сирени. Нина у меня пробыла три дня. Однажды, сидя в гальюне, она показала мне розовое облачко в иллюминаторе: "Я больше не хочу там жить." Я узнал, что у нее есть квартирка на Верхне-Портовой. Это еще сохранилось от Ленина Владимира Ильича: давать квартиры сумасшедшим. В психлечебнице мне Нину не отдали и за писательский билет. Психиатр был молодой, с залысинами, великолепно выглядел, – как с рекламы сигарет "Мальборо"! – среди своих больных, создававших в коридоре неуправляемое движение, вроде броуновских молекул, – но и он, такой самоуверенный, подрастерялся, узнав, что случилось с Ниной. Он сказал, что ее брал пожилой человек, с виду профессор, представившийся ее дядей. Документы подложные, должно быть... Психиатра сдерживал мой писательский билет, разговор не клеился. Я опустил билет в карман, и он спросил: имел ли я сексуальную связь с Ниной? Ведь она пробыла со мной три дня. Он знает, что мало кому удается устоять против сумасшедшей... Я ответил, что Нина спасла меня от импотенции, и поведал ему историю с Серафимой. Психиатр рассмеялся, хлопнул меня по плечу: "Бьюсь об заклад, что ты..." Нет, я не хотел думать и представлять: какая там Нина сейчас, через два года? Мечтал лишь о повторении того, что у меня с ней было. Что ее может изменить, если она неизлечимая?..
Вот я ее забираю, мы выходим из ограды психлечебницы. Там, под деревьями, на скамейках, сидят среди родственников люди в синих халатах. Многие плачут, хотят курить. Не понимают, что нет курева во Владивостоке! Мы усаживаемся с Ниной напротив ресторана "Зеркальный" и парикмахерской "Магнолия". Хорошо бы накормить Нину и привести в порядок ее волосы! Пока это невозможно: Нина ничего не понимает. Не понимает даже, что курит. Она лезет беспрестанно ко мне в брюки, ерзает, забрасывает ноги, имитируя половой акт. На нас не смотрят, но надо ее уводить. Ловлю такси, устраиваемся, она сразу пригибается ко мне. Водитель просит, чтоб мы не испачкали сиденье. Выходим на ветер Верхне-Портовой. Нина морщится, приседая: "Ой, письке холодно!" – она без трусов, им не полагаются в лечебнице. Уже томлюсь, как ее раздену, хотя знаю, что она никого не хочет. Будет лежать, вялая и бесчувственная после наркотиков, с плечом, отбитым электрошоком. Надо привыкнуть к ней такой, дурной, без всякого проблеска. То она высунет язык и с размаху примакнет об него палец, то так же с размаху почешет себе голову. Я успевал к ней вовремя, так как еще не истекал срок, когда она могла работать в музыкальной школе. Переведут на пенсию, как она будет жить? Но я не мог и от себя избавиться! Целый день она водила меня по комнате, держа за член... Или у них были такие прогулки в психбольнице? Я сдавался, она захлебывалась, ее рвало. И опять... Доводила меня до такого состояния, что прямо умирал, не имея сил струиться. Сама же и близко не подходила к стадии оргазма...
В какое-либо утро, себя переломив, я надевал на нее зимнюю одежду. Давал в руки нож, хоть она его и боялась, усаживал на ее любимый унитаз и заставлял чистить картошку. Мы ели то, что она готовила; белили потолки, запускали стиральную машину. Целую неделю не трогал ее в постели, ходил с ней гулять. Вдруг она просыпалась, смотря счастливо, сходя с ума от новой жизни. Она влюблялась в меня и представляла себя беременной: "Послушай пульс в пупке". Я вел ее в музыкальную школу, проверив перед этим, как она играет на гитаре. Начиналась семейная жизнь. Снова она наглела в постели, измывалась надо мной, врывалась в комнату, рассыпала бусы... Я жил с ней под видом другого, которого будил, быть может, из эгоизма, чтоб кончать с ней. В сущности, Нина служила именно мне; тратила на меня всю зарплату... Эти покупки – умела же она их раздобыть! Однажды, когда я пил из нее, она не стала надо мной издеваться. Тогда посадил ее повыше и увидел, что струя у нее прерывается. Она не могла писать, как только я к ней приникал. Тогда я понял, что близок к цели. Начал оставлять ее одну. Правда, Бронниковы за ней приглядывали. Вернувшись из короткого рейса с Чукотки, я увидел, что Нина моя. Нина ужинала с приехавшей Лилькой, коренастой по-деревенски и светлой, не в мать. Лилька то взрывалась смехом, который не остановить, то захлебывалась плачем, который не унять. Необычайно нежная в тот вечер, Нина не могла дождаться, когда уснет на полу Лилька. Лилька уснула, Нина села на меня, и мы кончили под "Волшебную флейту" Вольфганга Амадея Моцарта... Неужели она избавилась от инопланетянина? Все получилось так быстро! Нина уже спала... Я даже не знал: радоваться или нет? Тут Лилька с пола потянула меня за руку, и это была моя измена Нине. Хотя, может, и нет.
Все разрушала весна.
Весной возвращалась болезнь, а я уходил в плаванье.
Вот Нина уже больна, мечется в постели, у нее жар, бред... Я надеваю ее тепло, глаза у нее блестят, она тихая и покорная, как ребенок. Мы садимся в трамвай номер 5 возле старинного с башенками железнодорожного вокзала. Трамвай поворачивает на Светланскую и вверх по ней с ее купеческими особняками, что изумительно вписываются в панораму бухты Золотой Рог, когда среди домов возникает труба парохода, а потом видишь, как он скользит громоздкой тушей за спинами гуляющих в сквере, как бы подкрадываясь из засады, словно коварный зверь... Нина – это не бред, не любовь, это моя тоска, в Нине ее обличье. Я встретил Нину, когда меня покинула Герцогиня, и если труд писателя – исследование одиночества, то с ней я еще имею какой-то шанс...
Так зачем мне все портить с Леной?
Однако случилось неожиданное, в рамках нашей семьи: за сутки до Читы Лена заболела. Всем стало ясно, отчего она занемогла. Лена чересчур переиграла с парнями и сейчас за это расплачивалась. Я видел, что она не притворяется, и понимал: завтра Чита, там муж и больной ребенок, живут в тайге. А если от егеря мало проку? Неужто мне придется отдуваться за всех?.. Офицер ушел в видеосалон на эротическую новинку. Библиотекарша не ушла. Занята своими вещами. Проводник сволочь, сам к Лене лез. Такого не уговоришь и за деньги. Можно договориться с другим. Как Лену поднять, вести? Все раскроется... Да с ней не повозишься по скорому! Какая она сейчас, после всех приставаний? Может, полежит и успокоится?.. Лена как разгадала мои мысли: "Борис Михайлович, вы стесняетесь Елизаветы Константиновны?" "Отчего же? Я не против группового секса." – "Какого секса?" – "Да я шучу." – "Вы шутите?" – лепетала Лена.
Библиотекарша как и не слышала нас.
Плюнув на все, я соорудил занавеску из простыней, снял Лену с полки и уложил на офицерскую постель. На Лене было столько одежек, что я чуть палец не вывихнул, расстегивая пуговицы и пуговки. Вроде бы я знал ее фигуру, а все ж боялся: а вдруг удивит так, как Таня? У той грудь, прелестно вздутая в разрезе платья, как снял лифчик, обвалилась и повисла чуть ли не у пояса. А зад Тани, мило вилявший, оказался плоским и шероховатым, как наждачная бумага...
Настраивался на худшее, чтоб приятно обмануться. Вообще красота, сама по себе, – далеко не все в постели. Нужен дефект, несоразмерность, чтоб себя надолго разжечь. Ко мне постучалось однажды настоящее чудовище. В Пинске, мы снимали фильм, я жил в гостинице. Вдруг постучал кто-то поздно ночью. Женщина, дежурный диспетчер по лифтам. Все лифты остановила в Пинске и пришла. Короткая, как обрубленная наполовину, похожая на пингвина. Осмотрел, заинтересовался: а что, если переспать с пингвином?..
Вот Лена голая, ничего на ней не оставил, чтоб скользило или мешало нарочно, или выглядывало из прозрачности... Жалко денег купить кружевное белье? Вовсе не донская казачка! Почти желтая бурятка, отливающая синевой глаз. Фигурка без изъянов, но в разных деталях, какие я отыскивал, увлекаясь. Лежала влажная, пахнущая пряно, со следами въевшихся резинок на бедрах и протертостями в паху, вся попка в синяках. Подогнул ее трясущиеся, покрывшиеся пупырышками колени, и увидел дивно заросшую промежность. Да, это была сука, и у нее шла течка, и она пропела: "Толстенький, я такой хотела", – и понеслись.
Быть может, я перегнул палку, оценивая состояние Лены, как угрожающее? Но эта ее страдальческая улыбка, – где она в ней? Пошло проникновение, внедрение, и тут она, бестолковая, начала все портить: "Мне нравится, что ты смотришь... Мой Валерка тоже так". – "Мы ведь и без водки пьяные, да?" Пошла эта семейная риторика. Я сунул ей палец в задницу, никак не мог пропихнуть. Она засмеялась: "Тут я непробованная!" – и от смеха мой член трясся в ней. Меня разбирала злость: куда я залез? Всего-то раскрыл промежность, а она дошла до семейной стадии – и ни с места. Палец я пропихнул, нащупал свой член. Начал ее корежить, сводить к одному. Должна же она обернуться, идти ко мне, а не ждать, что я ее отыщу. Не строй из себя сестрицу Аленушку! Что ты от меня хочешь взять? Ничего я тебе не дам по такой дешевке!.. Тут она притихла и начала созревать. Она начала соображать и подставлять себя в унисон. Пошел замысел, она меня зажгла всем: слюной, грязью из-под ногтей, протертостями, этой густой волосатостью, свободно распахнувшейся и заскользившей... Я дал ей отдохнуть, растревожил ее, как мог, бродя у больших губ, – и, насколько мог, внедрился! Она хорошо подставилась, я куда-то прорвался, завис. Это было облако, на котором сидела Нина, когда ее просквозили, а Лена уснула, глаза ее слиплись, и такую вот, сонную, вялую, бормочущую непристойности, и подвел к пределу, пока она не сникла. Был на нее зол, как черт: я в нее кончил, пусть родит здорового ребенка! – обошел и расправился: если попала в руки матроса, то держись! – и отшвырнул. Она лежала на боку, порозовев, уткнувшись носом мне под мышку. Я рассматривал свой член: побывал в молоденькой женщине, а как-то одряхлел, сморщился...
Только сейчас вспомнил про Надежду, то есть Лизавету Константиновну. Оказалось, что она сидела, ждала меня, она сказала, волнуясь: "Борис, хотите я вас удивлю?" Вот почему она осталась здесь! Сидела, переживая, оглохнув и ослепнув от того, что ей открылось... В каком рассказе? Конечно же – в "Москальво"... "Так вас удивить или нет?" – "Не надо, я вас узнал". – "А статью мою вы читали в "Литературной России"?" – "Статейку эту, под рубрикой "Читатель сердится"? Она ваша?" – "Да, я написала." – "Прискорбно рад за вас..." – "Меня убедили написать. Вы возмутили своим порочным рассказом весь поселок Москальво." – "Поселок возмутился и забыл, – сказал я, доставая сигарету. – А рассказ, где я тебя воспел, остался. И учти: рано или поздно он пробьет Европу!" – "Почему только Европу? Если ты такой гений..." "Европа" – для рифмы. Забыла, как меня искусали комары? Я весь рейс чесался от них..." – "А ну тебя к черту! Ты обещал меня увезти в Москву, а я без тебя доехала..." – и разгневанная, гордая, она вышла, чтоб поменять купе.
Бедная Лиза!
Я был в каком-то отчаянье... Черт возьми! Разве я не взял для рассказа у юной Лизы лучшие мгновения любви? А она столько искала меня в памяти, пока не сошелся у нее с книгой, а книга с воспоминанием! Да, я не стал ни известным, ни знаменитым. Книги мои вышли, но это можно объяснить случайными везениями. Но – почему, почему? Или кто-то писал, кроме меня, о настоящих зверобойных шхунах в русской литературе? Или кто-то в мире писал о том, что я в "Полынье"? Почему же тогда никто меня не знает и не будет знать? И я еду опять куда-то рыбу ловить... Мне хотелось остаться одному в поезде, и чтоб этот поезд куда-то меня привез. Я выйду из поезда и очнусь от странного сна, в который себя погрузил. Если б так умереть – как куда-то приехать! Может, в этом и есть смысл того, что я еду к Нине? Мы очнемся в смерти – и что-то будет! Или – нет?..
Я сидел, изнывала душа... Вдруг почувствовал родство с Леной. Она спала, склонился к ней, целовал ей руки, как недавно она мои... За что ее благодарил? Мне было так тоскливо, как будто кончена моя жизнь с Ниной... Или предчувствие меня обманывало когда-нибудь? Я застану Нину у Бронниковых, не одну, с психиатром... Пошел на супружескую связь!.. Нина поздоровалась со мной – и все. Кажется, я говорил, что ни одна женщина мне не изменила. Да я солгал! Вот Нина, что же это такое?! Она изменила мне... А как теперь мне? Как жить, как дотянуть до рейса?
Снова я работал на "МРС-05", ждал, пока "Мыс Дальний" выйдет из ремонта в Находке. Зима явилась ранняя: давка из-за транспорта, схватки у водочных ларьков, у хлебных магазинов... Никаких продуктов! Хоть шаром покати... На "мэрээске" я ходил по трюму, расшвыривая ногами пачки тонкого печенья, коробки болгарских конфет, какао "Золотой ярлык"... У нас были везде связи, так как у нас были "огороды", было море в кармане. Не знал, куда подевать очищенного краба... Нести к Бронниковым, радовавшимся замужеству Нины?.. Несу к Пете Ильенкову, земляку. Петр в Дании, принимает суда... К Рае? Там другое: обиделась из-за родственницы... Я скучал по Нине, выскакивал из такси. Мне казалось, что она прошла по улице... Если б я потерял с ее уходом свою тоску!..
Раз сплю на "МРС-05", слышу: наверху топот. Как будто пробежала рота солдат по команде "Разойдись". Вскакиваю, бегу на камбуз, где Инна оставила мне еду. Включил свет и ужаснулся: сотня крыс орудует там, поедая все... Как они забрались? Я повесил на швартовые концы антикрысиные щитки. Выбегаю на палубу: крысы цепочкой идут по канатам... Ведущая крыса на щиток залезает, оборачивает его, летит в воду со щитком, а остальные уже пошли беспрепятственно...
Как здесь будешь жить?
Перебрался на "Дальний", а когда вернулся из Южной Кореи, переселился к Косте, недавнему мужу Лены-артистки. Здоровенный парень, мотоциклист, весь в коже, гордый, что орел. И вдруг – сорвался: помрачение ума. Подлечился, тихо работал на почте, я к нему перешел. Костя страдал, что его бросила Лена. Приводил женщину, жену моряка, окружал ее, шлюху, небесным нимбом. Мы относились один к другому сердечно. Костя говорил: "Придешь из рейса, дверь закрыта – можешь стекло разбить!" Сделали вечер, все пришли: Лена, Нина Бронникова, моя Нина. Они не знали, что пьют: "Ройял" с кока-колой... Упились! Лена уселась ко мне на колени, обняла. Никак их с Костей не склеишь! Даже моя Нина передавала, ужасаясь, как некрасиво Костя выглядел без ума... Сама она была здорова, жила с психиатром на Верхне-Портовой... Она ходила здоровая, и это была ее беда. До нее дошел весь ужас жизни, в которой при сознании еще хуже, чем без... Одарил Нину бутылками кока-колы, банками сока, конфетами, блоками жевательной резинки. Перед этим одарил Лильку, ее сестру, ставшую почти сумасшедшей. Так я потерял жизнь с Ниной, к чему-то ее ведя и почти выстроив в уме. Но что это была бы за жизнь – я не знал.
Опять весна, все завеяно, бегу в ТУРНИФ за зарплатой. Вбежал, хочу обминуть невысокую женщину, поднимающуюся с одышкой по лестнице. Она как толкнет меня в бок с дикой силой... "Ольга Васильевна! Прости, миленькая, не заметил..." – "Собирайся в рейс." – "Куда?" – "На острова Полинезии... Нет, в Новую Зеландию!.." Какая разница? Здесь зима, а там лето... Бегу к Косте, переодеваюсь в летнее, бегу по обледенелому виадуку, зная, что завтра, за Японией, будет тепло. Впереди меня бежит еще кто-то: местный житель; торопится в зимнем пальто. Бежал, по-видимому, через двор, содрал с веревки с бельем, не заметив, мерзлый лифчик, и он на нем сзади болтается, зацепившись за воротник... Разве я его предупрежу? Беги, дорогой...
Вот к этой жизни я и еду!
Утром, уже близко к Чите, Лена сидела тихо, со своими кулями, одетая во все одежки. Так и не угостила меня копченой колбасой! Сберегла для мужа и сына... А эти кули? Ведь мне теперь таскать их! Мы сидели вдвоем, я пускал дым в купе. В окне летели деревни, в палисадниках огорожены дикие ели. За шпалерами высоких берез пылила дорога, два самосвала, кладбище, склон с сосной, стога соломы, Байкал... Чувствуя отстраненность Лены, я впал в дурное настроение, представляя себя рядом с ней стариком. Во Владивостоке я обижался, когда меня называли "отец". Не забуду, как это случилось в первый раз. Ехал на пароме с Ниной, ей пришло желание меня обнять. Молодая, она проявляла ко мне какую-то материнскую нежность. Люди сидели, никто не брал в голову, что девка прилипла к седому мужчине. Вдруг кто-то хлопнул меня по плечу: "Огонек найдется, отец?" – и я, как в тумане, под неимоверный гул крови в голове, угостил парня сигаретой, хотя он просил прикурить. Не догадываясь, что со мной, парень отошел, поблагодарив. Жуткое дело, как разобиделся тогда на Нину! В отместку, когда вошли в комнату, заставил ее голой собирать бусинки на ковре... Я думал о Нине, не зная, что ее уже нет, и сердился на Лену, которая молчит, и так, молча, и исчезнет. А тут проводник: "Извольте, мадам, получить свой билетик!" Оттренированный к косому взгляду, я понял, что связь наша раскрыта. Разъяснил и его гнусную ухмылку: "Докривлялась, потаскуха, связалась со стариком... То-то тошно тебе!" Знал этого негодяя, он подбирал несовершеннолетних девчонок. Слышал, что уволок одну в свое "Служебное отделение", придравшись, что едет без билета. А солдатик, совсем мальчишка, уже связывавший с ней судьбу, лишил себя жизни, выбросившись на рельсы, как когда-то зэк. Вот: работает, не осудили, и еще насмехается! А Лена молчит...
Тут ей понадобилось что-то у меня выяснить, и она, забыв, что ей надо взять билет, так естественно потянулась ко мне и, выяснив, улыбнулась своей печальной, зовущей улыбкой: "Какой вы негодяй, Борис Михайлович!.." Она была моя со всеми своими кулями, и мы дышали воздухом, который мы выдыхали, такие, прощающиеся уже, подъезжающие к Чите.
Часть третья. Возвращение к роману
19. Весна. Аня
Начался апрель, новое утро, когда я, одетый для бега, появился на холме. Туман, проступающее сквозь него солнце, белое, похожее на фаянсовую тарелку. Елочки и сосенки в бесчисленных каплях... Теплая слякотная зима незаметно перешла в озябшую весну. После солнечного просвета в феврале я видел еще одно ясное утро. В марте, на холме: голубое небо с высочайшим облаком, похожим на розовую медведицу. Я бежал, поглядывал на небо, как дунул ветерок, и медведица на моих глазах разродилась двумя мохнатыми медвежатами, совершенно белыми, какими им и следовало быть, а не розовыми, как их рафинированная мамаша. Весна выдалась скупая, но она мне и такая мила. А то, что это весна, я видел и по разомлевшим стволам березок, и по тому, как из строя деревьев выделились, забуровев, разросшиеся возле каменной сажалки лозовые кусты. В них весело стрекотали сороки, как пишущие машинки; а потом я отвлекся на ворону, которая сопровождала меня, летя так свободно среди частых елок, как по открытому воздуху.
Повезло, что воскресенье: нет хозяев, выгуливавших собак и куривших дрянные сигареты. Бегущий издалека улавливает табачный запах. Приторный, сладковатый, он как стеклом режет по легким. Ничего не мешало бежать, и я наращивал темп, повторяя заведенный порядок бега, не сделав за многие годы, что занимаюсь бегом, никакой поблажки себе. Обегая холм во второй раз, я застал возле сажалки домашнего кота. Кот сидел, смотрел на воду с жуками-водомерами – как любовался! Наверное, у него была художественная жилка. При моем появлении кот напрягся – как передернул затвор внутри тела! – и совершил великолепный прыжок. Когда я завершал круг, со стороны мусорных баков появился неухоженный Барбос, который так высоко задрал ногу на березку, что едва не опрокинулся. Я остановил бег, заметив, как что-то дивно отблеснуло на сосенке, среди тысяч висящих капель... Начал выяснять: что там, отблеснув, спряталось на веточке? Какая-то особенная капля или что? Ополз вокруг стволика, стараясь не задеть веток, высматривая снизу. Потратил минут пять и отлип от сосенки, оставившей меня с носом.
Поделом! Сочиняй, а не подглядывай!
Я уже мог сказать сосенке, что не впустую потратил месяцы. В тот февральский день, побродив со Свислочью, я вернулся домой и не лег на диван. Сел за стол, продолжив исследование своих рукописей. Занялся просмотром содержимого двух толстых папок с материалом романа о Счастливчике. Папки эти следовали по очереди за ненаписанной книгой рассказов "Могила командора". Неторопливо перелистывая страницы с набросками главок, эпизодов, пейзажей, жанровых сцен; задерживаясь на том, что еще хранило в себе энергию преобразованной реальности, я, тщательно все просмотрев, вдруг ощутил в себе какой-то толчок, фиксацию нового состояния. Так водолаз, всплывая на поверхность воды, обнаруживает вес своего снаряжения. Так из трюма парохода выбирается металлическая стружка – одним махом гигантского магнита-полипа. Эффект надежности предельно прост: все, что не притянулось, не прилипло, не дотянуло до крышки стола, – можешь без сожаления отбросить. Будь в тех папках материал для романа, я б, может, уже написал роман. Ведь я, помнится, проливал слезы именно над загубленным романом. Я ошибся, намного преувеличив потерю. Из того, что там было, написалась большущая новелла, безусловно стоившая того, чтобы появиться. Я выпустил на волю трепещущую душу своего Счастливчика, и уже мог не горевать, что с ним случилось на зверобойной шхуне "Морж". Должно быть, вся моя жизнь пустила корни в этой рукописи. Счастливчик, угадав избавителя, потянулся ко мне из старых папок. Теперь он сомкнул как литературный герой цепочку с самим собой из моего рассказа в "Осени на Шантарских островах". Пришлось прервать "Роман о себе" ради этой, столько лет не дававшейся в руки вещи: "Последний рейс "Моржа".
Эх, если б эта вещь как-то ободрила меня! Приподняла, что ли... Написал ее, ослабнув духом, полностью в себе разуверясь почти. Так когда-то, выронив рули всех своих рассказов, я ухватился за штурвал "Полыньи". В этой загадке был для меня какой-то ошарашивающий нюанс... Как объяснить, что, истерзав себя в напрасных попытках написать хотя бы крошечный рассказ, истратив весь пыл и ничего не добившись, оставив себе на долгие годы лишь безвольное ожидание, которое ни к чему не могло привести, я ни с того ни с сего пробудился?.. Откуда взялись силы на большое произведение? Может, я могу похвастаться особой психологической моделью, стимулирующей творческий процесс? Когда многолетнее самоистязание на грани нервного срыва дает желаемые плоды? Только вряд ли кто захочет такую модель перенять.
Ну, а сейчас, когда зарядился бегом, я предвкушаю тот момент, когда, постояв под душем и растеревшись докрасна, попив кофе, если еще остался в банке, я выкурю подряд три сигареты "Мальборо". Только тремя сигаретами смогу утихомирить разбушевавшийся от свежего воздуха, ноющий курительный нерв. Вместе со мной зарядился и мой тикающий японский друг "ORIENT" с колебательным маятником, самозаводящийся от бега.
Сойдя со склона, я распугал бродячих котов, выскакивавших из мусорных баков, как террористы из своих укрытий. Мстил им за набеги на моих любимцев -сорок. Теперь сороки воевали с вороной, облюбовавшей березу. Эта большая опрятная ворона, прилетая, подергивала клювом сплетенное сороками гнездо, как бы пробуя его на прочность. Заметил, что ворона начала отделять одну сороку, садилась к ней, постукивала клювом по ветке, распуская веером крылья, как плиссированную юбку, и не давала приблизиться второй сороке, уже застревавшей в гнезде, откуда она смотрела, печально осев головой в опушенную грудку. Неужели эта порочная ворона, бессовестно волочась за понравившейся сорокой, пойдет на такой феерический адюльтер в духе маркиза де Сада?..
Поднимаясь по этажам, увидел на лестнице пробудившегося Колю-алкоголика. Час назад Коля уже стоял, держась за стенку, то есть лежал вертикально. А вот и прочно обосновался на своих двоих и, отыскивая окурок в банке, жутко пердел, оповещая о выздоровлении. Проскочив мимо, вытирая на коврике кроссовки, я хватился, что на нашей площадке образовалась пустота. Возле той двери, где стоял Леня Быков. Тогда я вспомнил, что Лени Быкова нет. Целый месяц он простоял после операции, не похожий на человека, и лег в землю, не изменившись. Как сама смерть простояла в его обличье с сигаретой в зубах! На двери, как я помнил, висел черный бант, а потом его сняли.
У нас, в комнате Олега, куда переместилась, готовясь к выпускным экзаменам, Аня, пел Джо Коккер. По Коккеру и вычислил Аню, так как Олег, более изощренный в музыке, почитал тяжелый рок. Джо Коккер пел так громко, чтоб его слова долетали до Ани, завтракавшей на кухне. Олег мылся в ванной, я опоздал. Ожидая, когда выйдет сын, посидел с дочерью. Наталья хлопотала возле матери, меряла ей давление, а мы сидели молча.
Аня пила кофе, положив нога на ногу и от этого наклонившись к столу, как и я любил сидеть, и ее лицо с наброшенными на лоб прядками волос, перехваченными лентой, с синеватой выпуклостью глаз, если смотреть сбоку, просвечивало какой-то трогательной некрасивостью, которую замечал и раньше. Вдруг она, в себя погружаясь, выглядела так, что сердце вздрагивало и нестерпимо хотелось ее обнять, погладить по голове. С утра Аня копировала дословно мой мальчишеский портрет, пока не преображала его женственностью. Непросто ей было сладить с моими жесткими волосами, которые она пробовала то отпускать, то подстригать. Правда, она из-за этого не переживала. А переживала, что ей не удалось еще перенять мои широкие передние зубы, которые ей нравились особенно. Такое эпигонство ей было свойственно. Всегда она что-то хотела выведать, что происходило со мной в ее возрасте, чтоб иметь представление, что и с ней может произойти, и оставалась довольной, если обнаруживала в себе что-либо из моих склонностей и привычек. Мне было легко уезжать от Ани, так ее хорошо выучил и знал. Я даже о ней не скучал, думая постоянно. Зато, оказываясь с ней, случалось, принимал за абстракцию; спохватывался, что вижу в реальности, и смотрел, как подходит дочь, нелепо-грациозная на высоких каблуках, в моей рубахе или свитере. Любую мою обновку она выпросит, чтоб обязательно поносить. Мы шли, не зная, о чем говорить, смущаясь от своего сходства. По-видимому, и Ане было в новинку, что с ней шел не кто-то, а ее отец. Общение возникало так: к примеру, я скажу что-либо невпопад Наталье, а та переспросит, обидясь. Тогда Аня, вспылив, скажет, чтоб от меня отстали. Или за нее заступлюсь, если она выкинет что-то всем на удивление.
Нас связывали сигналы, идущие без опознания, как отпечатки на пыльце.
Сидя с Аней, я не пытался отгонять какие-то картины, связанные со мной и с ней... То возникал вокзал в Орше со сводами и чугунным литьем. Мы с Аней в вагоне, мы едем, кажется, к Бате в Шклов. Ранняя весна, холмы, испятнанные снегом; много снега в лесу, и, когда поезд идет через лес, в вагоне становится светло. Аня впервые в поезде, мы едем, едем через лес; и в вагоне светлеет, становится еще светлее, совсем светло: Или я вспоминал, как мы увидели залетевшего в форточку майского жука. Жук не летал, усиленно двигался, ползал по занавеске, неохотно полез в спичечную коробку. Ночью от него был шум и треск, и утром жук не мог успокоиться. Мы думали, что он, такой бодрый, полетит, но он упал из форточки камнем. Может, он и не хотел за окно? Хотя какие у жуков могут быть желания!.. А еще я вспомнил, и это было и сейчас больно вспоминать. Мы шли в детский садик, Аня упала. Ударилась больно, ей было так больно, что она захлебнулась от боли. Я знал, что как только она одолеет этот перехлеб, она разразится плачем, и ждал ее крика, даже забыв ее поднять. Казалось, все звуки вокруг исчезли, я оглох от ожидания. Я стоял, а плача не было, и я увидел, что Аня лежит в снегу, удивленно смотрит на меня: она по-детски, но безошибочно поняла, что папе еще больнее от того, что она упала, – и не заплакала!..








