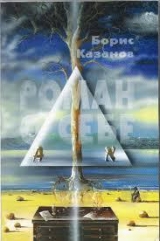
Текст книги "Роман о себе"
Автор книги: Борис Казанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 28 страниц)
Не знаю, остался ли Генка живой, перейдя на "Воямполку", несчастнейшую шхуну, когда ее в Сахалинском заливе захватили зыбучие пески. Это жуткое дело там, на мелководье: деревянное судно, проваливаясь между волнами, днищем цепляется за донный песок. Я описал в "Последнем рейсе "Моржа", как Вершинин с Батьком, – на руле сам Счастливчик! – проходят пески, не обращая внимания на буи, так как им нельзя доверять. Там в рулевой корифеи, величайшие моряки! – и то Вершинин, когда Батек начинает суетиться, обряжать его к смерти, а капитан недоволен местом погребения на песках, – тогда, изловчась, Вершинин раскровянил Батьку сопатку, – то есть и на "Морже" не все так гладко обошлось на песках. А на "Воямполке" вдобавок – дифферент, перекос от тюленьего жира. Шхуна завязла в песках, ее засосало до марсовой бочки еще раньше, чем явился спасатель "Атлас".
А я был уже на зверошхуне "Белек", среди людей, изломанных судьбой, избитых без пощады. Там и произошел случай с китом, который спал на воде, и мы на него наехали ночью на боте. Хорошо, что кит не открыл пасть, а только шевельнулся слегка, что было достаточно. Я не намерен больше шутить, так как увидел не промысел, а убийство зверей, и об этом я сказал, не покривив душой. По-видимому, хватит одного описания: "Между тем берег был уже совсем рядом и оттуда, заглушая рев прибоя, доносился храп спящего зверя. Они обошли остров с подветренной стороны и стали медленно подходить. Несмотря на то, что был отлив, вода стояла высоко, как это бывает в пору полной луны. Прибой разбивался на камнях, окатывая бот брызгами и пеной, и в темноте они долго искали узкость между осохших камней, чтоб пристать. Бот ударялся широким, обшитым железной рубашкой носом о камни, а люди прыгали на берег один за другим, исчезая в пене, оскальзываясь на мокрых, оклеенных водорослями камнях, а выше линии прибоя камни были сухие; рубчатые резиновые подошвы сапог прямо липли к ним. Они довольно быстро продвигались в темноте и минут через сорок добрались до гребня, а лежка тюленя была за гребнем, и от храпа зверя глохло в ушах. Одолев гребень, они увидели тюленей, лежавших на галечном пляже. Прибой бил передним тюленям в морды, они отползали вверх, они не слышали людей из-за шума прибоя. Но тут кто-то из ребят сделал неосторожное движение, а возможно, вожак учуял запах человека. Он закричал, а вслед закричало несколько тюленей. Моряки слышали шум гальки, растревоженной ластами животных, и плеск – это передние тюлени уже добрались до воды. Тогда помощник выпустил ракету, и они кинулись... На ботах, курсирующих вдоль берега, включили прожекторы, и в их свете лежка представляла фантастическое зрелище. Была плотная, серая, хрипящая масса зверя, которая ползла к морю, – многие тюлени не слышали вожака и спали, задние налезали на передних и не могли перелезть через них; фигуры людей, бежавших наперерез зверю, утопая по колено в крупной гальке; глухие удары дубин, хруст раздробленной кости и искры от камней, когда бьющий промахивался, и многие тюлени, видя, что им не выбраться к воде, ползли обратно и укладывались на гальке, глядя, как люди подбегают и убивают их..."
Василь Быков в своем письме, которое я постоянно цитирую, так как оно было светом в моем окошке, пишет: "Все рассказы в сборнике подобраны удивительно равные, нет ни одного слабого или слабее других. Часто при чтении даже возникала мысль: как это напечатали? То есть это настолько хорошо, что совсем не по времени". Мне здорово повезло на рецензента О.Михайлова, известного московского критика, буниноведа, составителя сочинений Ивана Алексеевича Бунина. Приоритет издания этого писателя после долгих лет забвения на родине целиком и полностью принадлежит Олегу Михайлову. Повезло и с редактором Игорем Ждановым, конечно, он спас и "Полынью".
Остался у меня в Москве большой друг Игорь Акимов, критик журнала "Юность", с которого все и началось. Собрав разрозненные мои рассказы, один за другим отвергаемые журналами, он придал им вес в форме единой рукописи, уговорив Олега Михайлова, как до этого Владимира Лакшина, ознакомиться с опусами молодого гения с Дальнего Востока. Никто и не думал, что я в Минске, никому и в голову не приходило, кто я. Такие рассказы мог написать, безусловно, человек, родившийся на суровых берегах Сахалина, с детства познавший быт и труд зверобоев, китоловов. Сколько раз он, Акимов, завороженный замыслом "Полыньи", призывал меня в письмах "вернуться к той книге, ради которой ты живешь!" Сам он, писатель и критик, был известен спортивными репортажами. Подобно Рингу Ларднеру, освоил и впервые употребил беспрецедентный по филигранности и психологической достоверности жанр, который я из простоты назвал "репортажем". Это была такая простота, в которой гигантский зигзаг шахматного коня Таля получал адекватное осмысление, был психологически подготовлен и в точности совпадал с движением талевой руки. Меня же больше всего изумляло в разнообразной по дарованиям натуре "Акимыча" прямо-таки прирожденное и редкостное в наши дни, особенно в среде литературных завистников, самопожертвование во имя друга, его продвижения.
Разумеется, и они: Акимов, Михайлов, Жданов – были бессильны перед цензором в юбке из Главлита, которая в ужасе докладывала, как мне передал Жданов, главному цензору, что в моей книге Бог знает что творится: "избивают зверей беззащитных, одна кровь и мозги от разбитых черепов." – "Тема защиты природы?" – "Ну, наверное..." – "Только что вышло постановление Косыгина, надо охранять природу", – веско сказал главный цензор, – и книга моя, нетронутая, понеслась в тираж! А как же еще могло быть, если в ней был заложен рассказ "Счастливчик"? Заканчиваю, наконец, цитирование письма Василя Быкова: "Рассказы великолепны, как великолепен Ваш талант, в котором есть немало от двух великих – Бабеля и Хэма, что, разумеется, делает Вам честь". Олег Михайлов также отмечает "некоторое давление приемов И.Бабеля" и уточняет: "Говорить о страшном, давясь от смеха".
Для меня самого оказалась неожиданной ссылка на Бабеля как на одного из моих учителей. К Бабелю я пришел позднее и, думаю, схожесть с ним не перенятая, а жизненно-интуитивная, по складу личности. Принимаясь за книгу, я держал перед собой образец: клондайкские рассказы Джека Лондона. Давно не перечитывал их и уже забыл, как они хороши. Именно хорошо написаны, что не всегда отличает крупные вещи Джека Лондона. Порой его предельно конкретные и реальные по обстановке рассказы неуловимо превращаются в были, – так их окрашивает мощная фантазия. Трогают именно "нелепости", которые писатель естественно так разбрасывает по страницам, как бы и не вдаваясь, так оно или нет... Незнакомый человек входит в комнату с мороза, вся борода и усы в ледяных сосульках, и Лондон утверждает, что только когда незнакомец очистил ото льда бороду и усы, стало ясно, что он швед. Такое утверждение смешит, и в то же время, – почему нет? Ведь только швед может войти вот такой, весь во льду, а потом еще трое суток мчаться по Юкону к больному другу... Я хочу сказать, что этой ребячливостью достигается высочайшая художественная мерка товарищества, свидетельствующая о колоссальном душевном здоровье писателя... Великий чудила Джон, то есть Джек, развлекается!..
Подражать ему бесполезно, ничто в этом смысле невозможно отнять и у Эрнеста Хемингуэя. Создав теорию "айсберга" ( я бы сказал: "подсова"), пряча в подтекст многое из того, о чем можно бы сказать впрямую, он достиг совершенно неведомой до него обратной силы воздействия. Его дразняще загадочные миниатюры, приобретая эффект бумеранга, впиваются, как жалящие стрелы, в изощренную психику интеллектуала. Незнакомец в описываемых им местах, Хемингуэй умел создавать первое впечатление, чего вполне хватало для художественной иллюзии. Это был его творческий метод: свежий оттиск с увиденного, – одобренный судьбой и внутренней предрасположенностью, и это порой выглядело лучше, чем коррида испанца или Париж глазами француза. Хемингуэй создал азбуку художественного письма. Произведения его не столько читаешь, сколько разглядываешь. Все распадается на отдельные фразы. Поражает красота этих написанных черным по белому фраз. Вроде бы слова не могут быть красивы и некрасивы графически. Никому не придет в голову рассматривать предложения, когда воспринимаешь текст. Эрнест Хемингуэй заставляет каждый свой рассказ рассматривать, как картину. Роман "Фиеста" – это целая картинная галерея. Хемингуэй как великий мастер, понявший, в чем его сила, оказался прав, отдавая приоритет словесной графике: эмоции гибнут, проблемы – что мусор в Гольфстриме, а вечное наслаждение доставляет только словесная красота.
Писательство – это, конечно, труд и пот, но только труд и пот – это не писательство. Бывают и такие дни, когда медленно разгоняешь себя. В эти дни противно думать о себе как о писателе. На страницы не падает луч вдохновения, а просто идут серые листы. Их потом можно вытянуть техникой, и даже не заметят в общей массе. Однако обрабатывать их мучительно тяжело. В этих серых страницах зачастую вся твоя судьба. Так шутит жизнь: вдруг чувствуешь крылья, летаешь, и они вдруг обвисли. Даже думаешь: может, это и есть твоя болезнь? Что в тебе от природы что-то заложено по ошибке или для смеху, и ты носить не в силах и не в силах избавиться. Вот и слоняешься со своей безутешной тоской, а если еще и мир против тебя, то – попробуй выстоять!..
29. Вера Ивановна, Александр Григорьевич
Ё +_?_¤Rз-лc ?Rбвм
Моя хозяйка Вера Ивановна с утра уезжала убирать какую-то фотолабораторию, забрав с собой и дочку Ниночку, почти ровесницу Олежки. В домике становилось тихо. Я возвращался с разминки, приготовлял несколько больших кружек чая. Одну кружку приканчивал сразу на кухне. Остывая от бега, вспоминал то желтое поле люпина возле Зеленого Луга, то ручей, позванивающий ледком, или мягкий, только уложенный асфальт, казавшийся опухолью на полевой дороге, с длиннейшими хирургическими разрезами трамвайных рельсов. Перебегал их, оглядываясь; где же трамвай? Я привык к трамваям во Владивостоке и радовался, что будет трамвайная линия недалеко от нас.
Зачастую заставал на кухне хозяина Александра Григорьевича. Подтянутый по-военному, полковник в отставке, он ступал с затруднением из-за пораненной ноги. Всегда очень тщательно брился, долго намыливал длинное темное лицо, подтачивал и подтачивал опасную бритву на командирском ремне. Выбриваясь, смывал пену, залеплял порезы бумажками и становился непредсказуемо, неправдоподобно молодым. Надо было привыкнуть, когда он вставал с другим лицом. Как будто и не Александр Григорьевич. На меня сходило открытие, отчего у него такая маленькая дочка. Я не раз был свидетелем ревнивых наскоков Александра Григорьевича на Веру Ивановну. Даже если та рассказывала что-либо скабрезное. А сейчас угадывал в этом тихоне бойцового петуха.
Посидев вдвоем, обменявшись почтительно-деликатными репликами, мы расходились. Александр Григорьевич работал диспетчером в трамвайно-троллейбусном парке, а я трудился за письменным столом. В комнате я ставил на стол кружки с чаем и отпускал минут пять на энергичное шевеление пальцами. Правая рука давала сбой, костенела от деревянной ручки. Смена пера 86 – и я засевал словами лист бумаги. Я уже составил список рассказов, которые собирался завершить до приезда Натальи. Пока что укладывался в сроки, помечая в списке крестиком готовый рассказ. Боялся лишь одного: чтоб кто-то опять не заявился. У меня перебывало за это время немало людей. Но постоянно донимала своей заботой Вера Ивановна.
Уборка фотолаборатории отвлекала хозяйку на несколько часов. Все остальное время, оставаясь с дочкой, Вера Ивановна искала общения. Не могла вытерпеть, что я сижу взаперти. Пробовала заговорить в моменты моих выбеганий во двор. Там я второпях, длинными затяжками выкуривал сигарету и тотчас уносился, не восприняв ее заговариваний. Вера Ивановна заглядывала в комнату, приоткрыв дверь. Не оборачиваясь, я делал нетерпеливый жест: дескать, занят позарез! Мало ее стеснялся, не боялся обидеть. Вера Ивановна ровно относилась к Наталье. Олежка для нее, как свой ребенок. Я же тут кумир, гордость дома. Правда, Вера Ивановна была способна и на измену, если появлялись люди более знаменитые, как Шкляра или Заборов.
Поначалу я отверг куриный бульон, который Вера Ивановна передала через Ниночку, пытаясь использовать ее, как "троянского коня". Запах пищи вызывал у меня тошноту. Отощавший, я легко вписывался в свои рассказы. "На голодный желудок стреляется лучше, глаз чистый, понял?" – объясняет новичку Бульбутенко, уговаривая есть черствый хлеб с солью и приберегая тушенку из НЗ. Вот я и берег "чистый" глаз. Как-то, пробежав "десятку", не утомившись вроде от бега, я внезапно стукнулся головой о крышку стола. Очнувшись, сообразил, что побывал в обмороке. Пришлось снизойти до бульона и выдерживать посещения Веры Ивановны.
Вера Ивановна припоминала что-либо из своих фронтовых увлечений. Впрямую факт, уличавший ее в легкомысленной интимной связи, не оглашался, но он как бы витал в воздухе. Такими отчетами о своих фривольных интрижках, из-за чего убегал, сердясь, Александр Григорьевич, Вера Ивановна хотела сгладить пикантность положения, в которое она попала, став молодой матерью. А также отстоять себя в глазах мужа, чтоб он страшился измены, несмотря на то, что умудрился сделать ей ребенка. Я видел Веру Ивановну на фотографии военных лет: мелковатая, в кудряшках, с виду очень порядочная, даже чинная, она стояла среди своих подружек-санитарок, скромненько подогнув ногу в колене, ничем не выдавая, что в "тихом болоте черти живут".
–... у Пулковских высот. Вижу: ожог большой, рана навылет, запорошена порохом, самострел. Наложила тампон, глаз не поднимаю. Он говорит: "Замажь, Веруня, чем-либо, не выдавай. Даст Бог – не заметят в лазарете!" – и подает мне букетик мать-и-мачехи... Красавец-мальчишка, армянин!
– А что такое "мать-и-мачеха"? – спросила Ниночка.
– Цветы такие желтые.
– А почему они так называются?
– У них сверху листок гладкий, а снизу – шероховатый, ворсистый...
Ниночке все равно было не понять. Она спрашивала не из любопытства, а просто так, уже изнывая сидеть на одном месте, дергая мать и крутясь, чуть ли не пластаясь вслед за раскачиваемой дверью. Вера Ивановна и не замечала своевольства. Рыхловатая, в желтом с полосами сарафане с открытыми руками и полосой веснущатой загорелой в вырезе кожи, как бы ставшей собственностью сарафана, она поглядывала голубоватыми выцветшими глазками, сдержанно прыскала смехом, прикрывая портивший ее рот с металлическими зубами:
– Красивый был мальчишка! Говорил: "Если выживу, обязательно заберу тебя в Тбилиси!" Они, армяне, все живут в Тбилиси.
– Выжил?
Я съел бульон, подал Ниночке тарелку, и та, взяв, с удовольствием понеслась вприпрыжку.
– Куда там! Это же не тыловая часть... Самострел – расстрел! Не успела обернуться, уже лежит в другом рядке, закапывают.
– И все?
– А что ты еще хочешь? – Она рассмеялась. – Букетик-то он мне в другом месте нарвал...
– Ну, тогда другое дело... – Я попытался извлечь выгоду из нашей беседы. – Вера Ивановна, вы могли бы подождать с оплатой за квартиру?
– Ты же уплатил за этот месяц.
– Я следующий имею в виду.
– Что тебе стоит заработать? Я изумляюсь: для тебя же деньги под ногами валяются!
Понимая, что просьба отклонена, я развел руками:
– Если валяются, придется подобрать.
Проявив твердость, Вера Ивановна решила меня ободрить:
– Вот напишешь книгу, станешь богатым. Будешь здороваться через окошко машины.
– Чезаре Павезе, итальянский писатель, сказал примерно так: "Будущее угадать невозможно, но можно сказать: как жил до 30, так и будешь жить дальше".
– Правильно сказал.
– Через два года и я с ним соглашусь.
– Конечно! Смотри, до чего ты дошел: не ешь, не спишь, не бреешься, зарос, усох, заплесневел... – Выкладывала Вера Ивановна арсенал не утешительных для меня глаголов. – Хоть бы в баню сходил, протерся... Перестань дурачиться с дверью! – тузанула она вновь появившуюся Ниночку. Линию трамвайную открывают завтра с Зеленого Луга. Не хочешь проехать в трамвае?
– Хочу.
– Вот и проветрись. Вернется Наташа, чем будешь семью кормить? Или ты ей не муж? – Вера Ивановна откашлялась и поднялась, услышав поскребывание в дверь: это пришел сосед Кошкин. – Ну, убедила тебя?
Я кивнул, хотя душа у меня заныла.
Перед этим я закончил цикл рассказов "Москальво" и уже осознавал необходимость передышки. Однако удерживала на месте боязнь: потеряю темп – и улетучится настроение. Все ж придется, видно, подумать о заработке. Недели две назад набросал перед Натальей на листке предполагаемые суммы гонораров. Получилась внушительная цифра, сам умилился: как чудно все устроится!.. Даже могли сэкономить некую толику денег для серьезного предмета. Купить, к примеру, шкаф. Не говоря уже про то, что я начинал собирать библиотеку. Жена сунула мой листок в белье, надеясь, должно быть, что там, среди чистых простыней, куда она обычно прятала деньги, листок обернется реальными доходами. Хотя бы в одном из перечисленных пунктов. Я же все позабыл – из-за своих рассказов. Кончался октябрь, упущу еще день-два, – и месяц голый, без копейки. Сколько можно трясти Нину Григорьевну? Или я думаю за месяц написать целую книгу? После цикла "Москальво" пойдет суровый реализм осеннего промысла, с другими героями и подоплекой. Нужно сделать паузу, интервал, отойти от того, что написал.
В самом деле! Надо не рвать попусту нервы, а подвести под заработки идею. В чем такая идея? В плодотворности промежутков между писаниями. Можно обеспечивать существование и держать в готовности свое перо. Вот Шкляра: масса стихов, а кто его видел за столом? Почти полгода на рыбалках. Послюнит карандаш, пометит в рваном блокнотике... строчку записал? Или подсчитал, сколько гороха потребуется на подкормку язей? Раз я видел, как Шкляра что-то прошептал волнисто изогнувшимися губами, зло оглянувшись с реки на росистый луг... Так Пушкин оглядывается с картины в Эрмитаже, идя обезьяной подле плывущей шхуной Натальи Николаевны... Потом поплевал на крючок с наживкой... Осенил поэтическим заклинанием? Так шла у Шкляры рыбалка – под невидимый и неуловимый аккомпанемент стихов...
Отведя глаза от рукописи, вспомнил день со Шклярой под Славгородом, бывшим Пропойском ("В Пропойске май! Коза жует афишу...") – нет, это было не в мае, недавно, в начале месяца. Лесная дорога, заросшая травой посередине; лен в бабках, тучи скворцов над стерней и громадные березы. Уйдя один по реке, я добрел до смолокурни, где Сож делал поворот, выкругляя смещаемой водой высокий глинистый обрыв. Сев на пень, источенный муравьями, смотрел на воду, мутно освещенную солнцем. В ней подходили к затопленной коряге невидимые рыбы, отбрасывая тень на корягу. Что это рыбины, а не бесплотные тени, я убедился, вытащив окуня, красноперого, с темными полосами поперек туловища. Поранил палец, снимая его с крючка, об остренький плавничок и, посасывая кровь, сидел, слыша, как в смолокурне кто-то пиликает на гармошке. Пережив короткое счастье от пойманного окуня, я понимал ненужность того, что совершил. Окунь потерял цвет, отвердел, – зачем он мне? Я чувствовал у реки, что одиночество, возникшее возле Шкляры, только усилилось с пойманным окунем и этим пиликанием на жаре.
В дверь постучали... Дождался! Кто-то не свой, ну и ладно. Перерыв так перерыв. Все само образуется, и материал снова позовет к столу. Тогда и цена ему возрастет!
– Прошу!
Вошел молодой человек с редковатыми волосами, небритый, как я, только в светлой щетине, с круглыми голубыми глазами. Он был одет в габардиновый плащ без ремешка, сидевший на нем без охоты и оттягивавшийся вперед, как из-за живота. Ни в одежде, ни в лице вошедшего не было ничего, что бы указывало на его принадлежность к писательскому сословию. Ничем он не отличался от самых обычных людей. В разговоре избегал всяких литературных тем. Это был белорусский прозаик Микола Копылович, который жил неподалеку и поэтому иногда заходил ко мне. Больше ничего не могу про него сказать. Миколы давно не было, вот он снова явился, мне придется его объяснять, и я в полной растерянности от этого.
Микола же, видя, что я уперся в него взглядом, как бык в красные ворота, дал паузу, чтоб я к нему привык, – стоял, держа палец на верхней пуговице плаща, улыбчиво подрагивая губой, терпя.
– Здаров-ка, Барыс.
– Здаров, Микола.
– Што: прагониш ти даси сесьти?
– Сядай. Я ужо мяркую адпачыть.
– Кали маеш што выпить, дык я не буду пить.
– Няма ничога, не хвалюйся.
Копылович обеими руками с усилием расстегнул верхнюю пуговицу плаща, сдавливавшую у горла, и полы, незастегнутые из-за тесноты петель, разошлись. Присев на краешек кровати, он уронил между ног сцепленные руки и, обернув глаза на переулок, по которому ко мне пришел, застыл, превратился в изваяние. Я мог сейчас, ему уподобясь, продолжить исследование того, что случилось между мной и Шклярой на Соже, близ Пропойска. В течение получаса можно без помех заниматься чем угодно. Но если я взялся объяснять Миколу, то о чем он, как только присел, глубоко задумался? Вспомнил, что Микола говорил мне, кажется, в прошлый раз, – самое удивительное из того, что от него слышал. Микола сказал, что жена отправляет его на лечение как алкоголика. По-видимому, он вернулся из лечебно-трудового профилактория. Если перефразировать морскую пословицу: "Баржа без шкипера, что моряк без триппера", то не существовало бы писательского Союза без ЛТП, поскольку он являлся в некоем роде творческой базой Союза письменников БССР. Там имелась должность библиотекаря. На эту должность претендовали, выстаивая очередь, многие пишущие алкоголики, сдаваемые на лечение своими женами. Там-то им не давали пить и вынуждали писать произведения. Но разве в этом нет морального унижения? Вот бы нечто подобное сотворила со мной Наталья! Микола ко мне зашел, не боясь, что я его напою, и сидел хотя бы по той причине, что на всем Сельхозпоселке не было ни парка, ни сквера. Не было даже скамейки, где он мог вот так молча посидеть.
Или я его не объяснил?
Микола, выйдя с глубоким вздохом из оцепенения, посмотрел на рукописи, на чернильные пятна на моем столе.
– Пишаш нешта, братка?
– Так, нешта.
– Працуецца?
– Тольки пачав.
– Галовнае пачать, а там папавзе!
На словах Микола меня поддержал, но в его круглых глазах появилось и застряло нечто, таившее для меня конфуз и не смеемое быть выговоренным. Словно какое-то табу наложили на его уста. Так, если верить Пушкину, приходил к Моцарту Сальери, садился и страдал от унижения искусства. Дескать, такой несмышленыш, как Амадей, не умеет ценить то, что идет, не спросясь, ему в руки, – болтает, веселясь, и ставит и ставит на нотные листы закорючки своих волшебных симфоний... Ай да Микола!.. Но если принять такое сравнение даже в геометрическом снижении наших фигур, то так ли уж интересно Миколе, что я пишу? Я не видел в его глазах никакой зависти. А что в них было? Помнил такие глаза у некоторых стеснительных мальчишек в Рясне, которые вели себя мирно в классе, а нападали из-за спины. С такими труднее всего помириться, поскольку как бы и не было вражды. Получив по соплям, они больше не нападали. Но дружить с ними мешала некая стеснительность, стеснительность в их глазах...
Ну, а такие, как Гриня, с ними можно мириться?
Год назад я побывал на семинаре молодых прозаиков в Доме творчества имени Якуба Коласа. Деревянный домик, двухэтажный, хорошо протапливаемый, в сосновом зимнем бору. Так уютно там было жить, писать в свете зеленой лампы. Я написал повесть, которую не взяла "Юность" и пришлось отдать в "Неман". Пишешь, сделаешь перерыв и, погасив лампу, отдернув занавеси, смотришь на ночной бор, на пылящие снегом громадные сосны и ели. Как будто и лампу не погасил – так от снега светло... Господи, что еще надо? Жить, писать и чувствовать себя таким, как все!.. Однако консультанты Союза письменников Иван Науменко и Алесь Кулаковский, ведя семинары, даже не глянули в мою сторону. Я тогда восхищался такой бездарью, как Науменко. Написал о нем большую рецензию, передав весь свой трепет. Увидя в двух шагах известного писателя, профессора, академика уже, подошел, робко заговорил, но встретив категорическое неприятие, с недоумением отошел... Зачем ему понадобилось так резко отталкивать от себя молодого человека, который искренне им восхищен? Да, застенчив, косноязычен, но это-то и признак, что от всего сердца! На то ты и письменник, чтоб понимать... В Рясне я мог объяснить столь открытую неприязнь и знал, как с ней бороться. А здесь? Как разгадать, что застряло в круглых глазах Миколы Копыловича?
Надо мне научиться их понимать. И в первую очередь таких, как Микола Копылович. Я никогда не пил с Миколой, как и с другими своими ровесниками из числа белорусских письменников. Удалось при помощи Шкляры приобщиться к верхам. Но эти-то – самые многочисленные...
– А як твае справы?
– Книжку привез, – ответил он. – Далибог выйде.
– Личы, што без пяти минут письменник.
– Што ты маеш на увазе?
– Саюз письменников.
– Я ужо у Саюзе.
– Без книжки?
– Хто там чытае? Прывел Шамякин на вочы камиссии: "Берыте хлопца?" Тыя глянули: "Падыходить". – "Ну, дык бяжи, кажа Иван Пятрович, за гарэлкой". Я и пабег, як падсмажыли пятки... – Микола, разволновавшись, забыл, что отрекся пить. – Можа, есть четвяртинка, стары? Я б глынув кроплю...
– Няма, браток.
– Няма дык няма.
И он уставился в окно с прежней мукой в круглых глазах. Я попытался объяснить эту муку в глазах Миколы Копыловича... Что ему не хватало? Он вступил в Союз писателей без всяких хлопот. Или ему надо было ехать на зверобойный флот? Терять сознание над рукописями? Привели, показали, не читали и приняли по внешнему виду... А я как раз его читал! Перевел по заказу "Немана" два его рассказа. Не скажу, что убогие, но неразвитые по чувству. Где б еще их напечатали, если не здесь? Он мог ездить в ЛТП, как в творческую командировку. Мог сидеть в свете той зеленой лампы, не стесняясь, – вокруг свои! – выйти из комнаты, сказать: "Написал повесть!" – и приятно удивить всех на семинаре. А не сидеть, запершись, как я, вздрагивая от каждого шороха, как будто ты вор или прячущийся от погони; пробрался, чтоб настрочить испуганной рукой предсмертный "Дневник", как Анна Франк, и сейчас за спиной откормленный Иван Науменко рявкнет не по-профессорски зычным баском: "Уставай! Расписауся..." Как Микола не понимает свое такое счастье? Пришел ко мне и сидит здесь... Ну, как его объяснить? Может, с жонкой разругался? И опять она его – туда?
– Ты усе на прыватнай кватэры?
– Прапанавали сваю, але ж не ведаю ти брать.
– Кали не ведаеш, давай мне.
– Жонка чакае кватэры, каб кинуть мяне.
– Тады кинь жонку.
– А як жа без кватэры?
– А як живу я?
– Ну ты! Ты марак...
Вот и поговорили... Нет, Микола Копылович был недоступен мне! Не мог его воспринять, хотя мы разговаривали с ним на одном языке. Любой пастух был мне ближе во сто крат и понятнее или доярка. Я не испытывал к нему никакой вражды. Безобидный человек. Или он у меня что-то отнимал? Но в нем скрывался какой-то логический казус. Даже не понимал, почему он пьет, живет с жонкой? Зачем ему нужен Союз письменников? А он, Микола, что-то знал про меня. Недаром возник в его глазах конфуз, когда он увидел мой стол в чернильных пятнах и рукописи на столе... Все ж с годами я объяснил, какой ко мне приходил гость. Нет, не страстный Сальери, каторжник искусства, не Мефистофель в габардиновом плаще. Приходил Микола Копылович, нормальный хлопец, а также письменник не хуже многих других. И будь у него рот не на замке, он бы меня предупредил, чтоб я ничего не писал, ничего не добивался, а лучше б распил с ним четвертинку горелки. Впрочем, о четвертинке он прямо и сказал. Может, и выпил бы с ним, хотя куда интереснее распить ведро воды с конем. Только я не хотел ни под каким предлогом занимать у Веры Ивановны.
– Братка, да тябе просьба.
– Кажы.
– Есть нажницы? А то киптюры на нагах вырасли – во! Аж загибаюца у чаравиках....
Нашел ножницы, самые большие.
– Тольки потым прыбяры з падлоги...
– Гэта я ведаю, браток.
30. В утреннем трамвае
На рассвете прошел небольшой дождик с сильным ветром. Редкие капли ударяли со звоном разбитого стекла. Я все подхватывался с кровати в испуге и счастье от какого-то сна. Хватался за рукопись, как будто ее могло не оказаться на месте. Искал на страницах какие-то знаки и забывался в продолжении сна. Но вот дождик прошел, все затихло. Утром, выйдя из дома, я увидел, что осину, еще недавно всю в листочках, казавшуюся такой стойкой, почти полностью обтрясло. Нижние суки были голы, листья облепили мокрую дорогу, кусты и кирпичную стену. Это и есть та осень, которую я люблю! Было приятно выйти из заточения, зная, что просидел не зря. Меня согревало новое пальто, которое только сегодня надел. Я похудел, ничто не стесняло моих движений; я как подрос, постройнев, и наслаждался тем, что иду.
Повезло! Оказался в числе первых пассажиров, ехавших по новой трамвайной линии. Для полного кайфа следовало сесть на кольце, где трамвайные рельсы описывали геометрические кривые. Одна тетка еще успела там вскочить, и новенький трамвай, апельсиново засветившись изнутри двумя вагонами, тронулся с места. Подождал его на остановке с болтающимся жестяным знаком "Т". Во Владивостоке трамвай показывал чудеса героизма, особенно на гористых участках маршрута от Океанской набережной до Минного городка. Я сидел там в трамвае, как в просмотровом зале, не успевая переводить глаза с фантастических пейзажей на таких же фантастических людей. Возник на мгновение в глазах тот трамвай, будто я во Владивостоке... Вышел из почтамта с Натальиным письмом в руке, стою, а он, трамвай -"пятерка", разворачивается круто на верхнем кольце, чуть ли не упираясь красным лбом в свой задний вагон... Сползай сюда, красная морда! Сейчас усядусь в твой пустой вагон. Развалюсь на двух сиденьях, чтоб нормально прочитать письмо...
Но было неплохо войти и в утренний минский трамвай с симпатягой-водительницей. Дожевывая булку, с набитыми щеками, она озорно подмигнула мне. Все собрались в одном вагоне, второй был пустой. Особая тишина, свойственная пригороду, электрический свет, общая потребность куда-то ехать ни свет ни заря, первый рейс в новеньком трамвае создавали иллюзию собравшейся семьи. Тут сидели нестарые тетки, закутанные в платки, ехавшие подметать центр столицы. Одна из них, которая успела вскочить на кольце, объясняла напарнице причину своей задержки: "Через хозяина перелезала свово и зацепилась". Еще были молоденькие солдаты из Уручья, где располагалась воинская часть. На их лицах, белых подворотничках, на ремнях и пряжках, натертых мелом, лежало предвкушение увольнительного дня.








