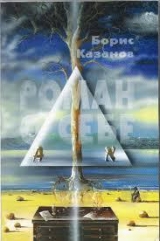
Текст книги "Роман о себе"
Автор книги: Борис Казанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 28 страниц)
Женщины глазели на драку, что учинили приезжие рыбаки. Один из них, здоровенный, что лось, остриженный под "ноль", озверело колотил паренька, в кепке с челочкой, с татуировкой орла на руке. Паренек, бесчувственно снося удары, ответил только раз. Так метко, что драка сразу кончилась. Неприятный пацан, а рыбак – само собой. Доводился, кстати, пацану отчимом. Я бы о них не упоминал, если б не встретил потом на Хуту. Они там, в водолазных костюмах, заготовляли лососевую икру. Гриппа посоветовал не садиться близко к костру. Я им незнаком; во сне могут сжечь, оплеснув бензином, как инспектора Авдеева. Возле костра у них снова начнется драка. Отчим хотел заставить пасынка идти в тайгу. Сам что-то забыл, а пацана гнал принести. Пасынок отказывался, боясь темноты. Кулаки не помогали. Тогда отчим перестал пасынка бить и погладил, как сына. Пацан сломался, сдался. Он ушел, а через сутки, когда я уже один, без Гриппы и Жана, пробирался через лес, я видел этого пацана, которому сейчас налили стакан водки. Видел разорванного тигром. Отдельно – голова с челочкой, с закатившимися кверху зрачками, и рука с орлом.
Гриппа накупил в обе руки: мелкий частик, банки с томатами, сосисочный фарш. Продавалась наша морская еда! Гриппа любил консервы, я же лез на стенку из-за рыбы и икры. Кета здесь, длинной с метр, стоила 40 копеек. Гриппа сказал, что она не стоит таких денег. Засолили с требухой, даже не взяла соль. Он нарочно не купил в Ванино сигарет. Курил, как я, но в поселке сигарет вечно нет, а ему надоело одалживать. Морская привычка: в море надо курить свои. Не отходя от магазина, он проверил купленную водку. Достал расческу и засунул ее в горлышко полной бутылки. Прошлый раз такую привезли, сказал он, что расплавилась расческа. Эту водку, что он купил, я не увидел у него на столе.
Вскоре я наслаждался прекрасным домом Гриппы в устье Тумнина. Долина в цветущих маках с проглядывавшей морской синью. Прошли по макам, как по ковру. В доме я не мог отвести глаз от зеркально отсвечивавшего пола из широченных кедровых досок. И это, как сказка, когда Варя, жена Гриппы, пронесла бросающий блики от углей уральский самовар, держа его за резные деревянные накладки, чтоб не обжечься. Я любовался светловолосыми дочурками Гриппы, игравшими на полу. Выпивая, выходя к штакетнику подышать, мы не заметили, как девочки выползли в открытую калитку. Ничего такого, если б не вороны. Опасные для малышек, очень большие, понаглее чаек. Девочки запрятались среди маков в своих красных платьицах. Пьяные, мы бы не отыскали их, если б сами не отозвались.
Понял я, почему Гриппе все равно, как он выглядит. Жена любила его и такого, с кустами в ноздрях. Варя встретила меня неприветливо. Протянул руку, что не в обычае староверов, занявших много и из образа жизни орочей. Варя отвернулась, ударив о пол ногой, разозлясь: "Нечего тебе делать у нас!" – Гриппа рассмеялся, и никуда она не делась. Пришлось меня по-гостевому поцеловать. В ней было что-то строптивое, как у необъезженной кобылки. Челка такая же, как у кобылки, и фиолетовые глаза, и длинная белая шея. Три раза она переодевалась, присаживаясь на минутку за стол. Я получил от нее удар деревянной ложкой в лоб. Гриппу она колотила, не жалея. Дочек провинившихся отшлепала так, что заплакала от боли в ладонях. Малышки сами подставили попки и сели играть. Гриппа объяснил причину: у нее прекратилась менструация. Придется ей мальчика рожать. Это были люди, что с собой в ладу. Обычно среди таких сидишь, а что-то в тебе бежит, не дает остановиться. Ищешь путь к настроению, а тоска еще больше. Но сегодня как-то все было хорошо. Когда Гриппа, любивший потрепаться, заговорил, что и я могу иметь такой дом, Варя фыркнула, загремев от злости печной заслонкой: "Ты его только слушай! Они тебя в Хуту утопят, Бандера и этот Жан". "Бандерой" она называла мужа. Я б в эту Варю мог влюбиться, но меня уже ждала любовь на маяке.
Сейчас я начну многое пропускать, а то у меня опять душа загорится, что потерял новеллу или роман. Дам себе протрезветь, пока Гриппа везет меня на маяк. Сейчас или в другой раз, но это случится: я посмотрю на дом Гриппы, и на долину и хвойную рощу, где Варя набрала маслят; на сети и лодки рыбацкой артели, буруны на рифах и приближающийся маяк, – я посмотрю на них так, как будто от счастья пропал.
Гриппа вез меня к своей сестре, и я уже сотворил из нее образ наподобие Вари. За столом о Груше упоминания не было. Варя, не одобряя затеи мужа, пособолезновала Груше вскользь, что я ей достанусь. До маяка оставалось всего нисколько, как Гриппа вдруг прокричал, что этот Жан, которого назвала Варя, законный муж Груши. Хорошо хоть успел предупредить! Ничего бы я выглядел, явившись женихом... Или могу сходу врубиться в их обычаи? Я принял за шутку, когда Гриппа предложил мне лечь с Варей, если собираюсь у них заночевать. Мол, ей будет полезно переспать с моряком. Пусть вспомнит, каким он приходил с плаванья. Гриппа признался, что тоскует по большим судам, где работал тралмастером, и был бы не прочь проветриться на год-два. Разумеется, я согласился переспать с Варей, за что получил ложкой по лбу. Предложи Гриппа мне всерьез, я б отказался наотрез. Никогда не пачкал себя этим. На Шантарах и после, на Курилах, Командорах, я был в числе тех, кто пил с хозяином, а не в числе тех, кто в это время забавлялся с его женой. Жан сразу осложнил вопрос, а потом вопроса не стало, когда увидел Грушу с пьяных глаз: громадина, метра два! Обильно волосатая и заторможенная, все движется вразброд. Нет, не уродина, но – рост! Уже не стесняясь, я попенял Гриппе при ней: "Ничего себе сюрприз! Лестницу, что ли, к ней приставлять?" Гриппа ответил, смеясь: "Любая баба, если ее сложить, меньше самого маленького мужика". Он складывал Грушу, не мог соврать. Когда же эта великанша, склонясь, одарила меня гостевым поцелуем, напустив слюней, я придержал голову ей, чтоб вернуть слюни обратно. Получился еще один поцелуй, отчего Груша засмущалась, как невеста. Груша не помещалась в моих глазах, никак не удавалось одним разом обозреть ее фигуру. Откуда-то сверху спустилось лицо, я согнулся под тяжестью ее чугунных грудей. Потом лицо снова ушло на не досягаемую для меня высоту. Остались ноги, похожие на арку из двух маячных башен. Такое чувство я испытал возле Груши. Никогда не делал из таких вещей эпопей, но я не хотел сестру Гриппы ни за какие рыбалки.
Зачем терзаю словами Грушу, если в мыслях ее уже нет? Я успел испытать сладостный поцелуй Туи, выскочившей наперед матери. Девочка лет 14-15 со странными, как спрыснутыми фосфором глазами и загорелыми коленками, пахнущими керосином. Туя заведовала керосинным хозяйством, заправляла маячные лампы. Туя не убежала, стояла рядом, держала меня за руку без всякого стеснения и при этом деловито стряхивала с пяток песок на каменный пол. Босая, в косичках, в костяных браслетах на тонких руках, она выглядела нарядно. Туя вела себя так, как будто я к ней приехал, и сейчас, показав всем, она меня уведет. Все как-то смирились без слов, что со мной Туя, и громадная Груша оказалась на отшибе. Это выбегание Туи, радость в ее глазах, то, что мы стояли, держась за руки, оглоушило меня. Если по дороге от слов Гриппы я начал было трезветь, то сейчас стоял пьяным и счастливым.
Не заметил, откуда и как возник еще один человек, тоже ни на кого не похожий, морщинистый, без возраста. Тихо, неслышно приблизился, представился: "Жан". Ороч, туземец, получил кличку в тюрьме. Сидел он, как я узнал, вроде как политический арестант, хотя официально припаяли уголовщину. Видно, выбрали из двух зол попроще.
Жан стоял, смотрел ясно, доверчиво.
Роковая минута! Я ее имел ввиду... Разве я себя не знаю? Если на меня такими глазами смотрит человек, я таю: он мне уже товарищ, брат. Пусть ороч или чукча. Протяни я ему руку по-моряцки, по-братски, как я протягивал и сволочам, – и я бы держал в руках колесо фортуны! Я не подписывался бы под автопортретом, сочиняя "Роман о себе": "большой неудавшийся"... А сидел бы, как и полагалось мне, в маячной башне. Но меня попутал злой дух. В меня прокрался и уселся на язык. Я спросил у Жана, как будто мне так важно узнать: "Скажи правильно, как тебя зовут?". Обидел страшно, и Жан, закипев, сразу отошел, маленький, прямой, как карандаш, тигролов с длинной жилистой немыслимо верткой, как у фокусника, шеей, выкручивавшей голову чуть ли не назад. Теперь он будет прятать от меня глаза, которые у орочей не врут. На Хуту по шее Жана я буду ловить его намерения... Хорошенькое у меня появится занятие! Минута прошла... А как бы я мог еще поступить? Если б я, положим, знал, каков Жан с этой минуты: что он, как отошел, меня приговорил? Тогда надо было сейчас, как он сел, отвернувшись, и взялся чистить ружье, а Груша протянула мне топор, чтоб по обычаю воткнул в порог: чтоб загостевал надолго! – следовало без задержки тюкнуть Жана топором по шее... Никто б и значения не придал, раз у меня такой обычай! Я злюсь на Жана, но факт есть факт: я обидел его, а не он меня. Помириться будет невозможно.
Все, минута прошла, и теперь время понесется к той, когда я пойму, что Жан приговорил меня.
Сразу же он и открыл карты: позвал Грушу спать. Келья у них была наверху, под сторожевой площадкой маяка. Уезжая, Гриппа сказал мне, чтоб я ложился с Туей. Недовольный Жаном, он считал, что я правильно его осадил. Мог бы и ответить, как зовут. Тут не Париж, скорее – Техас. Хватит строить из себя коммунара! Но я-то видел, что Гриппа расстроен, что не предупредил насчет Жана и что Груша осталась без меня.
Лег с Туей, она меня сама повела. Лежал, еще не остыв от случившегося, переживая... Лучше б я у Гриппы заночевал! А завтра он бы меня отвез в порт Ванино. Все равно ему надо покупать сигареты... Что мне эта девочка? Положили с ребенком, курам на смех! Я будто забыл поцелуй Туи, и как мы держались за руки, и я был ею заворожен. Все я помнил, но это не объясняло, что мы легли спать. Обиженный Жан забрал жену, но не предпринимает действий, что я с его дочерью, – как это совмещается? Может, здесь правит Туя, а не Жан?.. Размышляя, я смотрел, как Туя старательно укладывается на ночь: бряцает браслетами, снимая их с рук; расплетает косички, очищает подошвы от песка. Перед этим она мыла ноги в тазу душистым мылом, но не догадалась, что их можно снова испачкать, если не подмести пол. В ее комнатке с полукруглой стеной и узким окном без занавески то вспыхивал яркий свет, то все погружалось в темноту от проблескового огня на сторожевой площадке. Лицо Туи с курносым носом и забавной щелью между передними зубами выражало деловитость. Может, ей не в новинку ложиться с незнакомым мужчиной в два раза старше? Вот она, в длинной фланелевой рубахе, поправляя как женщина рукой в паху, ложится. Сплевывает что-то, что попало на язык. Взбила подушку, обтянула под простыней рубаху на ногах. Все, кажется, улеглась.
Мы лежим молча.
В движениях Туи, так не вяжущихся с ее детским личиком, было нечто знакомое и простое, что я уже привык обнаруживать у взрослых женщин, когда они сходили со своих высот к постели. Можно подумать, со мной лежит не девочка, а разбитная морячка. Такая метаморфоза в Туе мне не по душе. Такую Тую я мог встретить и в порту Ванино. К нам на судно приходят и малолетки. В моих глазах все еще стоял дом Гриппы, блики от самовара в Вариных руках, а потом – бегущая ко мне Туя как из какой-то сказки! Или я не в башне маяка? Не лежу на скале, высоко над морем? Я хочу, чтоб сон продолжался! А уже, по своей вине, что-то разрушил с Жаном... Вдруг я решаю: надо Тую сохранить! Я ее сберегу, ни на что не обращу внимания. У меня уже нет ни ушей, ни глаз.
Сердце у меня заколотилось; я вздрогнул, когда Туя толкнула меня пяткой под одеялом:
– Слышишь?
– Да.
– Сегодня у меня сбылась мечта.
– Какая, можно узнать?
– Она тебя касается. Сегодня я поцеловалась с матросом.
– Разве у вас нет моряков?
– У нас одни рыбаки.
– На море говорят: "Рыбак – моряк вдвойне".
– Ну да. Вдвое толще.
У Туи хрипловатый голосок, она картавит, словно в горле у нее перекатывается горошина. Отвечаю на ее вопросы: чем занимаюсь на море? Какой из меня моряк? Ее интересует, умею ли я драться. Она хотела бы услышать о каком-либо случае с поножовщиной. Ей также интересно: были ли у меня женщины? Какие и сколько, хоть приблизительно?.. Даю полный отчет, как ученик своей учительнице... Ей-богу, мне не до смеха! Поставив перед собой задачу возвеличить Тую, я уже в ее власти. Инициатива полностью исходит от Туи. Я с волнением смотрю на нее: Туя удовлетворена моими ответами. Ее раскосые глаза светятся в паузах темноты. В сущности, ей уже хватило того, что я работал на китобойце "Тамга".
– "Тамга" – это "тавро", судьба, – разъясняет она мне.
– По-орочански?
– Надо у папы спросить. Но у нас такое слово есть.
Неожиданно она говорит, и это для меня, как удар грома:
– Ты затмишь мне весь этот мир. Теперь он мне будет не нужен.
Потом я обнаружу эти слова, подчеркнутые в какой-то книжице на ее полке. Туя вовсе не романтична, но до нее доходят красивые слова. Забавно, но факт: я, писатель, знающий цену словам, создавший великолепную книгу, обалдел от фразы какого-то графомана! Но что поделаешь, если вычитанные слова пришлись по вкусу Туе? Если она их использовала, как свои? Я сомлел... Туя приникла ко мне, и мы поцеловались. Это ее приворотное зелье: поцелуи. Оттопыренная детская губка, острые зубки и прилипающий язычок, из которого льется мед! Туя оказалась умелой, как дьяволенок. Сладкие поцелуи, отсутствие стыда и сумасбродные фантазии. У нее еле наметившаяся грудь, заросший пах и слегка искривленные бедра. Отвыкший от женщин за рейс, я побаивался скапливавшейся мутной страсти, не хотел выглядеть жадным, ненасытным. Это вызывает презрение даже у портовых шлюх. Но мне не удавалось разыгрывать и спокойствие. Просто вел себя с Туей неловко, что вызывало в ней удивление и смешок. Я проворонил момент, когда она перестала со мной играться. Внезапно меня потрясла ее нежность. Туя стала сладкая, как истома. Казалось, я лежал в объятиях инопланетянки. Все замерло во мне, утонуло в чувстве. Произошел конфуз: я лишился сил.
– В чем же суть? – блуждал я в философских отгадках, как Гамлет. Мне было стыдно, что я не веду себя, как матрос.
– Знаешь, в чем суть?
– Ну?
– Пощупай-ка...
Я обалдел:
– Тогда все ясно! У меня пунктик на девственниц.
– Надо пунктик снять. От этого я не стану сучкой.
– Что ты хочешь сказать?
– Что останусь тебе верной. Я не стану давать всем подряд, как Груша.
– Груша – твоя мать?
– Да, а что?
– Но если такая мамаша, как тебе удалось быть честной?
– Груша – не такая, – не согласилась Туя. – Просто отец для нее слаб.
– Ты любишь отца?
– Да.
– А если он сейчас войдет и выпалит в меня из ружья?
– Тогда тебя не будет. Ты мне заговариваешь зубы, что у тебя не стоит?
– Я сам не знаю, что со мной происходит.
– Ты просто в меня влюбился и раскис.
Туе надоело со мной возиться. Она вздохнула и повернулась на бок.
– Ты на меня сердита?
– Если я захочу, и ты захочешь.
– А разве ты не хочешь?
– Мне и так хорошо.
Да ведь и я испытывал то же самое! Оказался бессильным – и был счастлив.
– Но если у тебя встанет, мне будет еще лучше, – добавила Туя.
Больше недели я буду спать с Туей, но так и не сумею ею овладеть. Несмотря на все ее проделки. На то, что сто раз за сутки она готова была отдаться в любом месте.
Я писал о моряках, был такой, как мои герои. Все с ними изведал, кроме любви. И вдруг оказался закрепощен, несвободен с Туей. Должно быть у меня, в отличие от моих героев, не могло быть такой любви. Вот такой, свободной, у песка, у прибоя, когда я равный всем; такой любви, с которой можно все забыть, – как я ее жаждал!
Груша спустилась с проверкой, как только насытила мужа. Хотелось, чтоб она появилась как мать. Разве б я промолчал о любви к Туе? Попросил бы у нее благословения... Засиделась в девках, живешь с Жаном, что себя обольщать? Она же и внимания не обратила, что лежу с Туей. Села на каменный пол: груди, что два чугунных ядра. Громадина, а свежая, как просвечивающаяся вся... Господи, да она пришла голой! Сидела, подрагивая, разведя ноги на километр, – жуткая тайга! Хорошо, что Туя спала...
Грушу здоровенную, назло мне, что ли? – всю ночь жалко насиловал Жан. Она же сразу шла к нам, как только Жан ненадолго засыпал, готовая третьей лечь. Я отпихивал ее: побывала с Жаном, ты что, в своем уме? Груша обижалась, плакала. Туя просыпалась, смотрела на мать, не удивляясь. Груша с Туей ладили, как друзья. Жан, ненавидя русских, постоянно напоминал дочери, что у нее орочанская кровь. Не сразу я разобрался в этой троице. Груша была не противна мне, но я не хотел ее замечать. Мог только издеваться над ней. Есть странные бабы, которые сохнут по мне. На каждого мужика такая баба найдется. Не та, что выбирает для постели, а совсем другая. Из них я еще ни одной не назвал, я обегаю их за версту. Но чтоб как-то Грушу объяснить, припомню одну женщину... Пил пиво на Егершельде, во Владивостоке, вошла: молодая, рябая, некрасивая и недалекая. Под хмельком, с какими-то мужиками. С ней еще была собака. Пока я возле них стоял, она раз десять просила у меня прощения, что кто-то из мужиков выразился матом и что собака пролаяла нечаянно. Мужики перестали ругаться, а собака перестала лаять. Через год или два я был на том же месте. Только не в кафе, а вышел из валютного магазина "Егершельдский рубль", – боновый магазин, для моряков. Купил на чеки виски, презервативы "Принц", коньяк, сигареты, куклу "Барби". Вышел – обычная очередь из горожан, жаждущих раздобыть боны у моряков загранплаванья. Снова эта женщина, я ее узнал. Отдал ей копейки, что оставалось, – на бутылку водки. Она же держит в руках чеки, не видя их; за мной идет и, как по поэту, повторяет: "Я вас встретила, увидела". И идет, идет, как больная, я два раза оглянулся. Это шла женщина, которая бы хотела мне жизнь отдать, и была бы счастлива, если б я ее загубил. Вот такой и была Груша, только без собаки, а с Жаном и Туей. Влюбилась – как приговорила себя! Я косил под матроса, ехал к ней специально. Грушу тоже можно понять.
С той ночи с Туей у меня отпал сон. Любовался ею: Туя лежала, подложив руки ладонями вместе под щеку, подогнув коленки, обсыпав распущенными волосами обе подушки... Вот тебе – любовь! Я познавал тайну мгновенных преображений: едешь к одной, оказываешься с другой. Думал же я не столько о Туе, сколько о самом себе... Кто я такой, кем хочу стать? Может, достаточно, хватит уже укладывать себя в прокрустово ложе детской обиды? Одолевать ее с потешным геройством, извинительным разве что в Рясне, – или весь мир сошелся на ней? Куда я полез, во что ввязался в Минске? Там, среди подлых рож, не выживает ничего. В этой гибели гарпунера есть разгадка Счастливчика. По замыслу и постранично сложился роман. Нет, я не расстался с "Моржом" двумя рассказами в "Осени на Шантарских островах"! Вот и надо использовать момент! Надо писать, ни о чем не думая и не заботясь. Или Туе этого не понять? Вот у нее на книжной полке – роман "Мартин Иден"... Ты мечтал когда-то о зеленой лампе, а здесь – вон какой свет! В тебе хватит сил написать великий роман...
Жана я заставал с утра, он целый день просиживал на маяке. Вязал свою тигроловную снасть. Облюбовал место возле вагончика с окнами, завешанными рыбацкой сетью. Груша завесила, чтоб по ней вился плющ. За вагончиком рос на грядке табак, его любовно выращивал Жан, брезгуя подходить к свекле или картошке. Формально Жан нигде не работал, жил как вольный охотник, ловец. Получал пособие за национальность, и это действительно так. Все орочи как вымирающая народность имели возможность себя сохранить. Государство опекало Жана, а он не хотел благодарить. Вставая рано, когда еще Туя спала, я проходил мимо Жана, как мимо столба. Мне надо было что-то согласовать в себе. Не хотел задерживаться и с Туей.
Жара у моря не ощущалась, ее сдувал ветерок. Я выбирал затишек, садился на высокий откос с деревьями по склону и смотрел, как внизу раскатывал рулон прилив. Наслаиваясь пластами, он приобретал просвечивающееся свойство линзы. Становились видны, как сквозь увеличительное стекло, водоросли и камни на дне. В ясный денек отсюда различались ставники. Я видел "желонку", суденышко, где жили рыбаки, рыбацкую гостиницу. Ночью на ней горел огонь, а сейчас висел черный шар на мачте, обозначавший, что стоит на якоре. С этой "желонки" рыбаки тащили большие лодки, "прорези", к ловушкам. Тащил их желтый, с круглыми бортами, рыбацкий МРС. Разноцветные поплавки, расходясь по воде, обозначали мудреный порядок сетей. Ставники перекрывали дельту Тумнина, оставляя коридор. Рыба обходила сети и попадала в ловушки. У сетей-ловушек караулили рыбу "прорези". Все там сосредоточилось у горных речек, на подходе к ним. Я видел далекие холмы за ставниками, проступавшие в дымке, как голубые стога. У ближних сопок, на другой стороне этой идеальной по профилю бухты, в углу их соединения, различался кубик насосной станции. Там дежурил танкер, принимая к двум бортам суденышки, сосавшие из него топливо. По сопке полз дымок, что такое? Безлюдное место, не вулкан... Откуда взялся дымок?
Пытался разгадать...
В моей душе горело, разгоралось тихое счастье, я не мог к нему привыкнуть, с ним сидеть.
Спускался в долину, вспугивая куропаток. Они как домашние, Жан ловил руками. В последнее время повадилась летать на скалу ворона, нахальная, как сто ворон. Больно кусалась, голой рукой не возьмешь... Совершенно не боялась, если идешь без ружья. Я шел в хозяйство Гриппы, оно было в 2-3 километрах, на косе. Рыбацкий причал с ободранной от швартовок стенкой. Амбар на столбах. Выцветший быльник, медузы, гниющие на песке. Упругий, плотный с виду песок, а все засасывает: корягу с цепью от лодки, шпунты. Изгородь – почти с кольями в песок засосало... Ровное место, а постой в прибое с песком, и тебя засосет.
Гриппа сидел за столом, под парусиновым тентом, чинил сеть. Если то, что делал Жан, было для меня китайской грамотой, то работу Гриппы я понимал. Присаживался, смотрел, как он латает прореху, вшивая кусок дели. Пальцы чувствовали ячею, узлы получались ровные, неразвязывающиеся, один к одному, ни больше, ни меньше. Еще "юбка" болталась, а Гриппа говорил: "Через пять минут кончу", – выравнивал кромку, все ровно сходилось:
– Готово!
– За что продашь?
– За деньги.
– Любишь деньги?
– За деньги, – говорит Гриппа, смеясь, – я могу расцеловать до крови макушку даже китайца.
И берется, без остановки, за другую сеть.
Гриппа рассказывал, как его разбаловали деньгами на ставнике. Отработал первый месяц после флота, пошел в артельную кассу. Там целую гору навалили, окошка не видать. Не выдержал, спросил: "Это мне?" Она говорит: "А ты видел, на какую сумму расписался?" Тогда он посмотрел... Я открывал амбар, где сушилась рыба; лежали тюки с рыбацкой одеждой и снаряжением. Костюмы из парусины, суровой диагонали. Спецобувь с химически-стойкой резиной. Я находил себе занятие: "колол" трос – делал "сплесень" или "гашу". Малоприятная работенка, но имеет свою особенность. Гриппа ее не любил, откладывал напоследок. На "Тамге" сойдешь с руля, куда идти? В сырую каюту? Идешь к боцману: "У тебя что-либо порвалось?" – "Гашу" хочешь сплести?" "Почему бы нет?" Занял руки и думаешь о своем романе... Я привык читать в свете маяка, возле Туи. Во сне она навалилась на меня, обнимала, засыпала волосами страницы. Читаешь, отыскивая текст среди ее светлых волос, и в паузах света проблескового огня. Забавное чтение! Мне казалось, что я мог бы и писать так. Слова, зарождаясь в темноте, будут проступать в озарении света на листе бумаги. Приучил же себя Хемингуэй писать в кафе! Мне не мешал юный сон Туи. Порой Туя притворялась, что спит. Неожиданно утыкалась носом куда-нибудь... Туя не помешала мне ни своими волосами, ни поцелуями домучить "Пармскую обитель" Стендаля, скучнейший роман с бульварной интригой. За исключением сцен с Ватерлоо, которые я проштудировал из уважения к оценке Хемингуэя, невозможно читать с мыслью, что это автор "Прогулок по Риму", от которых я балдел. Попробовал проверить с Туей и Льва Николаевича Толстого. Вдруг одряхлел Лев со своей застарелой войной и салоном Анны Шерер? Нет, не одряхлел Лев! Свежий язык, отчеканен без всяких стараний; и как с неба берет: Безухов – старик, старый князь Болконский, княжна Марья, маленькая княжна с усатой губкой, обед у Ростовых, движение войск через австрийский мост с бьющей по ним французской картечью...
Господи! Хоть бы одну "усатую губку" создать...
Подходил Гриппа, смотрел, посмеиваясь, как я "размолаживаю" трос; как старательно обстукиваю и отделываю со смаком "гашу" для оттяжки или накладываю "марку" на трос. Он был доволен, конечно, что я стараюсь так, но предпочел бы, чтоб делал хуже и вдвое быстрей. Отдыхали; было странно видеть, что он не курил. Терпел уже целую неделю. Я старался отводить от него дым, он махал рукой: "Притерпелся, неважно". Гриппа был осведомлен о жизни на маяке больше, чем я.
– У Жана опухло яйцо, стало, как помидор, – сообщал Гриппа. – Куда с таким яйцом в тайгу ходить? Так что по Груше он уже не ползает.
– Как ему удалось подцепить Грушу?
– Ездил каждый день на "желонку", молил: "Не ебите Грушу, я на ней женюсь!"
– Чувствовал, что может дочь родить.
– У него хуй давно стоптался. Это все равно, что зачать от пробирки. Груша родила, не он.
– Думаешь, Жан поймает тигра?
– Тигр – нежное животное, не медведь, – отвечал Гриппа. – Не выдерживает погони.
Переходим на женщин.
– С Туей можно хоть в амбаре жить, – говорил Гриппа. – Только надо там выглядеть королем. А с Грушей можешь в амбаре жить и выглядеть, как хочешь.
– А с Варей?
Гриппа шевелил ноздрями с кустами волос, его красное, густо усеянное веснушками лицо, с облупленным носом, старело. Под глазами и на шее обозначались ранние морщины.
– Варе надо нежные слова говорить.
– Или ты не умеешь?
– Умеешь! Только получается "до" или "после".
– Ты ей вот что объясни, – учил его я, и это было то, что он от меня брал, втягивал волосатыми ноздрями, – скажи ей, что счастье не в том, чтоб говорить к месту слова, а в том, чтоб запомнить сказанное и поставить на свое место.
– Вот это да! Я и не повторю.
– Хочешь, запишу?
– Запиши, – говорил Гриппа просяще.
Мало, что ли, я сочинил писем на флоте женам таких вот остряков? Многие из жен знать не знали, что их мужья объяснялись в любви моими словами. Поэтому и гнали мужей в море, чтоб их делало такими красноречивыми. Не будь меня, давно бы разбежались по домам зверобои и китобои! А теперь ТУРНИФ валялся у моих ног: дадим любое судно, только иди!..
Гриппа прочитывал, шевеля губами:
– Такого, как ты, мне не хватало, – признавался он в чувствах и шел к своим сетям.
Однажды подошел с уловом колхозный МРС, тот самый, желтый, что я видел с откоса. За рулем стоял капитан без рубахи; рубаха, промокшая от пота, висела на компасе. Я смотрел, как они подводят к причалу "прорезь", полную рыбы. Прорезь объемом глубокая, вроде ванны, с дырами в днище; не тонула из-за плавучести, окантованная неширокой палубой. Привезли тонн двадцать гольцов и кеты. Сверху лежала чавыча, похожая на поросенка. Гриппа потом показал мне, как ее разделывают, срезая острым ножом со спины кубиками мясо на балык. Один из рыбаков, раскоряченный и обвисший, стоял на окантовке прорези, шевеля палкой уснувших исподнизу гольцов. Рыба перестояла в ставниках, залегла плотным слоем на дне "прорези". Половину ее придется выбросить из-за жары.
Вдруг рыбаку с палкой пришло в голову перелезть во время швартовки с прорези на МРС.
В этот момент сейнер и прорезь разошлись бортами, образовалась щель, широковатая для шага. Не помогал рыбаку и промежуточный кранец, висевший чересчур высоко, чтоб мог на него ступить. Я понял, что он совершает ошибку, может, смертельную, неминуемо оказываясь между прорезью и МРС. Рыбак тоже понял это и в последний миг отказался от своего намерения. Однако намерение, если оно выпущено из тела, все равно окончится действием. Желание прыгать, пройдя зыбью по фигуре, свернуло рыбака в дугу, не сразу погасившись отказом. МРС, ударившись сходу о причал, задел, как я ожидал, прорезь при отбросе. Борта сошлись, рыбака поддело, прищемив руку, которой он уже ухватился за стойку. Он упал в прорезь и забарахтался в ней среди рыб. Руку не раздавило, смягчил прижим резиновый кранец. Боль все равно страшная. Рыбак прижал руку, по лицу ничего нельзя понять. С этой рукой, лиловой, распухшей мгновенно, в мельчайших капельках сочившейся как бы из самих пор крови, он выбрался, уже не укачивая ее, как ребенка, так как боль погасла. Спокойно взял рубаху, что протянул капитан, и обмотал руку... Герой, конечно! Но если б он так ошибся на "Морже", Вершинин не дал бы ему свою рубаху. Вершинин, сидя на руках у Батька, подскочил бы и набил морду. И тут же высадил на необитаемом островке... Гуд бай, Робинзон!.. Все рыбаки были такие, как этот, уже в возрасте, раскоряченные от качки, с животами, обрюзгшие от грубой пищи.
Мы поменяли им шкентель на ваерной лебедке и две оттяжки на блоках. Перенесли мешки с песком; такие мешки используют для груза на ставниках. Меня рыбаки хорошо приняли, опять я был пьяный вдрабадан.
Шел ночью на маяк и думал про рыбака, что искупался в прорези. До меня дошел смысл того, что он показал: свое неиспользованное намерение, не доведенное до конца. К чему оно вело и что оставит после себя?.. Но со мной-то какая связь? Что мне надо? Ручка, чернила и бумага. Хорошую бумагу можно в поселке купить. То, что у меня есть, вполне достаточно для счастья. Надоело писать, море в двух шагах. Подгреб к ставнику: "Примете? Не привык плохо жить..." – "О-о, Бориска! Корефан Гриппы. Залезай, поговорим..."
С Туей мы научились удовлетворять свою страсть. На Тую нападал сон после такого удовлетворения, а меня одолевала бессонница. Понимал, что немного поспешил к Туе. Чуть бы раньше подвернулась та буйволица на виадуке!.. Как-то встретил Варю, она шла с сенокоса, где работали жены рыбаков. Прошла, не поздоровавшись, покраснев до корней волос. Гриппа несколько раз приглашал зайти. Я отказывался, ссылаясь на всякие причины. Начал волочиться за Туей, как будто у нас ухаживания. Заставал ее у канистр с керосином и зацеловывал. Где только я Тую не подкарауливал! Туя и на унитазе сидела, как царица. Нет ничего противного в человеке, когда его любишь. Так и на бумаге, в словах... Не жалей себя и не души! И тебя не убудет. С Туей я дурачился, но к ней и приглядывался. Она мне, такая умница, призналась, что может отнять речь. Я верю во всякие небылицы, как любой матрос. Еще она могла заговаривать больной зуб – и заговорила мне. Вылечила и яйцо Жану, приготовив какой-то отвар из паутины и разных трав. Груша рассказала, ей нельзя верить, что Туя своим отваром приставила Жану палец. Жан рубил табак сечкой, отрубил на ноге палец. Туя приставила, замотала: "Не сдвинь палец!" – Жан сдвинул. Сросся, но криво. Такие у Туи были способности. Иногда я проговаривал с ней какие-то свои мысли. Она догадывалась, что я не простой матрос. Но слушок пошел, что я отличился в вязании узлов, в "сплесенях" и "гашах". Так что я себя подкреплял морем. Заставая меня с книгой, слушая, что я говорил, Туя, в отличии от Гриппы, запоминала и повторяла мои слова, как попугай.








