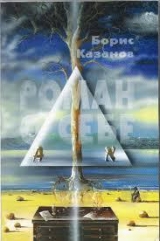
Текст книги "Роман о себе"
Автор книги: Борис Казанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 28 страниц)
Или между нами не возникало таких вот глубоких связей? В чем же я могу себя винить? Кто мне сможет объяснить случившееся между нами?
– Папа, ты чего такой невеселый?
– Вовсе нет. Что у тебя нового?
– Все зачеты сдала "автоматом". Первый экзамен по испанской литературе: 13 век.
– Я в такие дебри и не забирался... Интересно?
– Мы ведь произведений не читаем. Сдаем по "критикам", как русскую литературу в школе.
– На испано-английском факультете?
– Система одинакова. Сорок вопросов и двое суток на подготовку. Не знаешь, как и успеть.
– Сдашь.
Между нами сохранялась видимость прежних отношений. Одно время перестал было разговаривать с ней. Наталья упросила вести себя с Аней, будто не было никакого раздора, и я уступил. У них давно был свой мир. Ни мой приезд, ни приезд Нины Григорьевны никого не стеснял, не тяготил. Или Нина Григорьевна не приезжала, когда я был в море? В те отношения, которые существовали, я вписывался, каким был. Когда занялся ивритом, Наталья отнеслась к этому, как к причуде. Втайне она была рада, что занялся хоть чем. Аня передавала, сердясь, что мама посмеивалась в Быхове над моим увлечением ивритом. Аня ставила в пример бабушку, которая всерьез отнеслась к пробудившемуся во мне еврейскому самосознанию. Сама же дочь, сходив раз на занятия, вернулась как не моя... В ее отказе вряд ли повинны Наталья или Нина Григорьевна. Никто из них не мог повлиять на Аню, она покрепче их. Перелом мог произойти в самой Ане. Перекидываясь с ней словами, я все пытался понять: как мог ошибиться в дочери, обладая таким знанием? Ведь провел с ней полных пять лет и запечатлел, когда она была открыта мне! Ни разу не было, чтоб я ее наказал. Только потворствовал во всем. Раз дал незаметно полизать конфету... Аня сидела у мамы на руке, не сразу и углядела, что ей подсовываю из-за спины Натальи. Вот углядела перед носом, лизнула с моей руки – до чего вкусно! И от радости, не зная, как ее выразить, засветила мне кулачком меж глаз!.. Особенно я Аню потряс и поставил в тупик, когда привез из Москвы шоколадных зайчиков... Если "зайчики", то как их съесть? Задал ей загадку! Отгадала так. Берет зайчика, грозит ему пальцем: "Говорила тебе: не ходи, зайчик, ночью гулять! Там волк..." – и в рот его, спихнув все на волка... Вот и спихнула меня, оставила у разбитого корыта, то есть у стола с рукописями...
– Папа, ты что-то пишешь?
– Пишу, да.
– Хочешь туда приехать с новым романом?
– Почему бы не стать богачом? Я уверен в успехе.
– Дай Бог! А про что ты пишешь?
– Представь себе, про еврея! Мне надоело читать, что пишут про них. Вот я и решил написать про себя.
– Никогда не смогу представить тебя им.
– А кем ты меня представляешь?
– Ты для меня, как инспектор Катанья.
– Ого! Может, ты еще скажешь, что меня любишь?
– Да, скажу!
Голос у Ани сорвался, она отвернулась, поворачивая за собой стул, и эта констатация любви получилась, как вызов. Мол, раз ты сомневаешься, то я нет...
Появилась Наталья, чтоб подсунуть грелку с теплой водой под таз, где всходило тесто. Жена подозрительно посмотрела на нас. Теперь надо было ждать, когда она уйдет. Я научился выделять из Натальи ее саму, молодую, но ни за что бы не сумел выделить из Натальи Аню: "Я вся в папу!" – это тоже говорилось из вызова, когда ее упрекали. Но что мне от такой копии, как Аня? Была моя, а стала не моя! В кого же она на самом деле? Я не чувствовал в себе былой благости, видя их вместе, Аню и Наталью, и понял, что все изменил "Роман о себе". Ведь это всерьез и взаправду, что я, доверясь перу, расправлюсь с собой, не пощажу Наталью, не оставлю ни капли любви к Ане, – я их всех разлюблю, как только выскажусь о них! Потрясал парадокс, что я претерпел: будучи удачлив со многими женщинами, не удержал при себе собственную дочь! Предложи, допустим, уехать Тане, возможно, и не догадывавшейся, что я еврей? Взяла бы свою собачонку Джемми – и укатили, и все дела. Я бы мог, если б мне позволили, выехать с целой плеядой любовниц. Жил бы с ними, не зная бед, в любом государстве. Но то, что было пустяком с ними, оказалось преградой в собственном доме...
Или я Ане плохой отец? Будь у меня такой отец, как у нее, – разве б пережил то, что в Рясне? Там я хотел иметь отца-бандита. Мой отец и стал бы бандитом – куда удачливее, чем Зым! Да мой отец и не поехал бы в Рясну. Или он не нашел бы получше места? А если б садился с ним в тот прицепленный вагон на станции Темный Лес; если б отец, положим, захотел стать евреем, то и я был бы еврей!.. Может, попался на "некрасивости" Ани? Что она, несмотря на свой тупой нос, бывает похожа на еврейку... То есть красива другой красотой, которую осознал по Ольге, учительнице иврита. Аня же такой красоты в себе не осознает, но разве ей от этого лучше? Я не забыл, как в их институте появился дикий преподаватель, и сразу, как узрел Аню, аж забился в припадке: "черная"!.. Побесновался и утих, так как студенты подумали, что он спятил. А в Рясне он бы взбудоражил против меня класс! Там из меня, на той дороге в лужах разлитой браги, лужу крови вылили б...
Наталья ушла, Олег все мылся в душе. Аня убрала со стола, сходила поменять кассету и, глянув в окно, где зазеленел апрель, – а он уже зеленел среди домов, со стороны березы, – произнесла с грустью:
– Помнишь, папа, как было хорошо в прошлое лето? Была жара... – Аня любила жару. – Помнишь, как ты принес виноградную гроздь?
– Еще бы...
Аня, пытаясь сгладить наши отношения, тоже припоминала что-то, как и я. Вот припомнила! Тогда получил 5 миллионов за заказной фильм. Мы жили втроем и жили припеваючи. Аня потом передавала в Быхове обалделым Наталье и Нине Григорьевне, боявшимся, что мы голодаем, какие мы устраивали пиры... Фрукты, вина, целая ваза больших конфет. В холодильнике колбаса, которую любила Аня. Не просто сухая, а тоненькая, негнущаяся, с незначащей заплесневелостью, тончайший деликатес. Увидел в лотке на Пушкина, напротив "Бирюзы", виноградную гроздь, гроздь из гроздей: ягодины просвечивали, каждая – с орех. Поднял гроздь, и остальной виноград, – а там еще много оставалось! как слинял. Никто и покупать не стал, все спрашивали: "Сколько стоило?" И сам не знал: какая разница? Все эти "миллионы" я бы отдал, чтоб принести такую гроздь Ане!..
– За роман, знаешь, сколько куплю таких гроздей?
– И один съешь?
– Не буду есть. Буду сидеть и бросать гроздья в море.
– А потом?
– А потом – суп с котом...
Дочь подсела ко мне, обняла, я почувствовал на своем лице ее пальцы, нечуткие, как грабли... Она меня обнимала, что ль? Да я и сам ее не умел ни обнять, ни приласкать. Боялся к ней даже прикоснуться, чтоб не задеть в себе напоминания о какой-либо, которой доводился не отец... Вдруг Анины пальцы привели меня к ошеломляющей догадке. Я затрепетал... Вспомнил, как Аня впервые выводила буквы в школьной тетрадке. Как раз у нее за спиной стоял. Смотрел, как кладутся строчки на лист: совсем другой принцип начертания букв, чем у меня!.. Ну и что? Или Аня не имеет право на свой почерк? Я все задавал себе вопросы насчет Ани и, отвечая на них, задавал еще, – искал объяснения, которое бы нас устроило, чтоб мог ей сказать два слова: "До свиданья". А выходило только одно: "Прощай".
Может, нас развел "инспектор Катанья"? Само собой разумеется, что таким инспектором не мог бы стать еврей... Но в той же Рясне, когда я, малый, играл на танцах, растягивал меха аккордеона, выводя неумело "Брызги шампанского", – я там забылся, как Аня недавно за столом; я выглядел жалким в своей меланхолии, когда под это танго стучали каблуками, как под кадриль... Должно быть, я выглядел, как одноглазый Батя, игравший на вечеринках. Да, был точно такой же – одноглазый постылый еврей!.. Иначе бы Ирма не подошла, не села, обняв при всех.Ирма смотрела равнодушно, когда я блистал, и млела, когда был слабый... Каждый человек, когда ему больно, похож на еврея, и кто знает? – может, в такой схожести горестных черт и скрывается то, что передали евреи человеческому лицу?
Почему я не передал себя такого Ане? Она бы хоть могла меня пожалеть!.. Ведь о чем ее просил? Хотел ей помочь, но и она бы мне помогла. Я был бы с ней как на крыльях!.. Или я ее не спас, когда "приемная комиссия" в Быхове с тещей во главе отказала ей в рождении? Положил "вето" на это решение... Все напрасно! Даже Олег про нее сказал: "стена". Или она не моя? Черноглазая, волосы с ореховым отливом, как у Бэлы, ее овал лица и пухлый рот, и эта белая шейка с незаметными "узелками" больной щитовидки. Я не знал умершей Гали, не знал Бэлы, Аня соединяла для меня всех...
Какая мне жизнь без Ани? Зачем такая жизнь мне?..
– Папа, хочешь угощу "Мо"?
– Я курю только "Мальборо".
20. Олег. Я разговариваю с Ольгой
Вот и Олег, я увидел сына. Повыше меня, близок к 30. Любимый внук Нины Григорьевны. Мне тоже не чужой: мое подобие, хотя и не такое стойкое, как в Ане. Увидел сединки в его нечерных промытых волосах. Сын причесался по-новому и от этого выглядел почти красивым. Как это он догадался себя изменить? Наверное, посоветовала новая Наташа. Олег переживал сложный период: менял одну Наташу на другую. Я бы пропустил его без комментариев, если б он и меня не достал своими Наташами.
– Вчера приходила твоя недавняя подружка. То есть сегодня, в два часа ночи. Я был вынужден давать ей объяснения.
– Кто тебя просил? – Голос у него истончился до накаленного волоска.
– Она. После того, как прождала тебя в подъезде до двух часов ночи. Ты успел улизнуть со своей новой подружкой и явился, когда ушла прежняя. Так ты спихиваешь на маму свои телефонные разбирательства, а меня используешь для объяснений визави.
Олег обладал завидной способностью обходить всякие неприятные для него обстоятельства. Если такое обстоятельство подстерегало, он никогда не оказывался на месте... Сколько я перетаскал тяжелых сумок с банками помидоров и огурцов, передаваемых с быховским автобусом! Олега нет и не подкопаешься: то у него съемки на сессии Верховного Совета, то он на рандеву с автомобильной фирмой "Пуше", то чистит кинокамеру в своем "ФИТЕ". А я тащу в одиночку сумки – аж руки вытягиваются до земли!..
– Не надо было ничего ей объяснять, пап, – сказал Олег поспокойнее и добавил миролюбиво: – Она старая, пап. Я ей давал срок изменить себя кардинально. Она же не вняла моим словам. Закрыл бы дверь и не разговаривал.
– Я не умею так.
– Кто ж тогда виноват? – Олег засмеялся. – Сам себя наказал.
– Было за что, оказывается. Ты ей сказал, что я плохой отец. А после разговора она сказала, что переменила обо мне мнение.
Олег сразу сбавил тон, съехал от моих слов, растерялся и стоял, как ребенок, когда один мой взгляд вызывал в нем остолбенение. Мне самому стало неловко, что он вынудил меня на огласку.
– Я ведь не сержусь. Можешь думать обо мне, что угодно. Только зачем посвящать в это женщину, с которой спишь?
– Пап...
– Все забыто. Больше она не явится.
Было досадно, что я излил на него свое настроение после Ани. Мы с ним и так встречались дома, как в учреждении: он вышел, я вошел. Оставаясь вдвоем, почти не общались целыми неделями. Вовсе не из-за ссоры, такой был стиль. Сталкиваясь на телевидении, кивали, проходя. Там сталкивался с ним, как со своим отражением в зеркале. Правда, это сходство ускользало от многих. Будучи "вась-вась" с начальниками, мог бы ему помочь. Но у нас был молчаливый уговор насчет этого: зачем ему раскрывать свое инкогнито? Да и неизвестно: помог бы ему или – наоборот... Дай ему Бог! Достаточно и того, что, вступая в короткий контакт, переходя порой от молчания к резкой откровенности, мы что-то выясняли и устанавливали некое статус-кво. Убеждался, что сын лоялен ко мне, добр и видит меня насквозь. Сегодняшний разговор не характерен, я его расстроил. Но он ведь знал, что я им доволен... Наконец-то он дал отставку этой видавшей виды женщине-девице, объехавшей полсвета, побывавшей даже в Париже с миссией "челнока"! Замужняя, имеющая ребенка, она почти два года пролежала в комнате Олега. Порой лежала еле живая после посещения матери и сына. Там, подгадав ее появление, возникал тоже пропадавший муж и давал ей прикурить. Это сейчас она для Олега "старая" и "я давал ей срок", а еще недавно стоял перед ней по стойке "смирно". А когда ей приспичивало в туалет, отрезал дверями от всех нас свою писающую империатрицу. Я-то и видел ее один раз до сегодняшней ночи... Ну, а насчет того, что Олег ей про меня сказал, то он мог и не извиняться. Я знал прекрасно, что не такой уж плохой для него отец. Теперь я мог сказать, отделив от себя Аню, что никогда не изменю своего отношения к Олегу. Не зовя его с собой, принимая, какой он есть, я ни на йоту не убавлю того света в душе, что медленно, с таким трудом к нему разжег.
Долго не мог объяснить своего отношения к сыну. Родился он, когда я был в море. Не сразу почувствовал себя в роли отца. Все это причины, но я помню, как увидев его в кроватке, с соской, светленького, как не моего, я испытал удовольствие, что у меня такой ребенок. В нем не установились окончательно черты, гены были в колебании: на чью сторону перейти? Вот когда увидел, что Олег перешел на мою сторону, я был разочарован. Да, я не хотел, чтоб сын был на меня похож! Сам я, вовсе не жид, умел изменяться. Меня и евреем захватишь разве что врасплох: во сне или как тогда, в ряснянском клубе, – на "Брызгах шампанского". Мысленно ставя сына в обстоятельства Рясны, я закипал от собственного бессилия. Разумеется, защищал его, если возникали инциденты. Но они возникали редко и по иному поводу. Суть разочарования, что я пережил, была во мне самом. Мне не удалось преобразиться, стать неузнаваемым в другом народе. Мое вернули обратно.
В Быхове, через много лет, просматривая от скуки семейный альбом, я надолго застрял на любительской фотокарточке, по-иному ее восприняв: Наталья, еще молодая, держит на руках Олежку, толстощекого, похожего на меня. Мне защемила душу Наталья, ее страстное блекнущее лицо. Внезапно стало жалко ее, родившую ребенка, так отличавшегося от детей, бегавших в саду Нины Григорьевны. Мог бы иметь Олежку от любой еврейки, и он бегал бы среди похожих на него детей. С Натальей же, как мне показалось, вышло нечто необязательное. Я пережил смятение чувств... Мне было жалко загубленной красоты Натальи, не отлившейся в ее детях, и я жалел самого себя, раз меня навестили такие мысли... Может быть, все заключалось не только в несовместимости исконно различающихся рас, а еще в мотиве, в побуждении слить любовью то, что познавалось в розни или примирительном разделении? Наталья как будто выразила эту мысль яснее, чем кто-нибудь. Ни в чем не податливый Нине Григорьевне, любившей своих внуков, я готов был повиниться перед ней, что заставил их любить. Посмотрит Нина Григорьевна, словно скажет словами: "Ты Наташу погубил!" – хотя та ходит спокойная и здоровая, – и мне захочется послать всех подальше... Лучше б у меня была теща-еврейка! Ясно, что я бы с ней враждовал. Но хоть бы не переживал, что она держит на руках похожего на меня ребенка... Да что там! Будь у меня ребенок от Нины, мне б и в голову не пришло себя винить. Полутаджичка, повторное кровосмесительство, где там отыщешь концы? Там бы мой ребенок и не бросался в глаза. А если он уже есть у полубурятки Лены, то мне все равно, чье он носит имя.
С Натальей полная потеря реальности...
Из-за чего сейчас приходится страдать? Думал, что Аня моя, а, оказывается, нет. А мог потерять сразу обоих, Аню и Олега, разрывался бы между ними. Потерю Олега мне заглушало чувство вины перед ним. Если и был кто-то в семье, перед которым я в вечном долгу, – так это мой сын Олег.
Счастливые для нас с Натальей годы, прожитые на Сельхозпоселке, были нерадостные для Олега. Три года он кричал от боли в ушах, мешал мне писать рассказы. Я мог поднять на него руку, он боялся меня страшно. Мог, выпивая с приятелями, сказать, когда он появлялся: "Вот мой неудачный сын!" – и Олежка, проговорив: "Здравствуйте", – исчезал в своей комнате. С небольших его лет, как мы перебрались в свою квартиру, у Олега была личная комната. Там он вызревал сам по себе: склеивал картонные самолеты, подлодки по журналу "Малый моделяж", что выписывали из Польши. Паял, точил, вырезал руки были не мои. Он чувствовал хорошие книги... Сколько я ему, маленькому, напридумывал сказок, так и ни одной не записав! Потом Олег искал эти сказки в книжках, что я ему привозил, не догадываясь, что сказки я сочинил. Но часто и необъяснимо сын выпадал из саморазвития. Вот тут я распалялся на него. Все время он, казалось, обещал кем-то стать, а как только я в него собирался поверить, он меня обманывал... Лучше б на себя самого посмотрел, пускавшего на ветер целые десятилетия!..
Было время, когда в его отшельническую жизнь ворвалась Лолита. Так я называю задним числом, тогда не читавший Владимира Набокова, девочку лет 8-9. Жила в соседней квартире, ее снимала чета военных. Вели себя неслышно, оба высочайшего роста: бесконечная голубая шинель и такая же длиннейшая меховая шуба, на которую потребовалась, наверное, целая звероферма. Лолита же подрастала, как все... Слышу нетерпеливые удары ее кулачков в дверь, она еще не дотягивалась до звонка. Вскакивала, розовая, раскрасневшаяся, сбрасывала с себя шубку, шарф, шапочку с помпончиками, бросала мне, как лакею, и, топая полными ножками, уносилась к Олегу, чтоб скорей передать, что выведала или подсмотрела у взрослых. Олег был нелюбопытен, сосредоточен на моделях, на приключениях доктора Айболита в чудесной стране Лимпопо... Чем могла Лолита удивить Олега? Войдя раз к ним, я застал Лолиту, завязывавшую Олегу порванную резинку на колготках. Сын носил такие же девчоночьи, как она. Лолита, должно быть, изучала Олежку, как я Ирму в Рясне, а он, простофиля, доверялся ей. Я переживал – не Олег! – когда Лолита внезапно, без объяснений перестала его замечать. А потом они съехали с квартиры, так как вернулись хозяева из-за границы.
После Лолиты у меня и началась тоска по дочери... Может быть, обретя дочь, стану помягче к сыну? Слыша, что они там, Олег и Аня, переговариваются на кухне, вспомнил забавный случай: как впервые свел их вместе. Тогда еще жил, не повесился Володя Марченко, фотохудожник, сделавший замечательные фотографии маленькой Ани. Мы приехали на его машине на Виленскую, к кирпичному домику с голубыми рамами на окнах. Вышла Наталья, передав мне сверток с ребенком... Господи, земля у меня вибрировала под ногами!.. Обернулись недолго, уже сидели дома, выпивали чуть-чуть. Дочь спала, почмокивала, порой прорезывался ее басистый голосок, подсказывавший мне, что там, в кроватке, моя дочь, дочь! – и она, будь спокоен, скоро проснется и заявит о себе... Олег же заигрался у товарища и проворонил, как мы подъехали. Я поднялся и пошел сказать, что у него появилась сестричка. Олежка спросил без любопытства: "А чем она занимается?" Я ответил: "Роется в твоем шкафчике. По-моему, уже добралась до жевательной резинки..." Вот он, куркуль, сюда мчался!
А как я его полюбил?
Раз иду, смотрю: торопится мальчик навстречу, круглоголовый (его дразнили: "боровик"), ноги заплетает неудобно, отчего его сносит вбок; он хотел мимо меня незаметно проскочить, чтоб не отругал его за что-нибудь; скорей обойти – и в комнатку к себе, где он уже мнил себя личностью, что ли?.. И у меня сердце стронулось с места: это же мой сын! Я дал себе слово его полюбить, но уже полюбил с той минуты...
Когда прежняя Наташа, кипящая от ревности, собиравшаяся уже разводиться с мужем из-за Олега и вдруг обнаружившая, что Олег от нее уходит, явилась за сатисфакцией, она изложила свое кредо: "Олег тряпка, я хотела из него сделать личность", – я промолчал, но мысленно поставил Олегу пятерку, что он избавился от нее. Так же пропустил мимо ушей переданные ею слова Олега, что я "плохой" отец. Даже был удовлетворен, что Олег, скрытный, как Наталья, подвинул-таки обиду из детских лет, – как выкатил на свет, выдрав из глухого бурьяна, заброшенный ржавый велосипед с гнилыми шинами... Как ни крути, ни рассматривай со своими Наташами, а никуда на нем не поедешь. Придется сдать в утиль или пустить с горы, – пусть катится, куда хочет!..
Аня постучала в дверь ванной:
– Папа, тебе звонок.
Кто это сумел проскочить в щель, когда Аня уже начала обсуждать с подружками сорок испанских вопросов? Оказалось, был человек, которому по силам прорваться куда угодно: Ольга, моя учительница иврита. Не первый раз я бросал курсы при Сохнуте, всех опередив и решив заниматься самостоятельно. Ольга же, подождав, когда низшая группа одолевала первый том учебника "Шэат иврит", вспоминала о беглецах и возвращала под свою опеку.
И вот: развязное "Шалом!" – и не стесняемое никакими комплексами еврейское выговорение.
Ольга начала деловито:
– Борис, можешь приходить. Анат разогнала две группы, как малочисленные. Отправила в первый учебник. Остались лучшие ученики. Если ты придешь, у меня будет полный комплект. Или ты хочешь к Анат?
– Чтоб я пошел к этой старухе? Конечно, только к тебе! Но есть заминка: я пишу роман.
– Ты пишешь роман? Послушай, оставь это бесполезное дело...
– Оставить? Я собираюсь только этим и заниматься.
– Еще ни один репатриант из теперешних "олимов" не стал писателем в Израиле. И ни один настоящий писатель не стал "олимом". Я не хочу тебя обижать, но ты ведь не Шалом-Алейхем?
– Да, у меня нет богатого родственника в Америке...
– В том-то и дело! Ты Лапитский, – заявила она нагло, почти освоив мою фамилию. – Это твоя настоящая фамилия?
– Дело не в фамилии, – ответил я, нервничая. – У меня есть право писать под любой фамилией и на любом языке. Я могу писать для всего человечества, поняла?
– Израиль и есть все человечество. Только никто не заплатит тебе за твой роман.
– Я пишу и рассказы.
– За них тоже не платят.
– Что ты затараторила: "не платят, не платят"?.. В любой стране, если книга представляет интерес, дают хотя бы аванс.
– Только не в Израиле. Там нет гонораров, платят только за должность. Никто не платит писателям за их произведения. Потому что такой профессии нет.
– Все иудеи зависят от книги. Без конца ее читают и пишут "талмуды". Если те, кто считают Бога своим писателем, отрицают при этом его профессию, то они выступают против Бога, – или нет?
– Я не хочу обсуждать эту тему с неверующим "олимом", – занервничала и Ольга. – Самое большее, что ты можешь там добиться, – что твой роман бесплатно издадут в переводе на иврит. Есть "Мерказ оманим", Центр искусств, туда стоит гигантская очередь из подметающих улицы писателей.
– Да мне больше ничего и не надо!
– !тощъ "Мерказ оманим" делает книги своей собственностью, не выплачивая автору ни гроша.
– Это же грабеж! Нарушение авторских прав...
– Это называется "удачная абсорбция".
– Откуда тебе известны такие подробности?
– Я выпустила 12 книг в Израиле...
– Тогда я сдаюсь, у меня только две.
– Так ты идешь на занятия?
– Зачем мне иврит, если я стану там иностранным рабочим?
– Сможешь объясняться... Вдруг заведешь роман с богатой израильтянкой? Тогда никто не возразит, что ты романист.
– Если это предложение, то оно принято.
Ольга засмеялась: в ее голосе было мелодичное детское "ы-ы", вызывавшее вожделение. Вспомнив, как она заигрывала с немолодыми работниками Израильского культурного центра, я сказал, дав ей досмеяться:
– Ольга, ты знаешь, что такое удача?
– Никто не знает, что это такое. Но это единственное, на чем держится Эрец Исраэль.
– Я знаю, что такое удача.
– ...йаеемд
– Удача – это оказаться одному в океане – и спастись.
– Ты... ?йрйцш пфеаб
– Серьезней и не может быть. Я оказался ночью один в океане. Судно ушло, никто не знал, что я за бортом.
– !йебае йеа
– А потом судно остановилось. Из-за прихоти штурмана. Ему вдруг захотелось свежей рыбы...
– На тебя посмотрел Бог!
– Вот я и приеду в Израиль с чеком в кармане, который он подписал.
Ольга проговорила задумчиво:
– Ты знаешь, на меня действует это...
– Я могу вложить чек в твое дело.
Ольга вдруг рассердилась:
– Ты баламут, Борис. Я кончаю разговор.
– ...къеа нмел, дгмев
– Ы-ы...
21. Жена. Возвращение к роману.
Ух! – я сел.
Надо навести порядок на столе. Дать себе остыть от "Последнего рейса "Моржа". Уже убрал лоции, морские карты, справочники, дневники. Избавился от массы ненужных страниц, хранившихся много лет в двух толстых папках. Но скопились новые отходы – от рукописи; с ними и следовало разобраться. Выпавший материал, рукопись его отвергла. На некоторых страницах моя рука, колеблясь, оставляла пометки, отчеркивания другим цветом чернил. Так я продлевал им жизнь. Порой берег целый лист из-за одного слова или фразы. Даже черновые страницы, валяющиеся под ногами, из которых все перебелено в рукописи, и те нужно перепроверить. А вдруг закрыто там, заслонено живое слово? Вдруг посветит, как капелька на сосенке, – на свежие, отдохнувшие глаза? Нельзя дать пропасть ничему, что возникало, когда создавал. Пусть вот эта рукопись отвергла, – другая возьмет. В них, в удачных фразах, словах, дрожжи, на которых взойдет новая книга. Потраченные силы, нервы, дни, летящие, как минуты; выкуренные сигареты, боль в глазах... Если не сделаешь такую работу сейчас, себя же и накажешь. Разве не бывало: понадобится сцена, эпизод. Начинаешь искать в отчеркнутых, под ногами... Неужели не пометил, выбросил уже? Мне приходилось рыться в мусорном ведре, искать среди окурков, объедков пищи. Бросился вовремя, не опоздал, и ты ее, нужную, ошибочно выброшенную страницу, отыщешь и, успокоенный, принесешь, высушишь, отскребешь... Что к ней пристанет, если она золотая? Ну, а не успел или не хватит терпения искать, -сядешь по новой сочинять.
Все-таки превозмог себя!
Славный тогда выдался денек: натерпелся, наплакался, но и погулял в охотку! Много лет меня увлекало то одно, то другое; везде я видел солнечные просветы, но дорога, поманив издали, неминуемо переходила в бездорожье, в рытвины и ухабы, на которых трясло до вытрясения души. Я продрался через кустарник ранних лет, попутно проверил грибные поляны, порыскал по обочинам... Как мне помог этот негаданно-нежданно просыпавшийся снег! Меня обдувал теплый ветерок и обдавало зловонным тленом, и я выяснил, что давно, собственно, живу в долг и мог, ничего не создав, вообще исчезнуть. Тут никакой обиды, только сожаление, что жизнь коротка: "На миру и смерть красна!" -потрясающая пословица. Но когда из тебя втихую изымают душу, когда засучивают рукава мастеровые-гробокопатели, как отомстить им, не запачкавшись о них? Вот я и нашел способ расплаты, сочинив "Последний рейс "Моржа". Передал герою выразить то, что касалось меня лично. Я себя в Счастливчике запрятал, терпя издевательства от таких же бездомных странников, как сам, и, что бы я о них ни сказал, мое сердце пело от любви к ним... Вот мое противоядие! В виде этой рукописи, сложенной аккуратной стопочкой на краю стола.
Если взять сейчас эти голубоватые листочки, отборные страницы "Последнего рейса "Моржа", – что я в них найду? Как подойти к себе без всякой скидки? С чем вообще можно сравнить творение пожилого усталого человека?.. По рукописи не всегда отгадаешь, но автор знает, как что далось. Случился прорыв, как будто проглянула снова морская даль в этом окне... Но разве сравнить с тем состоянием, когда работал над "Осенью"? Где то попадание, как в 28? Счастливая есть у меня книга! Как легко она мне далась... Все выходило на бумаге и, садясь утром, как сейчас, просматривая, что написал, я убеждался: нет, это не могло родить лживое вдохновение, развеивающееся с папиросным дымом! Ты создаешь то, что с тобой останется, переживет, так как ты стареешь, а здесь одно и то же: молодое море, горячая кровь и жизнь -как только вздохнул. Теперь же пишешь, как спасаешься от гибели. За тобой гонятся, а ты строчишь, строчишь – убегаешь так...
– Я могу войти?
Меня как током ударило от скрипа двери! Ведь я весь на пределе, нервы оголены...
– Ты заходишь, ей-Богу...
– У тебя я всегда лишняя.
– Времени нет, чтоб тебе возразить.
– Я только на минуту.
– Ладно. Вошла – заходи.
В моих словах прозвучало недовольство не Натальей, а тем, что она застала меня врасплох. Понимая это, она, придиравшаяся даже к интонации, не стала на сей раз мастерить из полена Буратино. Я подскочил, когда заметил, что Наталья села на шнур от "Малыша". Там тоненькие проводки от наушников, чудо электроники... Нет, настоящую вещь задницей не отсидишь! Бывало, ронял "Малыша" на стальную палубу – и сходило... Я был обижен на Наталью, что она, зайдя без меня в комнату в поисках чистого листа, сняла с рукописи верхнюю страницу. Эту страницу я клал для ритуала. Ведь к книге, к первой странице, подходишь, как к бабе в постели! Или приятно, чтоб кто-то подсматривал? А она сняла чистый лист, рукопись открыла... Или забыла? Знала и забыла... Наталья настраивала себя на разговор, а я посматривал на нее особенно так. Между нами должен был пойти обмен, как между автором и героиней. Я уже исписал на снегу начало любви, пойдут молодые годы... или они прошли? Должно быть, я и любил ее, как героиню: недолговечной, похожей на настоящую любовью, опасной для нас двоих. Есть логика, есть сила и логика в самих словах, выстраивающихся в строчки. Никто не знает труда писателя, его зависимости от строк: что он не сам себе Бог. Зато едва ли не каждый, прочитав нечто, к себе относящееся, считает, что ты его переврал, раз он имеет возможность глянуть в зеркало, что висит в прихожей.
– Ната, я тебя слушаю.
– Постарайся быть общительней с моей мамой. За полтора месяца, что ты заперся, ты ни разу не сказал ей: "Доброе утро". Раньше ты передавал ей приветы в письмах под инициалами "НГ", а теперь даже не скажешь: "Нина Григорьевна".
– Так о чем идет речь: о "Нине Григорьевне" или о "Добром утре"?
– Не зли меня лучше.
Наталья взволнована: рука у горла, разглаживает складки на юбке, в глазах готова блеснуть слеза, -все приметы налицо... Да, я не помню, чтоб разговаривал с Ниной Григорьевной. Во мне ли вина? Выйдешь, она как раз высунется из спальни -и назад. Что ж мне, кричать ей вдогонку: "Нина Григорьевна, доброе утро!" -это и за насмешку можно принять.
– А "НГ" – не насмешка?
– "НН" писал своей жене Пушкин. А я "НГ" – теще. Будь она "Николаевна", я бы писал "НН".
– У тебя на все отговорка. А как ты ешь? Она сготовит, а ты открыл холодильник, как будто нет ничего на плите. Взял в руку без тарелки и унес.
– Я заметил, что она ходит без палки. Видно, нога пошла на поправку?
– Ей просто защемили нерв уколами в Быхове, – оживилась Наталья. – Леня тоже считает: все от уколов, от нервов. Еще от внушения, что она у нас умрет. Ты вообще понимаешь ее состояние? Жить после своего дома в городской квартире...








