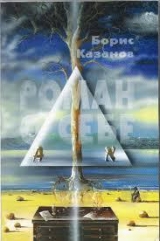
Текст книги "Роман о себе"
Автор книги: Борис Казанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 28 страниц)
Открыв журнал, весь в "продолжениях" и "окончаниях" романов и эпопей, я увидел, какой приятный сюрприз поднес мне "Неман". Моя повесть "Один день лета" стояла на виднейшем месте. Журнал прямо открывается моей фотографией... А куда им деваться, не открывать же с "продолжения"? Мысленно я уже простился со всем, что писал до морских рассказов. Однако в наборе повесть смотрелась не так уж плохо. Недаром рецензент "Юности" В.Боборыкин, предлагая ее к публикации, отметил "безусловную талантливость автора". А кто зарубил? Мой друг Акимыч! – сделав при этом учтивое резюме: "Жаль, Боря, бумага жестковата для туалета". Акимыч же и использует потом повесть в качестве "белой овечки", засунув в гущу морских рассказов, – для громоотвода критики. Маневр был бы точен, но найдется рецензент Л.Уварова, которая восхитится повестью и обругает рассказы. Эта повесть еще дастся мне в знаки, а сейчас я пролистывал ее: морские сцены, сцены бокса, могилевский пляж с красотками, – я еще перемешивал в ней Дальний Восток с Белоруссией, не в силах от чего-то отказаться. И везде колола, резала глаза паскудная фамилия героя: Южанин Леонид. Мой знакомый по Могилеву боксер Южанин Леонид недавно поступал в Минский институт физкультуры. В первый же день отличился: пытался изнасиловать абитуриентку. Девчонка выпрыгнула из окна общежития, ее увезли в больницу с тяжелым ушибом позвоночника. Южанин приезжал ко мне, думая застать Шкляру. Надеялся, что Шкляра поможет ему замять дело. Маленький, профессионально горбясь, со скользким лицом, блестевшим, как облупленное яйцо, он излагал детали, не особо переживая за последствия. Вскоре он, уже за другое преступление, окажется за решеткой. Я же смотрел на Южанина и не мог понять: зачем его приблизил Шкляра? Ведь Южанин не держал удар, имел "стеклянную" челюсть. Это гниль, а не боксер. На нем давно поставил крест тренер Чагулов.
Но сам я как поступил? Прилепил своему герою, хорошему парню, никчемную, душную, как высосанную из пальца фамилию подонка.
Не мог я больше читать! Мое огорчение накликало врага.
Появилась костлявая черная еврейка, секретарь-машинистка, по прозвищу "Белоснежка". Демонстративно швырнув журнал на стол Березкина, она произнесла голосом заядлого курильщика:
– Нечего читать! Моряки, боксеры – детский сад...
Я не пропустил:
– Впервые слышу о боксерах в детском саду.
– Я фигурально.
– "Фигурально", если всей фигурой, – не унимался я. – А каким конкретно местом вы читали?
Метнув на меня злобный взгляд, "Белоснежка" удалилась. Эта ценительница словесности оказалась способна на примитивный донос. Мой знакомый в ЦК, роясь в архивах, обнаружил приколотую и оставленную без реагирования мольбу "Белоснежки": сослать меня за тунеядство на Соловецкие острова. Это выяснится после, а сейчас я высказался, конечно, не лучшим образом. Березкин возвел глаза к потолку, переживая личное оскорбление. Потупил очи интеллигентный офицер Федор Ефимов. Резко отвернулся к окну с рукой в кармане, сдавливая гнев, закурив, Валька Тарас. Итог, как всегда, подвел Наум Кислик. Отведя нижнюю челюсть для пущей ядовитости, он сотворил афоризм:
– "Не уважать читателя – кредо "Боре-писателя".
Я не ответил грубостью Науму, я ему никогда не отвечал.
– Учти, Боря: я не Бурсов, – пригрозил мне Тарас. – Я не потерплю от тебя таких повестей.
– У тебя есть лучше?
Я пытался припомнить, что вычитал в фолианте, но, как назло, все вылетело из головы. Хотел заглянуть в текст, но Тарас его прикрыл, сказав примирительно:
– Я ведь не сравниваю тебя с ними.
Типичный образчик их отношения! Тебя не сравнить с теми, кого печатают, так как ты лучше. Поэтому с тебя требуется то, что их может удовлетворить. Но тут – хоть разбейся, а все равно не угодишь. Как бы там ни было, меня тронуло, что сказал Тарас. Я засиделся в своей келье, пережил невиданный подъем чувств. Написал столько – а кому расскажешь? Меня же подмывало душу излить.
Вот я и не удержался от хвастовства:
– Валька, я написал прекрасные рассказы...
У меня не хватило духу проговорить внятно слово "прекрас-ные". Фраза вообще прозвучала глухо, жалко повисла. Тарас как шел быстроходно, чтоб стряхнуть пепел, так застыл, наклонившись ко мне всей своей невысокой мощной фигурой. Увидев вплотную его скуластое задиристое лицо, которое исказилось неприятной гримасой недослышания: "Что-то... что?" – я махнул рукой: не повторю.
– Что сказал Боря? – добивался Наум.
– Написал какие-то "красные" рассказы...
– Может, он сказал: "потрясные"?
– Кажется, "красные" сказал...
Даже Березкин оторвал голову от тетради и спросил, недоумевая, закартавив, глянув с опаской в коридор:
– "Красные"? Что это такое?
–Ну, кровавые, – ответил я, вспомнив слова Иры. – Рассказы о зверобойном промысле.
Тарас отрубил:
– Не нужно нам никаких кровавых рассказов. Но если у тебя есть просто хорошие рассказы, то приноси. Будем рассматривать.
– Вы слышали, что ходит по рукам "Красный генерал"? – использовал меня Федор Ефимов.
Березкин снова углубился в тетрадь, а они начали обсуждать эмигрантскую вещь Ивана Бунина: кто что слышал, кто что передал.
Выкрутившись как-то, я подумал, что за все годы, что с ними знаком, так и не рассказал ничего о своих плаваниях. Даже если мне и удавалось удержать их взгляд, тотчас кто-либо из них, слушая, вставлял нечто постороннее, что попутно пришло в голову, – все рьяно включались, так он потрафлял в жилу! А ведь, меня прервав, они не дали договорить то, о чем сами же пожелали услышать: когда "Литгазета" напечатала, как наш бот перевернул кит. Был бы, допустим, Тарас не партизан, а зверобой: молчал, молчал – а тут про него такое напечатали! Могу представить, как бы он красовался среди них...
Поддавшись сегодня на приглашение Тараса, я принесу ему рассказ "Счастливчик". Целую неделю в "Немане" будет ажиотаж: переиначивались в уморительные сцены, выставлялись, как идиотские, словечки моих героев. Тарас играл роль мученика: стонал, правя рукопись, нервно похохатывал, захлебываясь дымом: "хо-хо-хо!" При моем появлении ударял кулаком по столу, возмущенно вскакивал: "Как ты смеешь так обращаться с русским языком!" – и черкал, перечеркивал страницу за страницей. Занятно: что такое сделает Тарас с моим рассказом, что он станет лучше, чем я написал? Надо вытерпеть все: как ни хоти, известный поэт показал себя в прозе. Вот все исправил, переправил. Вбегает "Белоснежка": "Валентин Ефимович, нечего печатать", "Как, ничего не осталось?" – "Ни одной целой строки..." Тарас уничтожил, не заметив, мой лучший рассказ!.. Все, о чем я писал: природа, герои, диалоги, стиль мышления, те же словечки, высвечивавшие идиомами быт, пролетающий во льдах, – все это не достигало слуха вот этих, полеживающих на тахте. Прожив свое и пережевывая прожитое, они считали, что постигли все и вся. Мои рассказы не давались им в руки и не хотели попадать на их оловянные глаза. Рассказы не шли ни в какую дугу к дистиллированной прозе "Немана", где даже собственные творения "русскоязычных" воспринимались, как переводы с белорусского языка.
Я был доволен, когда утер им нос, издав две книги в "Совет-ском писателе", куда их не подпускали. Только Рыгор Березкин успел издаться до меня в Москве. У него вышла, не знаю, в каком издательстве, переводная книга: "Аркадь Кулешов. Критико-биографический очерк". Такие книги не проходили общую очередь, их публикация санкционировалась Союзом писателей БССР. Рыгор Березкин "дослужился" такой чести в немолодые годы. Следующая книга выйдет у него в "Советском писателе" лет через _десять. Хотя – что его прибеднять? Все, что он говорил о письменниках-белорусах, известных и выдающихся, тут же шло в печатный станок. Кому не хочется о себе приятное почитать? Другое дело – стихи или рассказы, которые писали Кислик и Тарас, напечатавшиеся лишь к глубокой старости в Москве.
Березкин встал, привлекая внимание:
– Послушайте, в этом что-то есть: "Работай веселей, двухцилиндровый муравей!.." "Двухцилиндровый..." Какой-то поэтический вандализм... – критик был растроган.
– Зато "муравьиха" у него "четырехцилиндровая", – съязвил Кислик.
– Куда они поехали? – спросил Тарас.
– Сие мне неизвестно. Спроси у Бори, друга Шкляры.
– Ты ему сказал, что Федя получил квартиру?
– Сказал, обещали быть. – Кислик поднялся, оттянул напоследок ядовитую челюсть: – Борю мы не приглашаем, он ругается матом.
Наконец я поднялся:
– Григорий Соломонович, я вам нужен?
Березкин, оказывается, был недоволен моими переводами рассказов Ивана Чигринова.
– Масса непроясненных, непросеянных белорусских слов и оборотов... Это же общесоюзный журнал! Чигринов – писатель с именем. Мы не можем в таком виде представить его русскоязычному читателю. Возьми-ка это... – Березкин брезгливо подвинул мои переводы. – Тарас уже правил за тебя. Сверь, пожалуйста, с автором. Сделай хоть что-нибудь!
Свои переводы я согласовал с Чигриновым еще до того, как отдал в "Неман". Переводы были уже им не подвластны. Поэтому не обратил внимания на брюзжание Березкина. Можно пожалеть и труд Тараса. Я еще давал Березкину критическую статью и спросил о ней. Березкин отмахнулся: какая там "статья"? Пишешь чепуху, а потом надоедаешь.
– Ладно, верните обратно. Через коридор напечатаю.
– Как я тебе верну? Рецензия в наборной машине.
36. В коридоре
Открыл дверь своего кабинета Явген Василенок, главный редактор "Немана", человек уравновешенный, незнаменитый, благоволивший мне. Его выход из кабинета был, как всегда, неожиданным. Должно быть, никто и не догадывался, что он там сидел. Явген Василенок, как и другие главные редакторы, перебывавшие до него, получил в свое заведование "Неман" по некоему принципу назначения, существовавшему в Союзе писменников БССР: когда чувство отвращения к "русскоязычному" журналу разбавлялось дозой симпатии к избираемому руководителю и сопровождалось добродушной фразой типа: "Бяры яго ("Неман") ты". Я с ним поздоровался чуть ли не по-приятельски, а – как вскочил со стула Рыгор Березкин! Пока с ним разговаривал Василенок, некрасиво стоял Григорий Соломонович, коробя свою фигуру угодливым изгибом. Наблюдая это не раз, я не мог понять: почему надо стоять не прямо, а криво? Или можешь впасть в немилость, стул потерять? Я думаю, что Василенок, давая поизгибаться известному критику Березкину, был бы более заинтересован, если б Рыгор Березкин тиснул статейку, что Явген Василенок – большой писатель. Лучше выбрать второе, если нельзя никак... До чего же неистребим "коленный" менталитет у этих высоколобых наследников узкогрудых Шмуликов и еще с младенчества перезрелых Двойр, плодящих неисчислимое множество подобных себе! На боте уж точно не увидишь таких, как вы! Да я и здесь, в Минске, обойдусь без вас. Мне наплевать, что для меня нет места на торжествах Феди Ефимова.
Уже через час, уйдя отсюда с тремя копейками в кармане, я буду обедать в кафе "Журавинка" в кругу своих поклонниц-телередакторш. Там будут свои, и я могу не бояться, что в моей речи будут выискивать какие-то словечки... Вот уже поднялась, чтоб меня перехватить, Тамара Маланина, – ох, Тома, как тебя забыть? Одетая под парижанку, обходя столики изящными наклонами фигуры, она, показав, как умеет ходить, не выдержит, побежит, крича отчаянно, как погибающая: "Боря, я здесь, я тебя люблю!" – и повисла, замерла в моих руках, облагодетельствованная небрежным поцелуем... Почему я такая свинья, что равнодушен к Томе? Объятие с Томой, и уже в их компании: "Где пропал? Почему обходишь тех, кто тебя любит?" Здесь Саша, смотрящаяся в меня, как в зеркало: "Боря, как я выгляжу?" – и маленькая Таня, порочная недотрога, просовывающая детскую ручонку под свитер, который я ношу, не поддевая рубашки, как Хемингуэй. А Галя с ее лучистыми глазами и грезами о любви? А крошечная, страстная Фаина, спортивная журналистка, мотоциклистка, пожирательница моих рассказов... Как странно знать, что тебя уже нет! Неопознанной звездой промелькнет ее родственница, начинающая киноактриса с божественным ликом. Памятен ее лепет, волнение, сумбур чувств после прочтения "Осени". Никогда не видел такой обаятельной еврейки и девушки вообще!
Разве подозреваю, что пишу книгу для них, – это будут мои читатели! Да и смысл того, что с ними переживу, не сразу станет мне доступен, хоть и почувствовал интуитивно. Я должен сохранять их обожание, не предавать себя в главном: жить особенной жизнью, иметь ни на кого не похожую судьбу. Вот я и буду делать то, что они мне велят, лишь подтверждая с годами, что не ошиблись во мне.
Никто из них не увидит, как я стою в этом коридоре. Я стою не только из-за переводных рассказов. Надо ответить на вопрос, и я на него отвечу: для чего я выбрал Минск, хотя уже понял, что здесь бесправен? Для чего мне понадобился Союз писателей БССР, сломавший мою творческую судьбу?
В коридоре начали возникать по одному белорусские редакторы. Они приступали к работе на два часа позже, чем "неманские", и через два часа заканчивали работу, погуляв по коридору. Каждый письменник где-либо служил или числился на службе. Так что из писателей, сугубо профессиональных, я стоял в коридоре один. Был случай, когда знаменитый Иван Павлович Мележ, прогуливаясь в коридоре, внезапно почувствовал, что пришла пора садиться за свою тетралогию "Полесские хроники". Бессильный устоять перед позывом: скорей за стол! – Мележ ушел, никого не предупредив. Когда же через год или полтора, окончив один том тетралогии, Иван Павлович опять появился в коридоре, чтоб повидать кое-кого из знакомых, ему поднесли ведомость. Попросили расписаться за деньги, которые начислили за время отсутствия. Мележ удивился: как же так? Да, он забыл предупредить, но раз ушел и прошло столько, – и ежу понятно, что не за что платить... Мележ от денег отказался, а сколько таких, что берут, – только покажи!
Никого из них, живших за чужой счет, не угнетал страх потерять место, как критика Рыгора Березкина. Опять подумал о нем, когда мимо меня прошел, наседая на палку, не ответив на вежливый мой поклон, колченогий, похожий на Геббельса, критик Рыгор Шкраба. Как-то Тарас поведал мне, что реабилитированного Березкина "приютил" Рыгор Шкраба: принял на должность в свой отдел. Выходило так, что Березкин не сумел бы заработать на кусок хлеба, не прояви о нем заботу коллега по перу. Не вдумываясь в то, что сказал Тарас, а лишь уловив в его голосе благодарную интонацию, я тоже переполнился признательностью к Шкрабе. Всегда с ним почтительно здоровался, даже если Шкраба показывал всем своим видом, что я ему неприятен, как сейчас. Все равно, видя его, я говорил: "Добры день!" – помня, что он не дал пропасть Григорию Соломоновичу. Лишь после того, как я "вычислил" Шкрабу, как своего "вычеркивателя", я перестал здороваться и сказал ему: "Говно!"
Вряд ли Березкин одобрил бы такую невежливость по отношению к своему патрону. Ведь Григорий Соломонович и слыхом не слыхивал, что меня кто-то вычеркивает из списка соискателей на писательский билет. А если и слышал, то затыкал уши: "Что в этом Боре?.. Вот, послушайте! Здесь что-то есть..." Тут ничего такого и нет, что "русскоязычные" останутся в стороне от той "странной войны", что я повел с целым полчищем своих "вычеркивателей", едва ли не со всем составом Правления и Президиума Союза писателей БССР. Я вычислял своих врагов, непримиримых и замаскировавшихся, обводил кружком и помечал крестиком, сколько раз говорил каждому это слово: "Говно!" Все они сидели у меня, как птенчики, на гносеологическом древе родного Союза, а рядышком на ветке и "русскоязычные" сидели скромненько так. Может, они в самом деле такие скромняги были, что только в "Немане" могли шуметь? Ого! как они умели воевать за своих... Того же Федю Ефимова, что сегодня получил квартиру, в одно мгновение приняли в Союз писателей. Ведь только мгновенное членство в Союзе избавляло Ефимова от военной формы. А в "Неман" устроили, чтоб он мог сидеть на зарплате, целиком посвятив себя реабилитации Александра Солженицына. Я это говорю без обиды Феде, который, сам не желая, причинил мне зло, ничем не искупив, кстати. Но хоть не задевал; он сам жил тяжело, когда ушел из "Немана".
А вот Наум Кислик ядовитый. Я изучил его биографию, она открыта: справочник "Беларуския письменники". Поработал учителем в провинции и прямо оттуда – в "Полымя", главный белорусский писательский журнал! В 29 лет – он, не имевший ни одной книги! – член СП СССР. Должно быть понятно, что в партизанской Беларуси никого не удивишь, что ты – фронтовик. Будь ты хоть трижды Герой Советского Союза, как Кожедуб, но вначале – напиши книгу, а потом вступай в Союз. Брежнева Леонида даже не приняли за трилогию – правда, не свою. В чем же секрет такого феноменального еврея, как Наум Кислик? Все объясняет, – и больше нечем объяснить, – его романтическая история...
Литературная судьба Наума Кислика оттого сложилась так счастливо, что ее устроил выдающийся белорусский поэт Аркадь Кулешов, с семьей которого, через дочь Валю, был связан Наум. То величайший плюс, что через любовь, влюби-ка в себя избалованную писательскую дочку, если ты никому не известный, обожженный, изуродованный еврей!.. Да и не лахудру какую-нибудь, а симпатягу Валю, любимейшую дочь Аркадя Александровича.
Мне тоже нравилась Валя, хоть была и постарше меня. Одно время мы, гуляя, заходили к общей приятельнице, замечательной детской писательнице Алене Василевич. Там Валя читала главы из книги об отце. Она мне рассказывала, что отец был жесткий человек. Я сам наблюдал его издалека, моего земляка, друга Твардовского. Поэмы Кулешова "Стяг бригады", "Моя Беседь", лирика последних лет, – это то, что может сказать белорус, если его уста освящает Бог. Маленький, толстогубый, похожий на хищную рыбу, – как он впивался во всяких бездарей, присосавшихся к СП! Не ругал их, нет – он их безжалостно высмеивал, изводил неутомимым приставанием. Это был пожиратель их. Был там один бильярдист, в доме Якуба Коласа, старикан. Поэт, так сказать, лень искать фамилию. Жил в Доме творчества, как если б это его дом, и с утра до вечера играл на бильярде. Вот была потеха, когда они сходились! Старикан бил кием и промахивался – из уважения к Аркадю Александровичу; а тот побеждал, запихивая в лузу шары. Я разгадал, что он сластолюбив, понимает толк в женщинах. А что Валя рассказывала мне, – уму непостижимо! Но такому поэту, ради его стихов, все позволено. Как-то, гуляя с Валей по зимней улице, мы поцеловались. Валя тотчас заторопилась к автобусу. Я разозлился, сказал: "Какой от тебя толк?" Она ответила: "Боюсь влюбиться." Я понял, что она с опаской относится к сильным чувствам, жена посла или посланника в Греции. Валя жалела Наума, но, видно, и отец бы возражал, если б ее мужем стал Наум.
Не стану утверждать, что поддержка Аркадя Кулешова явилась компенсацией за любовь. Я только хочу сказать, что и святой Наум не пренебрег протекцией, и – уже вовсе не к лицу – согласился стать членом Союза писателей, не имея на то никаких формальных прав. Он был повязан с ними, сидел на дереве, на ветке, и ехидно смотрел, как на мне затягивают петлю... Отчего они, называя Шкляру за глаза "подонком", так сладко млели, встречая из Москвы?Надеялись на протекцию в издательстве? Или не на их глазах, когда Березкин отважился на робкую критику стихов Шкляры, тот, вскипев, смешал Григория Соломоновича с грязью? Буквально растоптал его достоинство! Березкин стоял, как провинившийся школьник, потерял дар речи, – а что офицеры, партизаны, фронтовики? Сидели на ветке, и ядовитая челюсть Наума бессильно отвисла.
Виделся с ним последний раз так.
Кислик шел из Союза писателей, мрачный, с застывшей гримасой презрения на лице, издерганный, похоронивший отца и мать, одетый, как нищий. Один в квартире, он буйно, отчаянно писал, хотя стихи, как он мне сказал, ему наскучили, – никак не может избавиться от стихов! Не без гордости показал великолепно изданный том – и сам удивился, что не забыло его издательство "Мастацкая литаратура". Можно многое объяснить и этим томом, и тем, что в одинокую душу Наума ворвались такие стихи, что он не мог их отогнать, не мог никуда от них деться... Или я не хотел бы здесь жить и издаваться, и писать, и никуда не уезжать? Только ничего этого мне не хочется. В грандиозном далевском словаре не нашлось бы ни одного слова, что связало бы меня с Наумом. Даже то, что значится в пятой графе. Мы опять поссорились, он цеплялся ко мне. Я был не один, с Таней, и, как жалко ни выглядел Наум, Таня сказала, когда вышли: "Знаешь, это мужчина". Может, Таня нашла то слово, единственное, что подходило нам?.. Нет, и оно не годилось! Ничего не сближало и не разделяло, не касалось и не отстраняло нас. Не надо было к нему ходить и огород городить.
В параллели с Наумом хочу вспомнить славного человека, жившего среди нас: Арнольда Браиловского, кинодокументалиста, писателя, фронтовика. Мы встречались на телевидении, на обеденных сборищах в кафе "Журавинка". Арнольд проходил среди столиков, как Мефистофель, изрекая назидательно: "Надо почаще видеть себя в гробу", – вызывал ужас у редакторш, его отгоняли от столиков. Арнольд Браиловский написал книгу и 20 лет ходил к Ивану Шамякину, который обещал принять его в Союз писателей. Браиловский был гордый человек, но какой-то доверчивый. Приходил, спрашивал, успокаивался и уходил – и так 20 лет. Потом он написал рассказ и начал ходить по журналам. Несколько лет я от него только и слышал: там-то и там-то обещали напечатать. Я ему советовал писать новые рассказы, он отвечал: "Как только напечатают этот". Все теперь замкнулось на одном рассказе. Внезапно я узнал, что у него умерла дочь. Мне стало страшно: это была не дочь, а душа Арнольда Браиловского.
Как-то, стоя с приятелем на антресолях только что построенного особняка телевидения, я почувствовал, что приятель ударяет меня под локоть, кивая, чтоб я посмотрел: "Зирни-ка!" – внизу, в широчайшем вестибюле, стоял, показавшийся в своем новом облике нереальным, воздушным, Арнольд Браиловский; это был сам несчастный дух еврейский, – так рельефно выявила в нем, не похожем на еврея, древние вековые черты смертельная болезнь. Приятель, белорус, писатель, порядочный человек, не мог скрыть при мне какого-то упоительного веселья: вот ведь как разоружился Браиловский, представив себя в гробу!..
Почему Арнольд Браиловский не стал членом Союза писателей? Почему не сумел напечатать рассказ, который был неплох и не включал в себя ничего такого, из-за чего бы не мог пройти? Мне кажется, что я рассказал нечто вроде притчи.
Ко мне подошел поздороваться молодой человек, писатель, мой друг Пушкин, известный под псевдонимом – Олег Ждан. Недавно он приезжал на мотоцикле в Сельхозпоселок – не за ключом, а навестить. Мы сидели, пили чай, а сейчас стояли, соображая, как встретиться и выпить что-либо покрепче. Мы уже не забывали друг за другом следить. Обычная дружба, пристальная и как бы без чувств. Откуда мне знать, что именно Олега я сберегу в этом коридоре, где друга и с огнем не сыщешь, – как подарок самому себе?
Встречая, он широко улыбался, с размаху бил по руке, здороваясь так, ржал неудержимо от грубой шутки, косая сажень в плечах, – могучий мужик! Кучеряво-рыжий, бабник, с лицом матерого "курощупа", сын священника, что считалось клеймом, – и никакого намека на раздвоенность, рефлексию, переживания глубокие. Вот на море с ним – да! Лучшего товарища не сыскать. Я опередил его в Москве только в гонке с издательством "Советский писатель". Да еще раньше, чем он, напечатался в журнале "Юность". Во всем остальном Олег Ждан ушел далеко. Перед ним пали все престижные журналы. Одно время мы стояли вдвоем в коридоре СП. Олегу удалось обойти местный союз, получить писательский билет в Москве. Как-то Жданов с дрожанием смеха в голосе передал мне своими словами один из рассказов Олега Ждана с купринским названием "Впотьмах". Там плотники, зашабашив сдельную работенку, выпивая без света, учиняют между собой дикую драку. Каждый из них, метя в своего мнимого, пригрезившегося в пьяном дурмане врага, попадает в такого же мнимого друга. В итоге жуткий шабаш с откусыванием носа, уха, выбиванием глаз. Рассказ этот, в изложении Жданова, показался мне гениальным, но разочаровал в напечатанном виде. Я понял, что страстная русская душа Олега Ждана угодила в ловушку из собственных крепких рук, ясных глаз и трезвого рассудка. Перестав писать, я общался только с ним. Он слушал, наклонив голову, посвечивая большими, с выпиравшими яблоками, голубыми глазами. Трезво пытался разобраться в моих миражах. Помочь выбраться из заколдованного круга. Случалось, я уходил от него окрыленный. Приходил ничего не мог написать. Я начал подозревать в нем нечистую силу. Подозревая в нем притворца, воспринял, как должное, когда он отошел от Москвы. Перешел на белорусскую мову, заделался своим. Даже с самыми оголтелыми он знался, кто и его душил, и – факт есть факт! – Олега Ждана так и не приняли в Союз писателей БССР. Что же, те годы, что мы отстояли в коридоре, прошли для него даром? Но годы шли, и, наверное, ему всякое про меня передавали, а он все встречал меня, как прежде, и если можно было к кому зайти, выпить и поговорить по душам, то им все оставался Олег Ждан. В конце концов я простил ему, что он таким был. Теперь уже жалел, что Олег поздно побратался с белорусами, а то бы я давно вычислил, что у меня есть замаскированный друг в Союзе писателей БССР.
Перешагивая через этот коридор, где мы стоим, к себе, какой сейчас, я знаю, что мне понадобится телефонный справочник СП.
Подниму трубку, услышу его вкрадчивый баритон: "Але?" – и скажу: "Прощай, Олег Алексеевич!.."
37. Вычеркиватели. Преодоление страха
Проблему перевода я решил за одну минуту.
Иван Чигринов, глянув вполглаза на исправления Тараса, спросил:
– У тябе есть други экзэмпляр?
– Был неде.
– Адай гэты им, а у наборы усе зробим, як у тябе.
– За правки у наборы трэба платить.
– Я заплачу.
Вскоре Иван сделает прекрасный перевод "Острова Недоразумения" для журнала "Полымя" Он окажется бессилен только перед именем героя – "Колька", адекватного которому у белорусов нет. Пришлось назвать по фамилии Помогаев. От этого исчезло дрожание чувства, пульсировавшего в самом имени. Критическую статью я тоже написал о Чигринове. Трудно говорить о каких-то чувствах, симпатиях, если просто стоишь и разговариваешь с человеком, – и этим исчерпывается весь смысл. Но в таком ограниченном смысле я любил Ивана, своего земляка, так как он большой писатель и оригинал. Я был свидетелем, как он три часа продержал на морозе тещу и жену, когда понял, что они мешают ему родить эпопею. Как раз я шел к Ивану, чтоб похвалить первый том его эпопеи (иначе он не принимал), и еще издалека отметил, как хорошо утоптан снег возле подъезда его дома. Теща Ивана Гавриловича, вместе с женой, хукая и стуча зубами, уже утаптывали двор. А когда я вышел от Ивана, выхлопотав под шумок похвал направление на семинар молодых прозаиков, его жена с тещей носились по утоптанному двору, как угорелые. Вот я и полюбопытствовал, как они сейчас вместе живут.
– Не ведаю, братка, – ответил Иван. – Я пишу, а як яны жывуть, мяне не тикавить.
– Але ж не заминають?
– Не, усе спакойна. Побегали и угаманилися. Дарэчы... – вспомнил Иван. – Я утиснув у прамову Максима Танка твое имя, як многаабяцаючага празаика. Паставив тябе побач з Алесем Жуком.
Алесь Жук был талантливым белорусским рассказчиком. Но я тогда еще не читал его книг и возразил:
– Вось каб ты мяне паставив побач з Джэкам Лонданам, я б табе падякавав...
– Ну ты хапив!
– А ты сам? Кого ты можаш паставить з сабой, акрамя Талстога?
Если было что-то, что всерьез занимало Ивана, когда он отдыхал от стола, так именно это: с кем он может себя сравнить?.. Его длинноватое крестьянское лицо с дурашливо раскрытым ртом, готовым сморозить нечто простое и забавное, сосредоточилось на обдумывании. Лоб пошел морщинами, Иван пригладил остатки волос, из которых уже начинал развивать длиннейшую прядь, и ответил убежденно:
– Некага!
– Ну вось.
Мимо нас прошли два господина из журнала "Полымя": Иван Пташников и Борис Саченко. Оба ненавидели Чигринова и, сидя напротив, ненавидели один другого. Когда они заходили в свою угловую комнату, отгороженную простенком от "русскоязычных" редакторов, те сразу оканчивали споры, а Григорий Соломонович предупреждающе прикладывал палец к губам. Борис Саченко, владелец собрания редких книг, долгое время был моим приятелем, будучи вычеркивателем в Союзе писателей. Вычислив его, я подумал: стоит ли иметь такого "приятеля"? Тогда Борис Саченко сбросил личину и открылся как враг. Много лет раскланивался со мной Иван Пташников, серьезный писатель, стилист. Массивный, он ступал размеренно, на всю плоскость стопы. Так же неторопливо, основательно писал, громоздя периоды фраз, сластолюбиво отточивая их. Когда он, сняв шляпу, усаживался за стол, его гладкая лысина, молочно просвечивая сквозь пряди волос, вызывала какое-то стеснение, словно подглядываешь срамное место. В его сочинениях существовал некий изъян в обрисовке героинь. Всерьез, основательно брался Иван Пташников за своих героинь. Однако переборщив изначально с их порядочностью, потом затрачивал слишком много сил на домогательства любви. Даже завоевав как будто героиню, он терпел фиаско, так как усилий все ж было недостаточно, чтоб вышло доказательно в художественном смысле. Я подарил ему "Полынью" как члену Приемной комиссии... как мне жалко, что я эту книгу ему подарил! Как душу отдал задаром. Ведь он бы не нашел книги в магазине. Да и не стал бы покупать.
Два закадычных дружка: Микола Гиль и Игорь Хаданович, оба прозаики, сотрудники газеты "Литаратура и мастацтва". Хаданович, тонкий, болезненный, с прямыми волосами, отчего-то смущался при мне. Я пытался быть с ним искренним, и это его смущало; был интеллигент с поэтической душой. Таким же скромным, тихим, сентиментальным белорусом был и остался Микола Гиль. Хаданович будет убит в драке, завязавшейся возле телефонной будки, куда он хотел зайти позвонить с Миколой Гилем. Останется дневник, в котором Хаданович в чем-то себя винит передо мной. Не знаю, в чем: дневник опубликовали, изъяв абзац обо мне.
Вслед за ними появился их главный редактор Ничипор Пашкевич, нравившийся мне своим элегантным видом и строгой сдержанной манерой общения. Я считался у него "специальным корреспондентом", опубликовал несколько живописных очерков, которые ценил выше своей "неманской" прозы. Ничипор Евдокимович подал руку с красиво ожелтенными никотином пальцами. Эта рука вычеркнет меня, а потом спасет – через много лет, на втором заседании Президиума СП. Сейчас я понимаю, что, быть может, был неправ, призывая наказать сотрудника Миколу Гиля. Я был в курсе случившейся трагедии. Побывал в суде, увидел тех, кого судили за убийство. Там все на себя взял, отчаявшись от того, что на него навалили, молодой паренек, еврей. Хаданович был нокаутирован обычным ударом, скончался через час-два в больнице. Такое бывает и на ринге, особенно с подставными боксерами, когда не знаешь, насколько слаб или силен соперник. Я сказал Пашкевичу, что Гиль, который задрался и сбежал, бросив товарища, "подставил" Игоря Хадановича. В боксе это считается уголовным преступлением, а также сурово наказывается уличными правилами. Такие объяснения были им недоступны. Все истолковали так, что преступника обозлил белорусский язык, на котором разговаривали Игорь Хаданович и Микола Гиль. Миколу приняли в Союз писателей – в тот же день, когда завалили меня.








