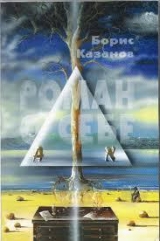
Текст книги "Роман о себе"
Автор книги: Борис Казанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 28 страниц)
Толя вынул из рабочей куртки мой сценарий и протянул мне:
– Засунь его в жопу.
– Выражайся ясней.
– Герой этот, пионер, которого мы сняли, – еврей.
– А мы тут причем? Заказ Председателя Верховного Совета. Василий Иванович сам сказал: "Снимите моего ординарца. Геройский пацан. Подбил два танка, взорвал себя гранатой", и еще что-то. Это его слова. Да и фамилия Козлов!
– Фамилию ему дал Василий Иванович.
– Значит, тот?
– Федот, да не тот. У Василия Ивановича – маразм... Все запомнил, а забыл, что еврей. Тебе объяснит Франц Иванович. А сейчас – что прикажешь делать? Я проживу – а твой гонорар? Да и уезжать без ничего неохота... Толя выплюнул окурок, посмотрел с сожалением на мой сценарий: он влюблялся в каждую мою строчку, цитировал в постели любовницам. Так и не отдав сценарий, сунул обратно в карман куртки. – Ну, придумай что-нибудь?
– Не ручаюсь, что понравится.
– Знаю заранее, что – да.
– Есть скрипач недалеко. Деревня Дорогая.
– "До-ро-гая!" – простонал Толя. – Я кончаю... Играет на свадьбах – и так далее?
– В том-то и дело, что нет! Лишился скрипки. Итальянская, сгорела. Попала молния в хату. То есть прямо в скрипку.
– Прямо в скрипку?!
– Да. Больше ничего не сгорело в хате.
Толя сел на тротуар:
– И ты молчал?
– Но причем тут юбилей Василия Ивановича?
– Это моя забота. От тебя потребуется только текст.
– Я берег скрипку как сюжет для фильма.
– Покупаю за любые деньги.
– Денег у тебя все равно нет. Мне надо съездить к бабке.
– К бабе?
– К моей бабке Соне, она живет здесь.
– Хорошо. Райкомовский "газик" я тебе оставляю. Скажешь бабке: "Привет" – и нас догонишь.
Толя щелкнул пальцами, повернувшись к группе. Те уже, все поняв, понеслись: тащили кабель, свет, коробки с кассетами. Вышел враскачку похожий на гиппопотама Валерий Хайтин, кинооператор. Я увидел Франца Ивановича, ходившего в отдалении и теперь приблизившегося. Его худое хитроватое лицо с глазами рыси, недавно озабоченное, – поспокойнело. Ведь он был к нам приставлен, за нас отвечал. А если мы нашли решение, то и ему зачтется. Я сказал, что он со мной.
Мы поехали, остановились, пропуская бабу с базара. Баба несла в сеточке купленную курицу. Свесила сеточку до земли, а курица, продев ноги в ячеи, семенила отдельно, подскакивая, когда баба невзначай дергала сетку... Отличный кадр! Я раз поставил в затруднение режиссера Валеру Рыбарева, своего друга, когда тот хотел снять фильм по "Осени на Шантарских островах". У меня в книге, в рассказе "Местная контрабанда", есть деталь: по песчаной косе бредет кореец, а следом ковыляет чайка, полностью копируя его походку... Валера, относившийся к моим деталям всерьез, на этот раз взмолился: "Как это снимешь?!" А мне какое дело? Вот баба с курицей идет, я их простым пером сниму. А у вас техника, кинокамера... Проехали!
Пошла крутая дорога между холмами с домиками, лепившимися на откосах. Вот выбрались на плоское место, чтоб снова вписаться в вираж глубочайшего оврага... Где он? На месте оврага – озеро... Здесь был песчаный карьер, когда я ездил прошлый раз к бабке Шифре. Какая здесь была круча! Внизу грузовики в карьере -как с птичьего полета! А сейчас все залили водопроводной водой... Что же оно под собой скрывает, это озеро рукотворное? А что скрывает тот омут на сливе Сожа и Остра?..
– Прискорбный случай, Борис Михайлович! Мне самому неловко...
– Все ж я не понимаю. Евреев не брали в партизанские отряды. Если спасся – иди, откуда пришел. А тут – пацан! Случай экстраординарный. Чем он их взял?
Франц Иванович, хоть и имел хитрое лисье лицо и рысьи глаза, нормальный белорус. Вот я и спросил. Что он ответит? Сам затронул, не я.
– Пацана как раз проще взять. Не у всякого написано...
– Фамилия у него есть?
– Нет данных. Привезли откуда-то, вылез из рва. Это его настоящая могила в Круглом. Сами полицаи похоронили.
– Ого! Подбил два танка, взорвал себя...
– За это мучают особенно. Нельзя разглашать, но не продадите... – Франц Иванович снял тесную шляпу, оставившую красноватый след на лбу, и его лисье лицо в рыжеватой щетине, уже с глазками простодушного прохиндея, приняло выражение скорбящей матери, а щеки опустились на отвороты пиджака в виде добавочного мехового воротника. – Его забыли в лесу, когда уходили из блокады... Мало у Василия Ивановича ординарцев? Стоял, охранял какой-то склад. А тут – черные шинели, за ними фрицы. Подбил два танка, взорвал себя, а уцелел! Все осколки – мимо.
– Да-а...
– Мне рассказывал один полицай, я его допрашивал... – Франц Иванович привычно прокрутил в голове диск с номерами папок "Дело". – Да хрен с ним! Так они его везли связанного, точили шило: глаза колоть. "Бобики" такие. Тут обернулась телега, его оглоблей ударило... Много пацану надо?
– Ну, закопали б у дороги...
– Пересрали! Все даже не запылились, а он один... Это как та скрипка, что вы сказали!...
– Счастливчик.
– Геройский пацан.
23. Бабка Шифра и я
Обтрепанная дверь, как редко ее открывают!..
Звоню непрерывно, слышу голос бабки: "Хто-та звонить", – а не идут открывать. В глазок она меня не увидит, как к ней войти? За соседней дверью от моего стука проснулся ребенок, заплакал навзрыд. Услышал женский голос: "К жидовской потаскухе приперся какой-то жид"... Вдруг – как взрыв! От самолета, наверное: ломает звуковой барьер. Неподалеку военный аэродром.
Когда его только строили, там работал нерусский шофер. Жил у родителей Семы, после Моисея уже Приборкина. Знал наизусть "Русь кабацкую", я впервые услышал из его уст: "Ты жива еще, моя старушка?" – и пытался приложить слова Сергея Есенина к бабке Шифре, чтоб думать о ней поэтически. В тот есенинский вечер аэродромовский шофер загнал фарами зайца, стушил и меня угостил. Я не посмел отказаться, хотя знал, что этого загнанного зайца не смогу переварить. Избавлюсь от него во дворе, сунув в рот два пальца...
Там, во дворе, я почувствовал, что все это фальшь и блажь -не так, как Есенин, писать, а так его стихи прилагать. В стихах Есенина был заложен и безотказно срабатывал русский принцип: чем больше каешься, что ты подлец, тем больше к тебе сочувствия и порыва навстречу. Меня же давно не привлекают кающиеся грешники. Вот сейчас уйду и не раскаюсь, не увидев бабки Шифры. Мне достаточно, что я постоял у ее двери. Я буду пить и веселиться в деревне Дорогая и не вспомню о бабке Шифре...
Чудеса! – бабка Шифра стоит, присматривается слабыми глазами... Или она знает про аэродром? Может, война? Грабить пришли, убивать? – у нее вечный страх после Рясны. Пригляделась: "Бора!" – и заплакала, обняла. Сгорбилась, совсем седая, а в квартире чисто: круглый половичок из лоскутных тряпок, знакомый с Рясны, и такой же родной черный, с крылышками буфет. В нем есть мои детские фотокарточки и тетрадка с первым стихотворением "Весна". Из кухни видна комнатка с фикусом, цветком "огонек" и канарейками в клетках. На стуле сидит в выходном костюме старик, куда-то собрался. "Обещали подстригчи, -объясняет бабка, – зарос, совсем волосатый." – "А когда они бывают?". -"Раз в два месяца приезжают, вот он и ждет парихмахера". Старик посмотрел на меня с почтением: "Здравствуйте, большой человек!" Бабка загремела сковородкой на кухне, послышался стук треснувшего яйца: "Табе жидкую, як ты любишь?" – "Не хочу я есть". – "Ай, не хочаш? Пачакай, Борачка, яйцы свежанькие у нас".
Сколько лет ее не видел? А как увидел, как спало с души, -бежать! Там, в деревне Дорогая: мужики, бабы. Ликование: кино приехало из-за скрипки! Любой дом открыт: входи, как в свой. А тут я родной, а вошел – и бежать.
– Бабка, мне надо ехать.
– Прама сичас?
– Да.
Привыкла, положила в чашку разбитое яйцо. Ох, эти ее пухлые руки с кожей, как сморщенная молочная пенка! Как заботливо они меня укрывали зимой, когда я засыпал под вой волков в Лисичьем рву и бормотание деда Гильки, одетого в "талас", с руками, обвитыми кожаными лентами...
Бабка надела кофту, платок, хотела снять пальто.
– Тепло, сейчас лето.
– Ах, забыла... А я табе скопила, – зашептала она, хитро подмигивая. -Ты будешь рад за проценты. Нарасло, я давно не ходила, знаешь сколько!
– Так уж и наросло.
– За стольки-та годов? Вот как бы дойти, где моя сбяркнижка?
Побыстрей увести ее от деда! А тот сидел и мне нравился. Вывел бабку под руку, а там соседка, чей ребенок расплакался. Тряпкой пол затирает, носатая, платье промокло на груди, которой кормила. Разогнулась, смотрит... Неужто я следы оставил, пройдя из машины три шага до крыльца?
А бабка ей:
– Это мой унучек! Он мяне так любить...
Соседка смолчала, я на нее смотрел открыто, простецки, по-русски так. Так глядя, я ее злобный взгляд пересилил. Она смякла, прикрыла текущую грудь.
– Вспомнила вас. Старая давала почитать книжку.
– Прочитали?
– Где ж тут читать, в такой квартире?.. Ой, гром! Аж в ухе зазвенело...
– Это аэродром.
– Что вы говорите! Маланка... – Она показала на вспышку в окне. – А вы: "аэродром", – и усмехнулась так, что мне захотелось ее задушить.
За что они ненавидят этих двух несчастных стариков? За квартиру? Но эту квартиру бабка получила по обмену – за дом в Рясне. Ненавидят за то, что живут. Да еще в квартирах... Надо же, повезло бабке Шифре! Переселилась из Рясны в Рясну. И куда б она ни переехала тут, какой бы ни нашла закуток, всегда будет такая соседка, которая не простит бабке Шифре, что она немощная старая жидовка... Вот из-за этих крысиных глазенок я не поехал к деду Гильке и теперь не узнаю, что он мне хотел сказать перед смертью... И природы для меня здесь нет – что гром, что аэродром. Я скормил вашей злобе свою совесть, свой стыд, пытаясь вас уломать, переломить. А как же бабка Шифра? Ведь и она умеет хитрить! Только обмануть ей вас не удается. Один я знаю, как она ненавидит вас...
Франц Иванович шел навстречу, я впервые увидел, как он улыбается.
– Как по заказу, Борис Михайлович!..
– Вы о чем?
– О скрипке... – Он показал на небо. – Молнией спалило...
Точно! Представил, что там творится... Вот это я подгадал Толе! Сам Бог помог... Бабка показала пальцем на сберкассу. Франц Иванович возразил: сберкасса теперь в другом месте. Бабка не соглашалась: "Не, я вас не знаю, яна там стаить". Жалобно на меня смотрела – и рвалась из машины. Франц Иванович общался со мной через зеркальце. Я держал бабку за руку, повторял: "Верь ему!" Микрорайон: все разворочено гигантской трубоцентралью. Большие деревья стоят, обнаженные до корней, словно раздели и выставили на срам. Посредине микрорайона – пустой фонтан. Сберкасса, девица за стеклом: "Распишитесь в получении". Бабка не хочет слышать: "Я ж стольки ж и положила! А якие тут проценты? Як ляжали, так и ляжать". Я не выдержал, сидя в стороне. Вскочил, схватил деньги, напугав кассира: та думала – грабитель! – бабку за руку, чуть ли не поволок. В машине она сказала: "Схавай деньги, чтоб не увидел шофер".
Ничего себе – шофер! Начальник райфо...
Увидел продовольственный магазин. Выскочил, накупил, как с гонорара: яблок, винограда, апельсинов, бутылку сладкого венгерского портвейна. Один здесь, без бабки, я был кум королю. Вышла обрюзгшая заведующая, выпивавшая с шоферами. Подала от себя лично, обтерев полой халата, бутылку марочного коньяка. Франц Иванович выпучил глаза, когда я ему показал горлышко из красивого пакета. Вчера посыльные секретаря Васи обшарили все склады, а коньяка не нашли. А он – вот где!..
– Я забегу, вы за меня не торопитесь.
– Сам не знаю, сколько пробуду.
– Тут живу я, вас в окно увижу.
У бабки я устроил пир! Они не ели таких фруктов и не пили такого вина. Бабка Шифра прихлебнула с рюмки, чмокнув: "Солодкая!" – понравилось. Старик тихо выпил, посидел с рюмкой, оценивая. Я ему налил еще, пока он не поставил рюмку на стол. Больше всего я желал его задобрить, понимая, как трудно выдержать бабку Шифру. Она опять тащила меня в сторонку. Хотела, чтоб я забрал пуховую подушку для Олежки. Бабка Шифра нянчила его маленького, он для нее таким и остался. Про Аню она ничего не знала. Попыталась сунуть мне стариковскую рубаху: "Бяры, ен не видить ужо!" Старик видел, посмеивался. "Вы извините за Соню, я перед ней бессилен." Он ответил: "Если Шифра умрет, я не останусь в квартире". – "Тяжело с соседями?" – "Так хотят занять квартиру, что надо помирать". – "А если не умрете, дай Бог?" – "Пойду в инвалидный дом". Бабка закивала: "Ен воевал, яго прапустять". Мы выпили напоследок: "Я вас отвезу в парикмахерскую". Старик показал на протез: "Не дойду обратно". – "Вас и обратно привезут."
Пока я сидел с ними, пролился ливень. Дорога выровнялась, опять солнце, дорога парила из-за налитых луж. Во мне поднималась тоска, обволакивала мозг... Нечего мне делать в деревне Дорогая! Что толку в этой скрипке, если ее нельзя положить на могилу в поселке Круглое, куда, не прибив лопатой, не выколов глаза шилом, а как целого человека, заслужившего почесть даже у зверей, спустили полицаи, засыпав землей, геройского еврейского пацана? Зачем сейчас нужно о нем вспоминать, если в минском парке размахивает гранатой Марат Казей?.. Что толку, что я мучаюсь, что мне не пишется, если и не надо, чтоб был такой писатель? Но у меня, в том моя удача, – глаза мои открыты: тех, кого стоит уважать, я уважаю, тех, кого стоит любить, я люблю...
Увидел Антонину Федоровну, отмывавшую сапоги в зеркальной луже перед гостиницей. Потная, в сенной трухе, она отражалась в луже, осчастливив ее своими голубыми рейтузами. Попросил у нее ключ, так как отдал свой Толе. Антонина Федоровна не могла достать из-за мокрых рук. Показала, где он у нее запрятан. Я залез к ней под блузку, где ключ был пришпилен булавкой. От нее пахло сеном, и сердце ее скокнуло под моей ладонью. "Пацаненок с вами?" спросил я. Она плеснула на сапоги, вызвав рябь на луже: "Он вашему делу не повредит". – "Тогда я вас прошу, Антонина Федоровна, не пудриться и не обдаваться духами, а прямо при всей вашей амуниции пожаловать на марочный коньяк". Антонина Федоровна лишь усмехнулась на такой ангажемент.
– За вами когда заехать? – высунулся из газика Франц Иванович.
– Поезжайте в киногруппу. Я забыл, что приглашен на обед еще в одно место.
– Приятно вам пообедать и повечерять.
24. Нина Григорьевна, я и бабка Шифра
Под вечер, оказавшись в простом автобусе, останавливавшимся у каждого столба, я почувствовал себя опустошенным, как больным.
Смотрел на людей, не входивших, а врывавшихся в автобус: в салоне пусто, в дверях застряло пять человек, не могут себя протолкнуть! Разве трудно понять, что если на билете указано место, то его и надо занять? Или лучше сидеть на чужом месте? От меня через сиденье женщина с ребенком хотела сесть у окна. На ее место уселся дядька вообще без билета – и попробуй его сгони! Водителю было наплевать: достанет из кошелки яйцо, подкинет на руке, разобьет и высосет до скорлупы. По привычке я слушал, о чем говорили: о буслах, которые здесь перестали жить. Один бусел упал, нашли высохшего на ветках. Говорили о том, что гроза не идет, как раньше, по воде. Жара, река не притягивает тучи. Две женщины с завистью обсуждали какую-то Зою, у которой умер ребенок: "Похудела, покрасивела, стала, что девочка". – "А рабенок был больши?" – "Больши! Ужо ушки были".
Я подумал об Антонине Федоровне, с которой утолил какой-то юношеский бред о бабе с граблями. Утолил и вычеркнул этот бред. Так и идешь по жизни, как от нее избавляешься. Странное состояние, когда ни с кем не чувствуешь связи. Ищешь такую же заблудшую душу, выбившуюся из колеи... Вспомнил женщину на вокзале в Орше. Стояла неподалеку, прислонясь к стене, грызла подсолнух. Я посмотрел, она голову опустила, раскосив в ожидании глаза. Безвольная, свявшая, – и залучилась неожиданным румянцем. Страх, какие в ней тлели угли...
Неужто опять в море, опять дорога туда?
Несколько раз попадали в грозу. Тучи, застилая сильное летнее солнце, пропускали темные дымные лучи. От них мрачно блистала река с пустым теплоходом из Гомеля. Как-то по-особому был озарен и лес, еловый подлесок с большими березами на переднем плане по обе стороны шоссе, и дальше рощи за полями, уже недалекие от тех полян, где я бродил с Натальей. Порой проливался такой обильный дождь, что автобус останавливался, пережидая ливень. К нему бежали, спасаясь от потопа, грибники с полными ведрами желтых твердых лисичек. Мне часто потом вспоминались эти летние грозы по дороге на Рославль и темные лучи, бьющие из облаков. Я видел в них какой-то знак беды для этой полосы земли в междуречье Сожа и Днепра, по которой пройдет, как смерть с косой, чернобыльское облако. Надо же было мне оказаться на этой дороге именно в тот черный жаркий апрель, чтоб постоять под радиоактивным дождем на тещином огороде! А потом еще не раз ездить к ней по земле, что уже перестанет быть землей, а станет "зоной заражения". Мы ели, что поделаешь! -и картошку, и яблоки из сада Нины Григорьевны, хотя ничего этого нельзя было есть. Мы не могли забыть и отбросить дорогу в ее дом, который нас много лет кормил; продолжали приезжать, как будто он еще был, -а как же еще? По-другому не могло быть, если этот дом и огород являлись сутью того, чем жила Нина Григорьевна! Да и куда еще ехать, или у нас было другое место? Умерла земля, осталось лишь то, что связалось с ней, те немногие воспоминания, что уцелели во мне. Все еще сохранялось что-то, о чем хотелось вспоминать: о волке в лощине, о Натальиной грибной поляне. Не забыл я тот подпаленный костром куст, откуда вылезла однажды, отряхиваясь, мокрая полуслепая охотничья собака. Мы смотрели с Юрой Меньшагиным, как она легко, словно по натянутой нитке, переплывает Днепр с сильным течением. Уже собрались уезжать с рыбалки, сели в мотоцикл. Собака догнала и прыгнула в коляску, где и привыкла сидеть... Как бережно, деликатно отнеслась она к маленькой Ане!.. Я всегда вспоминал эту собаку, когда ехал в Быхов, и вспоминал Аню, чтоб настроить себя на 2-3 дня в доме Нины Григорьевны. Вот эта дорога, а за Воронино -знакомое быховское половодье. Днепр исчез, только по кустам и определишь, где русло; желтый замок Сапеги, похожий на солдатские казармы, каменный склад, бывшая тюрьма, где сидел плененный генерал Корнилов. А вот и дом с березой у ворот... Не о таком ли доме я мечтал в Рясне? О доме, где не выбивают окон камнями и не мажут ворота говном... Если б я ощутил в нем тепло! Но в нем, в этом доме, не было и подобия того, что я испытывал в Шклове у Бати. Как бы я там ни относился к Матке, все ж я был свой. В Кричеве от звука лопнувшего яйца на сковородке бабки Шифры оседало в душе больше, чем от гнущихся под яблоками деревьев в саду Нины Григорьевны. Только и согревала душу полуслепая собака, побывавшая здесь.
Потом Юра ее кому-то отдал.
Ни разу я не приезжал сюда отдыхать, как сын тещи Леня или Наталья с детьми. Это было единственное место, где я бы умер от скуки, если б не смог себя чем занять. Все время пропадал в огороде... Сколько там удивительного всего! Приподнимешь подгнившую колоду – и отлетает туча прятавшегося от жары комарья! Запрыгают в стороны влажные, уже неведомые лягушки... А гнездо красавцев-шмелей, похожих на бочонки? Как впивались они в заляпанный мыльной пеной розовый куст у рукомойника!..
Кто тут сидел под этими яблонями?
Юра Меньшагин – муж тещиной сестры, обходивший с геологической разведкой Якутию. Пацаном поджигал быховский мост перед приходом немцев. Был увезен в Неметчину, а когда немцы начали оплачивать свои преступления, как ни трудно ему стало жить, отказался от их дармовых марок!..
Сидели Толя-Большой и Толя-Маленький, по комплекции наоборот, закадычные друзья, не-разлей-вода, лихие десантники. Толю-Маленького, весом за сто, обычно первым выталкивали при самолетных прыжках, для определения силы ветра. Толя-Большой, Натальин дядька, худой, кожа да кости, отчаянный партизан и пьяница. Я растрогал народного поэта Петруся Бровку, рассказав, как Толя-Большой приносил Наталье в партизанский лагерь немецкие конфеты. Наталья, играя с пустыми гильзами, продолжала играть и с конфетами, не догадываясь, что их можно есть. Петрусь Устинович, смахнув слезу и подмахнув бумагу о переводе Натальи в Минск (его подпись была росчерком Бога для РОНО), сказал: "Я б тольки за жонку принял тябе у Саюз письменников!.." вот какая сидела здесь родня.
Появлялся Леонид Антонович, ученый сосед, имевший трех дочерей, которых любил с такой необычайной силой, с какой ненавидел зятей. Мне был бы близок по душе этот человек, сотворивший кумиров из собственных дочерей, но жутковато было представить: а если б оказался его зятем? Меня трясло, как осиновый лист, когда я слышал трехчасовой монолог о зятьях, завладевших дочерями! Казалось, что Леонид Антонович проговаривал теще текст из неведомой драмы Шекспира, а в часы подъема достигал накала трагедий Еврипида или Софокла. Являлась, пригорюнясь, поплакаться Нине Григорьевне соседка, Валентина Тимофеевна, принимавшая у себя целый гарнизон. Влетала коршуном, стрекоча языком, фронтовичка Маруся, чтоб вырвать из застолья Толю-Большого, -чтоб он не пил у сестры... Вот Нина Григорьевна, жалеющая пьющего брата и безжалостная к языкастой Марусе, -разве она в идеале права? Вся улица ходит к ней исповедоваться: и пьяницы, и проститутки, и просто ушибленные на голову. Всех она выслушает и ободрит. Марусю же, как Нина Григорьевна рот откроет, начинает рвать... Вот и помири их!
Многие вещи, о которых не договариваешь с другими людьми, я мог бы, кажется, договорить среди белорусской родни. Приехав тогда со съемок геройского пацана, я думал: а взял бы меня в отряд Толя-Большой, если б это я вылез из Лисичьего рва? Трудно сказать! И нельзя осудить. Если еврея попросту гнали взашей, то своего не так-то отпустят: а вдруг подослан? Выслушают, дадут лопату: "Копай", -и копает себе могилу. Или матери не душили своих детей, чтоб не выдавали немцам криком?.. Ну, рассказал бы им о судьбе еврейского пацана. Развели б руками: не мы решаем... А если б я им сказал, как живет бабка Шифра? Что там я увидел и пережил? Это все равно, что испортить воздух, когда люди вбирают его в себя, готовясь выпить...
Ведь как бывало у меня с Ниной Григорьевной? Потрудимся славно вместе, породнимся в огороде, сядем ужинать. Начнет она вспоминать о былом: о доме отца, о молодых годах и прочем... Занятно! Я уже начинаю с ней искать общий язык. Не дай Бог поддаться минуте, сказать о том, что тебя гложет! Глянешь: сейчас уши заткнет. Вот когда сын Леня заговорит о своих газопроводах, тут она вся в волнении. Все уловит и поймет, и объяснит в пользу Лени. Не одобряла Нина Григорьевна моего отца, зная о нем со слов Натальи... Что это за отец? Вот бы его вызвать на беседу да просветить ему мозги! Историческая встреча Бати с Ниной Григорьевной произошла на быховском вокзале. Батя передал ей Олежку, гостившего в Шклове, и поехал, куда ехал, -кажется, в Могилев. Больше они не встречались, и я был рад, что Батя не дал себя уговорить посидеть в этом саду. Мне было бы тяжко представить, как он бы, выпячивая глаз, напившись, хвастался, что белорусский композитор... Смех один!.. Везде Батя смог бы прижиться, только не в саду Нины Григорьевны.
Вот прижилась же бабка Шифра!
Привез я ее сюда, украв у второго мужа. Настояла сама Нина Григорьевна: хватит ей одной быть нянькой Олегу! Я не сомневался, что Нина Григорьевна отправит бабку обратно через день-два. До меня же доходили слухи, что живут они мирно. Наталья, ездившая проведать, подтвердила этот феноменальный факт. Похвалила бабку: ходит в чистом, за собой следит. Еще бы! Бабка, что ни говори, имела молодого мужа... Пришла пора и мне ехать в Быхов. Возвращать бабку в Кричев, а Олежку – в Минск. Приехал, сам удивился: как тихо живут! Бабка молча сидит, редко слово уронит... И это бабка Шифра? У нее же рот не закрывается! Стал я размышлять... О чем могла, приехав, говорить бабка Шифра? Едва присев, среди любого разговора, она порывалась бы вставить свое: "Подождите-ка, я вам скажу пра Бору маяго!.." С утра до вечера, – и гвоздем всего, что моя мать – русская... Да и себя бабка Шифра выдаст за кого угодно. Если Нина Григорьевна – белорсуска, то и бабка Шифра – белоруска. Но разве есть у нее умение говорить к месту, а не ляпать, не противоречить на каждом шагу? Культурная теща раскусила, конечно же, в один момент... Мало того, что зять прикидывался полурусским, так еще выслушивай о нем панегирик тут... Так что же случилось, что бабка Шифра ходила за Ниной Григорьевной, как прислужница, ела тихонько в уголке, боясь через доску переступить, чтоб лишний звук не возник в хате? Такой сделала ее Нина Григорьевна одним своим выражением на лице. Знакомое выражение: как будто ей перднули под нос!.. Учуяв сердцем, что в этом доме ко мне любви нет, смолкла бабка Шифра. Ей стало не о чем говорить. А прислуживала потому, что Нина Григорьевна все-таки – моя теща...
Как застенчиво, не зная, куда девать руки, готовые что-то унести и принести, относилась бабка к Наталье! Вроде той самой собаки...
Совсем по-другому вела себя бабка в доме Ленки...
Мифологический пример долголетия Бати, умершего в возрасте за 60 лет, потрясает сам по себе. В нем, в этом примере, -не в судьбе Бати! -все ж, пожалуй, нет никакой трагедии. Куда страшней умирала бабка Шифра в обстановке ненависти всех батиных детей, безоговорочно ставших на сторону Матки. Пришла расплата за годы вражды... Ненависть стала неуправляемой после смерти Бати. А что же бабка Шифра? Приняв их условия, она жила с ними, кляня их и отвергая. Даже оказавшись в сумасшедшем доме, куда ее поселила Ленка (я узнал об этом через много лет после того, как бабка Шифра умерла), собирая всякие крошки, бабка отворачивалась от той пищи, что приносила внучка: "Уходи, сучка!.." Да, Ленке было не сладко с ней: приглядывать, убирать, отстояв смену в швейном цехе, где она была передовицей; гробила здоровье, чтоб обставить свое жилье; влипала в фатально следовавшие один за другим происшествия, отделываясь, не в пример мне, переломами рук и ног, сотрясениями мозга и ушибами позвоночника, – красивая, молодая еще, любимая еще моя сестра! Но я уверен, что если б кто-то из батиных детей, ждавших конца этого невыносимо затянувшегося умирания бабки Шифры, сумел бы отодвинуть ледяную заслонку от своего сердца, бабка Шифра умерла бы тотчас: ее литое, закалившееся в ненависти сердце, не выдержало бы такого поворота к себе.
Помню свой приезд к Ленке, когда бабка, наполовину в могиле, вдруг прибежала, как ни в чем не бывало, услышав мой голос на кухне, и, приспособив ко мне еле видящий с лопнувшим сосудом страшный глаз, бросилась с плачем: "Бора, забяры мяне да сябе!.."
Почему же не взял?
Было категорическое, пылавшее гневом письмо Нины Григорьевны отцу: она не позволит обременять Наталью чужой старостью! Есть сын, куча родственников, а никто не хочет брать к себе старуху. С какой стати ей "жить у Наташи"? Я мог нажать на Наталью из-за бабки Шифры. Думаю, она б сдалась. Тогда бы я лишил здоровья Нину Григорьевну... Семейная жизнь все равно не выдержала бы такой растяжки. Возник тот же тупик: я мог бы жить, например, с бабкой Шифрой у валютной Тани. Или ей не приходилось безропотно ухаживать за самодуром генералом-отцом, загнавшим в гроб молодую жену, мать Тани, насиловавшего Таню и пытавшегося отдать ее в жены своему другу-генералу? Я мог бы завезти бабку даже к сумасшедшей Нине! Правда, тогда у меня вроде еще не было ни Тани, ни Нины.
Я говорю о психологическом тупике, из которого сам не мог выйти: я не мог тянуть свой воз со своей женой и со своими детьми! Иначе бы меня осудил Высший суд в саду Нины Григорьевны.
Наталья, напомнив мне о бабке Шифре, хотела расслабить сердце сочувствием Нине Григорьевне. Нельзя допустить, чтоб ее мама умерла одинокой в своем доме. Ведь здесь ее семья, в Минске, а не там, где Толя-Большой, Юра, сестра и так далее. Вот ведь как умерла бабка Шифра в квартире Ленки! Уже неважно, как случилось с ней, а важно, как бы не случилось с Ниной Григорьевной...
Моя ненависть к Нине Григорьевне, когда я увидел ее у себя в квартире, была неосмысленной. Сейчас, осмыслив ненависть как жалкую подленькую месть за собственное отступничество, я готов помириться с тещей. Я считаю, что Нина Григорьевна вполне заслужила всех привилегий любви в своей семье. Ее глухое, упрямое непонимание, отрицание всего, к чему я стремился, – это тот самый "довесок" к Наталье, который и склонил чашу весов. Я понял, что если б даже не жил свободно, словно и не женат, а трудился, как вол, на казенный дом, – во имя будущей пенсии, отмеренной нашим Президентом; если б не скитался по морям, а всю жизнь положил на то, чтоб угодить Нине Григорьевне, – ничего б не изменилось. Помню как не вытерпев ее наставлений, я спросил: "Почему же Наташа со мной живет?" На это Нина Григорьевна ответила недоуменно: "Может, она тебя любит..." – то есть это какая-то личная блажь Натальи, во что нечего и вдаваться.
Не один я, должно быть, немало найдется таких вот, не сумевших уяснить смысл простой пословицы: "Насильно мил не будешь" и обижавшихся, что их не любят, хотя, может, и не за что любить. И не одному мне будет казаться, что если б пошел вон той дорогой на дальний лес, как желал, но отказался, то как раз бы и набрел на дом и имел бы счастье сидеть как сын, а не мозолить задницу на краешке стула, как зять, которого терпят -и сиди. Меня смирил с Ниной Григорьевной один день, и он развеял, откинул прочь мои сожаления; и поставил крест на старой жгучей обиде, которую я имел на Шкляру, – обиде, как бы выросшей из одного корня, посаженного на огороде, неважно на каком и где.
Тот черный апрель с радиоактивным дождем почудился мне в темных лучах, бьющих из летних облаков, когда я ехал от бабки Шифры. А также в слепой собаке, отряхивавшей капли под опаленным костром кустом. В тот день мы славно потрудились с Ниной Григорьевной: вспахали огород и посадили картошку. Я сидел, отдыхая, на меже, ощущал ветерок под рубахой. Смотрел на мягкие борозды под яблонями, красиво обрамленные зелеными кустами смородины и паречки. Любовался бороздами, как написал строчки. Может, и перестарался, закопал местами чересчур глубоко картошку? Теперь придется ждать, когда выровняется ботва. А ветерок уже округлял рубаху, капнуло раз-два, застучал негромкий дождь – и сорвался в ливень. Весь огород в пузырях, давно переполнило железную бочку под стрехой, а дождь льет и льет... Вот тут моя неопытность с плугом и сгодилась! Все равно не вымоет картошку. Не достать дождю до нее...
Но этот дождь до всего достал... Уже привыкли глаза, не дико смотреть на пустой лес, где никто не бродит с ведрами по грибным полянам. Засыпаны озера, ставшие источниками смертоносного излучения. Никто не сидит с удочкой в местах, воспетых Шклярой. Стал страшен огород Нины Григорьевны, где даже ботву запрещено жечь.








