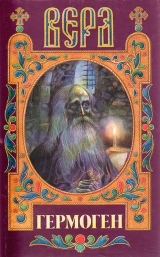
Текст книги "Гермоген"
Автор книги: Борис Мокин
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 34 страниц)
10
Добрые предчувствия Гермогена оправдались. На второй день Пасхи к Москве подошло стотысячное войско ополченцев. Послышались вдохновенные призывы к осаде Кремля и Китай-города. Высказано было и пожелание сказать полякам, чтобы сдавались добровольно, но мало кто верил в успех этого предприятия.
Ополченцы полагались только на силу оружия и благословение Гермогена. Впервые перед всем войском было сказано:
– Ополчение собралось по благословению нового исповедника и поборителя по православной вере, отцем отца, святейшего Ермогена, второго великого Златоуста, истинного обличителя на предателей и разорителей христианской веры.
То была опасная откровенность – по тем последствиям, какие она будет иметь для Гермогена.
В келью к святому страдальцу явились бояре-изменники и Гонсевский. Они были напуганы и разгневаны, хотя и скрывали это. К столику, за которым сидел Гермоген перед раскрытым Священным Писанием, подошёл Михайла Салтыков. Рука его, короткая и толстая, сделала непроизвольное движение, словно он хотел схватить Гермогена за ворот, но вовремя сдержался. Злой запал выплеснулся в словах:
– Долго ещё ты будешь мучить нас?! Ты велел ополчаться – ты и останови! Вели писать от себя и словом приказывать, дабы ополченцы, помня Бога, не дерзали проливать христианскую кровь!
– Вели сказать воеводам, чтобы от лихих людей отстали и думе Боярской вину свою принесли, – добавил Мстиславский, стараясь смягчить резкие слова Салтыкова.
– Если ваши поляки уйдут из Московского государства, то я благословляю воинов наших отойти прочь. Ежели нет, то благословляю против вас стоять и умереть за православную христианскую веру!
– Ты хочешь нашей погибели! – зло скривился Мосальский.
Мстиславский посмотрел на Гонсевского, как бы ища у него совета или поддержки. Польский наместник в Москве и велижский староста держался с ясновельможной важностью. Наконец он произнёс слова, явно заранее обдуманные:
– Скажи князю Пожарскому, что король Сигизмунд пожалует его своим королевским жалованьем, ежели он отстанет от заводчиков смуты и войско от стен Москвы отведёт...
Гермоген некоторое время молчал. Подкупать русского князя, и столь открыто! Истинно дьявол вложил в наших недругов сии злобесные помыслы.
– Князь Пожарский помнит, с кем подвизались в вере его родители и прародители, и не пойдёт он под руку хулящих истинную веру. Он помнит, в какой вере родился, где крестился. Он знает, чья память осталась в потомстве и сияет – благочестивых, но не еретиков!
– Коли ваш Пожарский такой усердный в вере, что же это он не блюдёт христианский обычай? Тесноту чинит да обиду князю Трубецкому с казаками? – ядовито заметил Салтыков.
Ведая или не ведая о том, Салтыков задел чувствительное место русских патриотов, подступивших со своим ополчением к Москве. Между ополчениями Пожарского и казаками Трубецкого отношения установились недоверчивые. И Гермоген ещё ранее предупредил Пожарского, что земские люди надёжнее казаков, что казаки непоследовательны, ненадёжны и могут «учинить измену» (как оно позже и сбудется). Но Пожарский и сам был предусмотрительным воеводой. Поэтому когда Трубецкой пригласил ополченцев расположиться станом вместе с казаками, Пожарский ответил: «Отнюдь нам вместе с казаками не стаивать». Расположившись двумя разными станами, они и дальше воевали отдельно, хотя цель, казалось, была одна: очищение Московского государства от врагов.
В этой осторожности выразилась полководческая мудрость Пожарского. Он недаром рассылал по городам грамоты, в которых советовал земским людям относиться к казакам «с великим опасением». Вскоре станет известно о злом умысле князя-коварника, «главного заводчика крови» Григория Шаховского. Он «научал» казачьих атаманов убить князя Дмитрия Михайловича, «чтобы литва в Москве сидела, а им по своему таборскому воровскому начинанию всё делать». К счастью, ножевое ранение Пожарского будет несмертельным.
Ядовитое замечание Салтыкова вызвало усмешку Гермогена:
– Ох и мудрены вы со дьяволом! Раздоры-то в ополчении вы сами сеете. Да молитвами Пресвятой Богородицы всё улаживается в нашу пользу. Вы бы лучше промыслили о своих раздорах. Они не улаживаются, а токмо пуще разгораются...
Салтыков вспыхнул. Он принял эти слова на свой счёт. Между ним и другими боярами-изменниками давно пробежала кошка. Одни завидовали большому расположению к нему Сигизмунда, другие злобствовали на то, что он прихватил себе много поместий да имений и стал самым богатым вельможей. Сам же он злобствовал на торгового мужика Федьку Андронова за самоуправство и за то, что сидел в Думе как равный с боярами.
Но не успел он собраться с мыслями, что ответить «попу», как заговорил надменный Гонсевский, принявший слова Гермогена на свой счёт. Он знал об интригах Якова Потоцкого, хлопотами которого сапегинцы бросили гетманский стан и ушли в Литву. Знал он, что Яков Потоцкий готовил на его место своего племянника Струса. Ужели о том стало ведомо Гермогену и ополченцам?
Подперев одной рукой правый бок, а другой держась за саблю, Гонсевский произнёс:
– Или ты хочешь уязвить нас, русский патриарх, а «своим» войском похваляешься?! Или твои ополченцы-говядари чают затмить славу воинов, кои сражаются под знамёнами Витовта[74]74
Витовт (Витаутас) (1350 – 1430) – великий князь Литвы (с 1392). Трижды, с 1406 по 1408 г., вторгался в Московское княжество. Захватил Смоленск. Отличился в Грюнвальдской битве 1410 гг. с немецкими рыцарями.
[Закрыть] и Батория?!
Гермоген, до той минуты сидевший на своей жёсткой постели, поднялся и сурово ответил:
– И однако вы боитесь русских «говядарей». Оттого и пришли просить меня, дабы отозвал их и велел отойти от стен Москвы. Токмо не будет этого!
– А коли так, сгноим тебя заживо в земляной тюрьме! – пригрозил Салтыков.
Гонсевский как-то устало махнул рукой:
– Делайте что хотите со своим попом!
11
Бояре, однако, не спешили заточить Гермогена в земляную тюрьму. Они страшились его проклятия и потому убедили Гонсевского испробовать ещё одно средство: послать грамоту Филарету Романову, дабы он отвёл Гермогена от упрямства. Патриарх-де слаб, нуждается в заботе и покое. Ему ли заниматься мирскими делами! Расчёт был на то, что у самого Филарета семья оставалась в России, в Костроме, в Ипатьевском монастыре. Ужели Филарет не озаботится, как бы жене да сыну не стали тесноты чинить! Тем паче что «крамольные» бояре и ополченцы прочат Михаила Романова на русский престол. Да о том же и Гермоген говорил.
Русское посольство, в челе которого был Филарет, находилось тем временем в великом притеснении у ляхов. Литовский канцлер Лев Сапега требовал от русских послов, чтобы они исполнили «государеву волю» и убедили смолян, дабы они целовали крест королю и королевичу. Филарет и князь Василий Голицын воспротивились этому насилию. Не удалось ляхам добиться согласия и от смоленских дворян, которые находились при посольстве. Выражая волю русских людей, они ответили:
– Хотя в Смоленске наши матери, и жёны, и дети погибнут, только бы на том крепко стоять, чтоб польских и литовских людей в Смоленск не пустить...
Тогда ляхи начали склонять в свою пользу мелкую сошку в русском посольстве, дворянина Сукина и дьяка Сыдавного Васильева, а вместе с ними двух представителей духовенства: спасского архимандрита и келаря Троицкой лавры Авраамия Палицына. Дали им грамоты на поместья, сделали посулы многие и тем склонили их изменить общему делу, поехать в Москву, чтобы там действовать в пользу Сигизмунда.
Узнав об этом, Филарет призвал к себе этих шатунов.
– Ужели надумались исполнить волю ляхов? А вы подумали о том, что если Смоленск возьмут приступом, то вы, послы от патриарха, бояр и всех людей Московского государства, будете в проклятии и ненависти?!
Послы отвечали:
– Послал нас король со своими листами в Москву для своего государева дела. И нам как не ехать?
Одни открыто ослушались Филарета, другие, как Авраамий Палицын, не явились к нему. (Палицын уехал в Москву, обогащённый грамотами Сигизмунда на поместья.) Захар Ляпунов также покинул Филарета, перешёл в польский стан и пировал вместе с панами, насмешничал над Филаретом и Голицыным.
Тем временем «седьмочисленные бояре» написали две постыдные грамоты. Одну разослали по городам, первым делом в Кострому, где жила семья Филарета, и в Ярославль, где ополченцы Минина и Пожарского пополняли свои ряды. Вторую грамоту – Филарету. Обе грамоты внушали людям мысль: чья правда – того Бог милует и награждает удачей. «Сами видите Божию милость над великим государем Сигизмундом, его государскую правду и счастье: самого большого заводчика смуты, от которого христианская кровь начала литься, Прокофья Ляпунова, убили воры... Теперь князь Дмитрий Трубецкой да Иван Заруцкий стоят под Москвой на христианское кровопролитие...»
Тем самым на жителей русских городов возлагалась ответственность за кровопролитие, ежели они не признают своим государем Сигизмунда. А первыми ответчиками за кровопролитие делались послы. Филарету писали также, что Гермоген опасается, как бы воры (так бояре называли ополченцев) не поставили на престол Маринкиного сына. Но патриарх стар и слаб, и слово Филарета, грамота его руки будут иметь на него благое действие.
«Бездельные люди! Заплутай!» – с горечью думал Филарет, прочитав боярскую грамоту. И немало скорбел о том, что среди этих «заплутаев» временной Боярской думы был его родной брат Иван Никитич. Калека, переживший ссылку, он ожесточился душой и, может быть, из опасения новой для себя беды держался первых в державе вельмож и сурово отмалчивался, когда с ним заговаривали о «мятежном» брате Филарете. «Какой урок жизни! Вельможи – первые при прежних царях – стали первыми изменниками, едва держава начала слабеть, а вера попала в поругание», – думал Филарет.
Душа Филарета устала от скорбей и невзгод. Будущее его было темно, как и будущее его семьи. После того как он отказался писать грамоту Гермогену, Филарета лишили всех благ, коими были приглашение на трапезы к гетману, прогулки по саду, относительно свободное общение с местными ляхами. У него изъяли писчие принадлежности и кормить стали совсем скудно.
Но однажды его неожиданно позвали к гетману Жолкевскому, дававшему перед своим возвращением в родное поместье прощальный обед. За трапезой пан Руцкой стал рассказывать, как якобы раболепно поклонился королю Сигизмунду «пленный» царь Василий. Филарет видел, как все поглядывали на него во время этого рассказа, как бы проверяя впечатление. Он понимал, что паны хотели унизить его достоинство – русского посла, но не ради унижения, как такового, а чтобы склонить его к службе королю, чьё государское счастье как бы подтверждалось и «пленением» царя Василия.
Филарет поднял красивую гордую голову, оглядел панов, сказал:
– Или царя Василия взял кто в плен? Что-то мы об этом не слыхивали!
И, видя, что гости гетмана ожидают продолжения его речи, добавил:
– Нам ведомо лишь, что его выдали изменники-бояре...
– То ваши дела. Мы о них не спрашиваем, – спесиво заметил пан Руцкой. – Но многие тому свидетели, что царь Василий склонился перед нашим государем в низком поклоне и коснулся рукою земли, яко невольник... Затем поцеловал руку короля...
– Шановни паны! То жартова байка! – с непосредственностью человека, которому набрыдла ложь, воскликнул князь Вишневецкий. Вся его жизнь была замешана на лжи и лицемерии, он был конюшим боярином при Лжедимитрии II, и теперь, когда всё было позади: и политические авантюры, и усердное искание чинов и богатства у ложного царя, – Вишневецкий на миг ощутил потребность в свежем сквознячке. Ему захотелось озадачить гостей гетмана, оттого и продолжал с несвойственной ему прямотой: – Паны требовали, чтобы царь Василий поклонился нашему государю. Это так. Но Василий на это ответил: «Нельзя московскому и всея Руси государю кланяться королю: праведными судьбами Божьими приведён я в плен не вашими руками, но выдан московскими изменниками, своими рабами».
Все с недоумением слушали старого магната. А Вишневецкий, слушаясь одного лишь задора, продолжал:
– Ей-ей! Так! Своими очами бачив, как Василий приветствовал Сигизмунда лёгким наклонением головы. Был он в светлой ферязи и шапке из чёрного лисьего меху...
И пока гости озадаченно молчали, Филарет неожиданно сказал, обращаясь к гетману:
– Дозвольте спросить вас, Станислав Станиславович, по какому праву вы взяли русского царя из монастыря, привезли его под Смоленск и представили королю в светском платье?
Все смотрели на Жолкевского. Не слишком ли дерзок русский посол? Жолкевский слегка пожал плечами, но ответил просто:
– Я взял бывшего царя не по своей воле... А что привёз его в светском платье, так ведь он и сам не хотел быть монахом...
– Ты не всю правду говоришь, Станислав Станиславович. Правда, бояре хотели отвезти Василия в дальний монастырь, но ты настоял, чтобы его отвезли в Иосифов монастырь, ближе к Польше. И чтобы отвозить царя с братьями в Польшу – на то уряду не было. В записи утверждено, чтоб в Польшу и Литву ни одного русского человека не брать. Ты на том крест целовал и крестное целование нарушил...
Но Жолкевский с ловкостью царедворца уклонился от прямого ответа.
Почему Филарет с таким волнением говорил о том, что царя Василия привезли в Польшу в светском платье? Он видел в этом дурной знак. Мирского человека легче погубить, нежели инока, ибо инок принадлежит Богу, а мирской человек – людям. Филарет понимал, что и его спасает от расправы только сан. Но кто знает, как долго будут длиться его муки? Ужели до самой смерти, как предсказал ему однажды волхв?
Не напрасно ли он смеялся над этим предсказанием?
12
Гермоген предчувствовал, что жить ему осталось считанные дни, хотя физически он был ещё достаточно крепок и духовная энергия его не иссякла. Он поддерживал связь с ополченцами, наставляя их и советуя, и всякую свободную минуту посвящал молитвенному служению Богу. Душа его давно просила покоя, но жизнь посылала ему всякий раз новые испытания.
Незадолго до кончины с ним произошёл случай, который внёс драматическое разнообразие в его печальную жизнь. Но сначала небольшая предыстория. Ополченцам стало известно о доносе на них Сигизмунду бояр-изменников. В грамоте королю они называли ополченцев непослушниками и ворами, доносили королю на новгородцев, казнивших сына Михайлы Салтыкова, Ивана.
Убедившись во враждебных происках бояр, ополченцы начали искать союзников на стороне. Вскоре они получили предложение о помощи Якова Маржерета, но, нимало не сомневаясь, отвергли его, ибо знали, что при царе Василии он пристал к Вору, позже пришёл с гетманом и кровь христианскую пуще польских людей проливал. За это Сигизмунд приблизил его к себе и велел быть в раде. Зная это, ополченцы написали такой отказ товарищам Маржерета: «Мнится нам, что Маржерет хочет быть в Московское государство по умышлению польского короля, чтоб зло какое-нибудь учинить».
Оставались казаки, которым ополченцы тоже не доверяли, но всё же решились принять их помощь, уповая на союз с православными людьми.
«Отчего же не попытаться укрепиться с ними договором?» – думал Пожарский. И решился.
Ас Гермогеном в ту пору произошёл любопытный случай, позволяющий судить о том, что сулил ополченцам союз с казаками.
Гермоген стоял на молитве, когда послышался грохот отбиваемого запора и в келью вошёл великан. При слабом свете луны (свечей не давали) он разглядел казака довольно свирепого вида, и услышал грубый голос:
– Пани казали, то не поп, то сам сатана сидит у кельи. Думаю, дай побачу!.. Чи е тут кто, чи нэма?
– Кто ты будешь, добрый человек? – спросил Гермоген.
Только теперь разглядел казак молящегося в углу монаха. Гермоген медленно поднялся с колен, и казаку бросилась в глаза большая борода и худая ряска.
– Добрый человек, кажешь? Отнюдь!.. Я не с добром до тэбе прийшов. Хочу побачить всей беды заводчика. Или не через тебя кровь христианская проливается?
– Кто ты, добрый человек? – повторил свой вопрос Гермоген.
И такое смирение, такая кротость были в голосе патриарха, что казак подумал: «Не, то не сатана!»
– Я купец, а по-нашему торговый человек из Чернигова, попал в казаки и через то прийшов пид Москву. Прозываюсь Богдан Божко. А ты, значит, патриарх... А я чув, ты сатана. Да бачу, ты Богу молишься, яко православный человек. Дозволь спытать тебя, чего ты у Бога просишь?
– Молитву воздаю Господу нашему, дабы даровал победу над хищниками нашего спасения, польскими и литовскими людьми, и одоление над непослушниками нашими...
Всматриваясь в лицо казака, Гермоген продолжал:
– По Христову слову встали многие нехристи, и в их прелести смялась вся земля наша, встала на междоусобную брань... И ты не от наместника ли польского Гонсевского пришёл брать меня?
– Нету ныне Гонсевского, – ответил Богдан. И, присвистнув, добавил со смешком: – Гуся сменили на Струся...
И, видя, что патриарх не понимает его, пояснил:
– Новый польский наместник Струсем прозывается. Он ноне всему голова на Москве... Думали, полегшает при нём, а оно всё хуже да хуже... Сидим тут в обаде, голод почал стискати. Почали псов да кошек йсты! И хоть гроши у кого е, да купуваты чого нэма. И дороговля великая стала. Пехота да нимцы почали людей резати да йсты... Пленных, тых всех поели.
Гермоген чувствовал, как ослабели вдруг ноги, и опустился на своё жёсткое ложе. Не мара ли какая напала на него? Голова его упала на грудь, и он на миг забылся. Очнувшись, потянулся дрожащей рукой к кувшину с водой. Богдан помог ему напиться, приговаривая:
– Ой, Божечко ж мой!..
Холодная вода вернула Гермогену силы. Тем временем Богдан достал из-за пазухи тряпицу, протянул Гермогену:
– Тут шматок мёду. Возьми, святый отче!
Гермоген отстранил подарок рукой.
– Да возьми, – настаивал Богдан. – Ось вин мени даром достався... Чуешь, яко воно було... Казак Горобец с жолнером вломились в дом болярина Мстиславского и почали шарпати, ищучи живности. Болярин почал их гневливым словом поминати. Горобец ударил его кирпичом у голову. Я на карауле в тот час стоял. Чую крик, лаянье. Пока добег до хоромов, бачу, болярин на полу. Я плеснул ему холодной воды, влил в глотку горилку. Очухався, а то мало не вмер. Тут и жинка его вбежала да послала за доктором. Ну а мени за спасение чоловика своего мёду дала... Довели до наместника Струся. Так, мол, и так, казак с жолнером ледве душу князя не загубили. Струе приказал поймать казака с жолнером. Обоих повесили на шибенице, а поховать не прийшлось. Пехота срезала, на куски разрубили да съели...
– Ты бы шёл к своим казакам, Богдан... Не было бы тебе худа какого.
– Худа? Мени?! Да я сам кому хошь худо зроблю! А тебя, моя святость, я видсиля на руках вынесу да сховаю в хати своего побратима.
Богдан уже забыл, что пришёл в эту келью (вломился!), дабы «своими очима» поглядеть на «сатану», он жалел патриарха, «як своего батьку».
– Спасибо, добрый человек, але я повинен оставаться в келье. И пока ты ещё здесь, скажи, кто тот Горобец?.. Я знал старбго Горобца...
– Не, той в минулому року помре... Поховали. А сказнили его сына, да поховать не пришлось...
Рассказ Богдана перебил неожиданно громкий голос:
– Богдан! Чуешь, стрельцы? Тикай!
Богдан низко поклонился Гермогену:
– Душа болезнует, святый отче! Чув, тебя в земляной тюрьме хотят сховати каты...
Гермоген молча перекрестил казака.
13
Слова Богдана о земляной тюрьме заставили Гермогена вспомнить рассказы о таинственном склепе Чудова монастыря, о котором ходили легенды, о насмерть замученных там узниках, о привидениях, которые являлись по ночам инокам Чудова монастыря. Никто не знал, кто эти страдальцы, окончившие жизнь в тяжких мучениях, как никто не знал, почему именно в Чудовом монастыре был устроен этот склеп.
Монастырь чуда Архангела Михаила много значил в судьбе Гермогена. Там он принял постриг, и это стало решающей вехой в его судьбе. Вскоре он стал архимандритом, затем занял митрополичью кафедру, стал третьим лицом в державе. Предназначенная ему Богом судьба готовила его в патриархи.
Склеп? Земляная тюрьма? Смерти он не боялся. Россказням о ночных видениях не верил. И разбросанные по склепу черепа тоже не устрашат его. Чем вздумали грозить ему проклятые еретики! Одну токмо Божью грозу признавал он над собой...
Из кельи Кирилловского подворья ему виден Чудов монастырь, чудное сооружение, задуманное два с половиной Века назад митрополитом Алексием, самою судьбою отмеченный храм, благоговейно чтимый даже недругами, получивший привилегированное значение. Он же – убежище еретиков. В тиши его келий был взлелеян ругатель веры православной, заводчик смуты на Руси Гришка Отрепьев. Своим пребыванием в монастыре он осквернил обитель устроителя Московского государства святителя Алексия...
Длинной чередой, словно светлые видения, проносились перед мысленным взором Гермогена события и случаи, свидетельствовавшие о славе и величии святой веры. И хотя по летописям выходит, что на этом месте был поначалу Ордынский посольский двор, что сюда являлись поганые за сбором дани и пошлин с Русской земли, но они же способствовали и возвеличению наших митрополитов.
О, сколь славные были сохранили те дни!.. Память о чудесных исцелениях, кои совершал митрополит Алексий, переходила от потомства к потомству... То были владычества хана Джанибека. Этот ордынский царь особенно благоволил к святителю Алексию, считал его молебником за свою семью, поскольку однажды он исцелил его мать Тайдуллу.
Примерно в это же время был подарен Москве ханский Посольский двор в Кремле, и на месте Ордынского двора был построен Чудов монастырь, видимо названный так в ознаменование чуда исцеления царицы Тайдуллы.
Страшиться ли тесноты в стенах святого монастыря, где некогда был погребён митрополит Алексий, страшиться ли этих стен ему, патриарху?! Гермоген помнил, как после пострига облобызал землю, на которой стоял монастырь. Архиепископ Новгородский Геннадий, искоренитель злой ереси, память которого Гермоген свято чтил, доживал в монастыре последние дни с пользой для души и здесь же был погребён.
Забыть ли, что в Чудов монастырь поместили царя Василия, свержения коего Гермоген не признавал. Ужели не понимали бояре-изменники, что, надругавшись над праведным царём, они поставили Россию на край гибели?! Душа Гермогена стенала. Свести с престола царя, что не единожды спасал державу от смуты! Да многие ли ведали, сколь тяжёл был крест царя Василия, когда он, поддерживаемый лишь немногими боярами, пошёл на Гришку Отрепьева? И кто оценил его мужество, когда он повёл войско против Ивана Болотникова, ставшего грозой России? Он был неустрашим перед толпами гнусных мятежников... А сколько светлых разумных начинаний пропало даром!.. Это был великий государь недостойного народа своего!
Но понемногу мысли его успокоились. Он стал думать, что ополчение, ставшее грозой поляков, возглавил князь Дмитрий Пожарский, верный царю и достойный его мужеством и твёрдостью.








