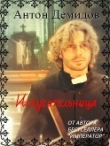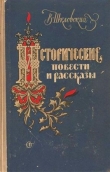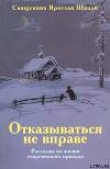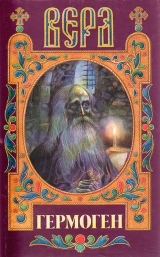
Текст книги "Гермоген"
Автор книги: Борис Мокин
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 34 страниц)
5
Горобец сказал правду: Задумана была коварная сдача Сергиевой лавры. Но прав был Гермоген в своих предчувствиях: задуманное не сбылось.
События развивались по плану Петра Сапеги и его сообщников, но конец был неожиданным.
Искусный не только в ратном деле, но ещё больше в коварстве, Пётр Сапега заслал в Лавру известного притворщика лютеранина Мартиаса, верного и ловкого исполнителя замысла ляхов. Он должен был ночью впустить на монастырскую стену нескольких поляков и вместе с ними «пакость поде яти»: заколотить все пушки монастырские, «у пушек иззыбити затравы, а порох прижещи».
Мартиас сумел вкрасться в доверие князя Долгорукого (видимо, сие не стоило особого труда). Келарь Палицын впоследствии напишет об особой дружбе Долгорукого к этому Мартиасу: «Воевода же князь Григорий, яко родителя своего почиташе и во единой храмине почиваше с ним, и ризами светлыми одеян бысть...» Долгорукий советовался с пленным ляхом о важных делах и поручал ему ночную стражу. А тем временем Мартиас с помощью стрел извещал Петра Сапегу обо всём, что делалось в Лавре, и о планах-замыслах самого Долгорукого.
Гибель Сергиевой лавры была бы неминуемой, но помешал случай. В Лавру от Сапеги перебежал литовский пан Немко, глухой и немой от природы. Увидев Мартиаса, Немко отскочил от него и начал зубами «скрежетати» и плевать на него, а потом побежал к князю Долгорукому и начал изъясняться знаками: бить кулаком по кулаку, хватал руками стены келейные и, указывая глазами на церкви и на службы монастырские, начертал на воздухе, яко «всему взмётнутым быти», а воеводам «посеченным быти» и всем по обителям «сожжёнными быти».
На пытке Мартиас признался, что был лазутчиком Сапеги. Так сорвался ещё один коварный замысел неприятеля. Защитники Лавры не сомневались, что были спасены молитвами угодников своих Сергия и Никона. В монастырских церквах начались молебны и благодарственные пения Богу и угодникам – Сергию и Никону – чудотворцам.
А что же Немко? Сначала он, неведомо чего ради, изменил защитникам Лавры и вернулся в литовский полк, там его ограбили, сняли с него ризы, что были прежде на Мартиасе. И, пробыв у ляхов некоторое время, Немко вернулся к защитникам Лавры и начал усерднее прежнего ратовать за христиан – против литвы и изменников русских.
6
Успокоившись в душе своей за спасённую от гибели Лавру, Гермоген не успокоился, однако, в мыслях своих, опасаясь новых измен. Он много размышлял о легкомысленном в это смутное время скором доверии людям, коих не испытали на деле. Князь Долгорукий был испытан изменою, и всё же царь Василий поверил ему. Как могло статься, что он, первый воевода, стал клепать на своего же брата, воеводу Голохвостова, и клепал бездельно! Как могло статься, что он скороспело доверился пленному лютеранину, поселил его в своей комнате, ухаживал, как за отцом родным, доверял ему военные тайны, посылал в ночной дозор?!
Дивно и то, что Мартиаса поспешно изгубили. Не оттого ли, что кто-то опасался дальнейших его допросов? Истину ныне стараются спрятать подале, и злодейство стало делом обычным. Люди всё чаще стали говорить, что близится конец света, сопротивление злу и неправде ослабевало. И оттого зло множилось. Открыто насевались уныние и неверие.
Встревоженный этими настроениями, Гермоген сразу после заутрени отправился в царский дворец. И хотя думал застать царя одного, не удивился, увидев о чём-то толкующего с царём келаря Сергиевой лавры Авраамия Палицына. При появлении Гермогена келарь тотчас же смолк, но Василий нашёл нужным вернуться к прерванной беседе:
– Вот Авраамий говорит, что Россию терзают более свои, нежели чужие, и соплеменники более посекли царёвых ратников, нежели чужеземцы. Ино и так бывает, что ляхи токмо подзадоривают да посмеиваются, глядя, как Русь рубится с Русью... Что скажешь на это, Гермоген?
– Скажу, государь, что ино и так бывает... И что дивиться радости ляхов? Дивно, когда радуются сему соплеменники...
Сделав вид, что не понял намёка, и даже не взглянув в сторону Гермогена, келарь начал рассказывать о злодействах в самих святых обителях.
– Сердце трепещет, государь! Святых юных инокинь обнажали, позорили. Лишённые чести, они лишали себя и жизни в муках срама... Иные сами прельщались развратом...
– Да где же свершилось сие, что мы о том не слыхали? – сурово и одновременно насмешливо спросил Гермоген.
– Нас известили о том в письме...
– Да откуда то письмо? Из какой обители?
– К вам послали гонца, сами услышите... А ещё, государь, – продолжал Авраамий, – нам пишут, как свои предавали своих же жестокой смерти: метали с крутых берегов в глубины рек, расстреливали из луков и самопалов, в глазах родителей жгли детей, носили головы их на саблях и копьях. Грудных младенцев, вырывая из рук матерей, разбивали о камни. И, видя сию неслыханную злобу, ляхи содрогались и говорили: «Что же будет нам от россиян, когда они и друг друга губят с такою лютостию?!»
– Авраамий, но, ежели гонец ещё не прибыл, как же сии вести стали ведомы тебе? – спросил царь.
– О том, государь, у нас будет говорено особо... Или скажешь, что в сих вестях нет правды? Или знатные не обольщают изменою знатных? Или разумные не совращают разумных?
– Ежели кто увидит, как зло одолевает добро, а ложь истину, станем ли говорить, что ложь сильнее истины, а зло сильнее добра? – заметил Гермоген.
– Патриарху ли не знать, каково ныне святым обителям! Церковь гибнет, яко и отечество. Храмы истинного Бога разоряются, подобно капищам Владимирова времени. Скот и псы живут в алтарях, воздухами и пеленами украшаются кони, люди пьют из церковных потиров, мясо ставят на дискосы, на иконах играют в кости, блудницы пляшут в ризах иерейских, схимников заставляют петь срамные песни!..
Келарь задыхался, жестикулировал, чёрные глаза метали молнии. Он казался безумным.
Гермоген поднялся. Вид у него был гневен. Так хулить соотечественников и благодушествовать злодеям-ляхам!
– Государь, сии безумные речи насеваются дьяволом. Волею, данной мне освящённым собором, я возбраняю сии глумливые слова и скорблю о том, что изречены они келарем святой обители.
Царь переводил взгляд с патриарха на келаря, который как-то сразу притих. Василий понимал гнев патриарха, но в душе был смущён. Это он, царь, содействовал возвышению Авраамия Палицына. Едва сел на царство, освободил его из ссылки и содействовал назначению келарем Сергиевой лавры. Ныне же он не был уверен, что поступил правильно. В делах Палицын был ловок, да не всегда на пользу монастырю была сия ловкость. Были жалобы на самовольное распоряжение келаря монастырской казной. Его, как и Гермогена, изумили речи Авраамия. Он словно был рад державным бедам и не уповал на милость Неба.
Когда патриарх вышел, Василий сказал:
– Ужели, Авраамий, станем думать, что бунт поглотит Россию? Говоришь, что в церквах нынче дурно... Или не ведаешь о том, как доблестное духовенство борется с изменою? Вся Россия знает Феоктиста Тверского, крестом и мечом сражавшегося с изменою? Или не при тебе воздавали хвалу святителю коломенскому Иосифу и архиепископу Суздальскому Галактиону! Или иноки обители святого Сергия не удостоились имени святых ратников?
– Ты бы, царь, послушал своих бояр, как они называют Россию скопищем злодеев и нечестивцев!
– Забудь эти речи и думай о благом, Авраамий!
Авраамий молчал, но можно было понять, что царёвы наставления ему ни к чему.
Забегая несколько вперёд, скажем, что Авраамию Палицыну суждено будет пережить и царя и патриарха и до конца дней своих пронести те мысли, что он высказал в этой беседе, словно бы в горячечном бреду. Эти мысли он выразит в книге «Сказание Авраамия Палицына», где будет и правда о том времени, но и прямая неправда...
7
Всю жизнь учил Гермоген паству свою жить по Писанию: «Не делай зла, и тебя не постигнет зло. Уклоняйся от неправды, и она уклонится от тебя». Но что ныне видели люди? Неправда становилась силой завладевающей. Ей служили и знатные вельможи, и те, кто саном своим подвигнут был служить истине и Богу.
Перед патриархом лежала грамота от архимандрита и соборных старцев Троице-Сергиевой лавры: «...Тебе бы, государь, помыслить о нас. Келарь Авраамий в великой тесноте нас держит, в нужде, поносит иноков, яко хотяще себе хлеба через потребу свою. Уже погибаем... Корит не по правде: иноки-де приложились к изменникам и литве. Господи Боже наш бессмертный и безначальный, преклони ухо твоё и услыши глаголы наши, конечне погибающих...»
Это писали герои защиты святой обители, писали о том, кто должен быть им отцом и братом, а стал недругом. По Москве ходили тёмные слухи, что келарь обители святого Сергия прямит литве, сродникам своим по рождению, ибо прародители его были литовскими выходцами, что он хотя и льстит царю, но за глаза говорит о нём дурно.
Гермоген знал, сколь осторожен был царь в отношении к шатунам, подобным Авраамию. Но время было опасное. У всех на устах были слова «измена», «мятеж». Любой слух подливал масла в огонь. А тут ещё было перехвачено письмо пана Отоевского, из коего явствовал замысел ляхов и русских изменников – разорить московских людей и разослать в дальние места, а на их земли поселить людей из Литвы, «на коих можно было бы в нужное время положиться. Теперь нам этим делом надобно промыслить, – писал лях, – прежде, чем придут шведы. Надобно Шуйского со всеми его приятелями разорить и искоренить до основания».
В эти дни все усилия Гермогена были направлены на то, чтобы помочь царю объединить вокруг Москвы надёжных людей. Их посылали в другие волости и уезды с грамотами и горячим праведным словом к соотечественникам и братьям по вере и горестной судьбе – спешить к Москве для помощи и защиты.
По Москве между тем шныряли подозрительные людишки, в корчмах что-то особенно бойко торговали вином, в лавках больше всего отпускалось пороху. Царь принял меры безопасности. Возле кремлёвских стен были поставлены пушки, и разобран мост, по которому чернь ходила в Кремль. Гермоген с удовлетворением замечал, что царь не изъявляет никаких признаков беспокойства. Его поведение напоминало ему слова Златоуста: «Кто приступает к подвигам, претерпев бесчисленные бедствия, тот бывает выше всех и посмеивается над угрожающими, как над каркающими воронами».
8
Самая крупная битва с тушинцами в том году была на Троицын день. Литовские люди поднялись на Москву, по словам летописца, всеми таборами. Тушинцы опрокинули первый московский отряд, против них высланный, и тогда царь Василий отрядил против них всё войско, в полном снаряжении, с пушками и гуляй-городками. Эти городки представляли собой обозы на колёсах. В закрытых дубовых возках сидели стрельцы и, защищённые дубовыми стенами, стреляли в отверстия. Стремительным натиском тушинцы вначале овладели гуляй-городками, но быстро смешались в непривычной для них атаке, не выдержали натиска москвитян и бежали в Тушино. Русские войска ворвались бы в Тушино, если бы донские казаки под предводительством Заруцкого не остановили их. Однако тушинцы потеряли всю свою пехоту и целыми отрядами попадали в плен. Летописцы свидетельствовали о невиданной за последнее время храбрости московских людей.
Победа над тушинцами дала возможность царю Василию диктовать свои условия. Он отказался от обмена пленными, как это водилось обычно, и поставил полякам условие – покинуть пределы Московского государства. Только при соблюдении такого условия он соглашался вернуть пленных. Но когда в Тушинский лагерь приехал поляк Станислав Пачановский с нотой царя Василия, поляки ответили:
– Скорее помрём, чем наше предприятие оставим. Дброги нам наши товарищи и братья, но ещё дороже добрая слава.
Сам Пачановский принял в этом споре сторону царя Василия и вернулся в Москву. Начался обмен пленными. К этому времени поляки подружились с москвитянами и после обмена отказывались возвращаться в Тушино, изъявляли желание вернуться в Польшу. Они возносили хвалу доброте москвитян. Особенной популярностью среди них пользовался царский брат, князь Иван Шуйский. Он вылечил от ран шляхтича Борзецкого, а пленным, отпуская их на волю, дарил по сукну.
И это в то время, когда поляки со всех сторон осаждали Москву. Сапега и Лисовский бросили свои отряды на Троицкий монастырь, Млоцкий с Бобровским бились за Коломну. Мархоцкий стоял на больших дорогах к Москве. Там же стояли и крупные отряды Зборовского.
В дни изнурительной осады Москвы большим подспорьем утомлённому российскому войску могла быть подмога шведов. Эта задача была поставлена перед князем Михаилом Скопиным, что находился в Новгороде. В конце февраля 1609 года князь Головин и дьяк Сыдавный Зиновьев заключили с поверенными Карла IX договор. Карл обещал России помощь: две тысячи конницы и три тысячи пехоты, а в случае необходимости и сверх того. Шуйский в благодарность за помощь отказывался от Ливонии в пользу Швеции и вступал в союз с Карлом IX против Сигизмунда. Было договорено, что ни та, ни другая держава не вольны без общего согласия мириться с Сигизмундом. Царь обязывался выплачивать шведским воинам щедрое жалованье, а князь Михаил Скопин-Шуйский[61]61
Скопин-Шуйский Михаил Васильевич (1586 – 1610) – князь, боярин, русский полководец. Подавил восстание Болотникова. В 1610 г. освободил Москву во главе русско-шведского войска от осады тушинцев.
[Закрыть] дарил им от себя пять тысяч рублей. Шведы должны были занимать города исключительно именем царским.
Так в новых условиях возобновился мирный договор между Россией и Швецией, заключённый ещё при царе Феодоре в 1595 году. Россия должна дожидаться своего часа. К этому времени она, по словам летописца, была покрыта горами могил. В городах, взятых Лжедимитрием II, свирепствовал террор, и страх заставлял многих жителей служить самозванцу. Даже Псков, этот кремень древней славы российской, стал вертепом крамольников и злодеев. Тушинцы умело использовали ненависть рядовых псковитян к сановным и богатым людям, сумели подстрекнуть их к мятежу ложными слухами, что царь отдаёт Псков шведам. Достояние святительское и монастырское было разграблено. Бояр и воевод казнили, избрав для них смерть самую мучительную (жгли на кострах, сажали на кол, подвергали тяжелейшим пыткам). Орды мятежников возглавил дворянин Фёдор Плешеев. По его приказу был подожжён Псков, а поджигателями объявили дворян и богатых купцов. Началась резня невинных людей во славу «царя» тушинского. И это были потомки героев-псковичан, победители польского короля Стефана Батория[62]62
Стефан Баторий (1533 – 1586) – король польский с 1576 г., полководец, участник Ливонской войны.
[Закрыть]. Всего четверть века назад их отцы и деды проявили твёрдость и мужество, совершили подвиг великодушия.
Но словно гибельное поветрие охватило едва не всю Россию. Лишь немногие города оставались под московскими знамёнами. Твёрдо стояли Троицкая лавра, Коломна, Переяславль-Рязанский, Смоленск, Нижний Новгород, Саратов, Казань, многие сибирские города. Остальные признавали над собою единую лишь власть Тушина. Тушинский стан стал вторым центром после Москвы, он явно спорил с Москвой богатством, красовался дворцами, богатыми купеческими лавками, улицами и площадями. Била в глаза показная роскошь, богатые украшения, ткани, ковры, добытые разбоем. На площадях стояли бочки с вином и мёдом, отпускаемые почти что даром. Невостребованное мясо гнило в тушах, привлекая псов. Более ста тысяч разбойников населяли этот вертеп, и число их увеличивалось. Кого могла прельстить голодная Москва! А здесь дармовое угощение, разбойная воля и возможность обогатиться.
Стекались в Тушино люди разных национальностей, особенно много было татар. Их привели туда державец касимовский Ураз-Махмет, звавшийся при Борисе Годунове потешным царём, и крещёный ногайский князь Араслан-Петр, сын князя Урусова. Араслана-Петра приблизил к себе царь Василий, облагодетельствовал его, женил на вдове своего покойного брата Александра. Это не помешало ему предать и царя, и веру христианскую и оставить жену – ради соблазна грабить и злодействовать. Впрочем, несколько позже Араслан-Петр войдёт в историю поступком иного рода – избавит Русь от Лжедимитрия II.
Однако многие города и волости Северо-Западной Руси ещё оставались как бы ничейными. Царь Василий, патриарх Гермоген посылали туда свои грамоты, призывая жителей служить царю и отечеству, а князь Михаил Скопин отправлял ратных людей, чтобы набрать в свои отряды ополченцев. Не отвращал он взора и от городов мятежных. Он послал личное обращение к псковитянам, где хвалил их древнюю доблесть, убеждал оставить тушинского царика, от имени царя Василия обещал забыть их недавние злодеяния, ежели они станут под московские знамёна.
Но, увы, люди в массе своей упорны как в добре, так и в зле. Псковитяне даже хвалились своими злодеяниями, видя в них своего рода доблесть, гордились своими прародителями, которые в лихую годину не захотели покориться московскому царю Ивану III, хоть и претерпели беды великие. В тушинском царике они видели своего защитника и оттого на доброе к ним послание князя Михаила ответили угрозами.
9
В ту лихую годину царь Василий вставал и ложился с одной мыслью: деньги! Расхищенная самозванцем казна окончательно истощилась в войне с силами Болотникова, Лжедимитрия II и польскими отрядами. И если свои могли как-то потерпеть, то шведы, подавшие руку помощи России, не мирились с задержкой жалованья своим воинам и грозились вернуться обратно.
Между тем подати, коими пополнялась казна, оскудели. Многие плательщики податей в Смутное время (и ранее того, после трёхлетнего мора при Годунове, вызванного неурожаями из года в год) оставили свои дворы. Одни получили заклады от дворян, ежели двор был добротным, другие, совсем уж худородные, – бродяжничали и нищенствовали. Опустевшие дворы занимали люди чиновные, не желающие платить подати. Но и тех было немного. Слободы пустели. В волостях разбойничали воеводы тушинские, требовали корма и подымщины. Многие тогда пользовались смутой для своих выгод. В ходу были пытки для добывания денег. Вымучивши у крестьянина деньги, отпускали, приговаривая: «Зачем крест целовал?» Измученный пытками и поборами мужик уже и не знал, кому целовать крест. Тушинские злодеи пугали их немцами (шведами), хотя народу зло несли союзники их ляхи. Растерянные люди говорили: «Немцев не хотим и за то помрём». Так было и в Пскове, и в других городах России. Пользуясь их растерянностью, тушинцы превозносили своего «царя» за мнимые добродетели, славили его мудрость и хитрость воинскую. Измученные бесчинствами и грабежом люди чаяли хоть какой-то защиты и целовали крест «Тушинскому вору».
Царь Василий понимал, что происходило самое страшное. Всеми неправдами выводили из употребления правду. Так злодеи подрывали веками устоявшийся добрый старый порядок, топтали добродетель, умножали воров. Людей добродетельных загоняли в угол либо же уничтожали. Объяснить это можно было только действиями коллективными, сговором тёмных сил, именуемых на Руси антихристовым воинством.
Ясно было, что одной лишь силой воинской с этими невзгодами не справиться. Государь действовал со свойственной ему энергией. Он умел найти людей, которые почитали своим долгом помочь отечеству в беде. Дьяки и простые посадские люди выезжали в далёкие уральские и сибирские волости, чтобы собирать подати либо пожертвования в казну царскую. Сам Василий рассылал по волостям свои грамоты с надёжными людьми, и те грамоты читались на общем сходе, открывая людям правду о бедах державы и «Тушинском воре».
Василию удалось объединить вокруг Москвы лучших людей. И не одних бояр да дворян, но и купцов, и простых посадских людей. И все, кто мог, писали от имени москвитян грамоты и посылали с ними надёжных людей в уезды и вотчины многие. И кто как умел словом горячим и праведным сносился с братьями своими по вере и общей горестной судьбе.
Иные сохранившиеся грамоты верно передают волнения души москвитян, их заботы и молитвы тех дней. «Не слухом слышим, а глазами видим бедствие неизглаголенное. Заклинаем вас именем Судии живых и мёртвых: восстаньте и к нам спешите! Здесь, в Москве, корень царства, здесь знамя отечества. Здесь Богоматерь, изображённая евангелистом Лукою. Не станем называть виновников ужаса, предателей студных. Они известны. К счастью, их мало, а за нами Бог и все добрые с нами. Дадите ли нас в плен и в латинство?»
...Лучшим собинным другом Василия в это лихолетье был патриарх Гермоген. Сила души и редкая святость этого человека сочетались с государственным складом ума. Патриарх понимал горькую участь царя и больше всего был озабочен тем, как поддержать душу, подверженную столь тяжким испытаниям. Понимал, что царь наживал себе врагов крепкой приверженностью старине, древним обычаям прародителей, коими век от века и крепилась наша держава. Он не видел иного мужа в отечестве, кроме Василия, кому было бы по плечу противостоять сатанинским напастям. Война шла, какой прежде не бывало на Русской земле. «На войне с врагами внешними бывает время отдыха, – думал Гермоген. – Там иногда воюют, иногда нет, ибо во всём есть порядок и время. А война нынешняя не знает времени к нападению, ибо воюет дьявол, который один умеет выискать момент, чтобы нанести смертельную рану. Мы не токмо воюем с врагом, мы носим в себе врага, и этот враг воюет непрестанно».
Гермоген думал об этом, готовясь к беседе с царём. Он не знал, почему царь позволил иметь с ним встречу в Крестовой палате патриаршего двора. В этой соборной молельной собирался обычно духовный чин на церковную службу, а ныне придёт сам царь. Может быть, намерился сказать ему возле крестов да икон слово особенное, державное да тайное.
Царь и патриарх сошлись в одночасье и остановились возле большой иконы Спаса в серебряном окладе. У царя лицо было бледное, похудевшее. Патриарх рядом с ним казался великаном, но и его суровое лицо казалось более усталым, нежели обычно. Из-под митры виднелись завитки волос с проседью. Могучие плечи, прямая спина выдавали природное крепкое здоровье. В его присутствии Василий чувствовал прилив сил, видел в нём духовную опору.
– Ныне чаю, духовный пастырь, услышать от тебя сокровенное слово. Сем ведаешь, многие ныне живут в разномыслии. Мы съединились с врагами и ввели их в свой дом.
– Дозволь и мне, государь, изречь слово моё худое. Чую, о каком враге изволишь глаголать. Тот враг – дьявол. Никогда прежде антихристово воинство не было столь сплочённым и многочисленным. В царственном граде Москве уже в самых приходских церквах чинится мятеж и соблазн. Служба Божья совершается небрежно, священники мирские угодия творят, бесчинствуют. Что же говорить о пастве! Во время богослужения ведут непотребные разговоры, лущат семечки. Церковное пение перебивается громкими голосами всяких шпыней. Сказывают, уже и скоморохи стали в церковь забегать и браниться там позорной бранью.
– Долго ли Господь будет терпеть сии бесчинства? Чует моё сердце, прольётся новая кровь...
– Ведаю, о чём глаголишь, государь. С польской стороны надвигается новая гроза: Сигизмунд.
– И о том иные бояре меж собой тайно толкуют. Норовят Сигизмунду, хотят быть под его рукой. Что станем делать, владыка?
– Поначалу надлежит разведать, откуда дует ветер. Един ли Сигизмунд со своими ближниками завидует России, её просторам, богатству? Или же наблизилось время для крестового похода на Русь ордена иезуитов[63]63
Орден иезуитов – католический монашеский орден (лат. «Societas Jesu» – Общество Иисуса), основанный в 1534 г. в Париже Игнатием Лойолой. Орден был главным орудием контрреформации.
[Закрыть]? Сигизмунд хитёр и коварен. А орден жесток и неумолим. Тут о соглашении и мире речей не будет.
Василий вспомнил псковскую резню, спровоцированную тушинскими еретиками. Изничтожили лучших, истинно православных людей.
– В Тушине, сказывали, праздновали гибель Татищева. Иезуиты из Кракова прислали им достохвальную грамоту, – продолжал Гермоген.
Василий посумрачнел глазами. Михайла Игнатьевича жалел более всех. Государственного ума был человек и предан отечеству. Но горяч и несдержан в словах. На этом его и подловили злодеи. Упокой, Господи, его Душу!
– Ему и на Москве долго поминали убийство Басманова, верного слуги самозванца. Винили, что и Волуева-де подвиг на казнь «Димитрия». У самозванца больше приверженцев, чем мы думали, – заметил царь.
– Ныне сатанинское воинство ополчилось на обитель святого Сергия. Были ко мне гонцы. Просят подмоги.
– Про то мне ведомо, – ответил царь. – Там стоят крепкие воеводы.
– Середь них раздор посеян. Суд затевается помимо воли старцев и архимандрита. Разведай, государь, доподлинно и виновных накажи. Престол твой правдой, крепостью и судом истинным совершён да будет. Есть воля Божья благочестивым воителям безумных человеков обуздывать. И ты, великий государь, буди богоспасаем.
Гермоген осенил его святым крестом. Он скрывал от царя тайную, сосущую его тревогу. Он более других видел, что нет крепости в ближниках царя, что многие верны отечеству только на словах. Предчувствовал, что надвигается великое насилие. Всюду чинится мятеж. Державная сила царя ослабела. Рознь в государевых боярах великая, и людям строения нет, а для розни кто станет служить и биться? Ныне он перечитывал Златоуста и много думал над словами: «С неразумными беседую, потому что разумные пали ниже неразумных». Он и ране наставлял свою духовную паству, дабы обращали грешников в истинную веру. Ежели человек сказал свой грех, то тем уже и загладил его.
И опять же ко времени нынешнему были слова Златоуста: «Бог ненавидит не столько согрешающего, сколько бесстыдного».
Истинная вера в Бога крепила падающие силы патриарха. Он неустанно искал, как поддержать царя, ибо не видел никого более достойного престола, нежели он, несчастный самодержец всея Руси. Никогда, даже в татарское лихолетье, не чинили вороги такой обиды отечеству, как ныне.