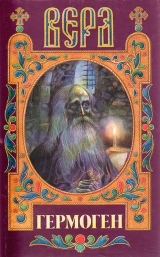
Текст книги "Гермоген"
Автор книги: Борис Мокин
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 34 страниц)
20
Вернувшись в Кремль и поговорив с боярами, Гермоген увидел общее смятение. От поддержки царя уклонились даже самые близкие ему: князья Воротынский и Андрей Голицын, дворянин Измайлов. Мстиславский и Салтыков спешно созывали думу Боярскую. Явно для дела крамольного. Возле царских палат и собора толпился народ. Послышался громкий наглый голос:
– Василия с престола будут скидывать!
Гермоген нашёл Мстиславского, прямо спросил:
– Зачем Думу сбираете? Ежели судьбу царства водите решать, то надобно созвать Священный собор.
Мстиславский, казалось, хотел избежать ответа, отвёл в сторону большие бараньи глаза. Можно было догадаться, что в них копилось что-то недоброе. Помолчав, сказал:
– Ты, святой отец, в государские дела не мешайся! Ты церковь пасёшь. Вот и блюди её.
– Вижу, боярин, твою неправду.
Но тут подошёл боярин Салтыков и не дал договорить. Уставил на Гермогена свои бельмы, сказал как отрубил:
– Ты, Гермоген, отстань от Василия! Либо и тебя скрутим!
Гермоген пошёл в патриаршие палаты, велел соборным старцам созвать Священный собор. Тем временем спешно созванная дума Боярская, презрев робкие одиночные возражения бояр, приговорила:
1. Бить челом Василию, да оставит царство и да возьмёт себе в удел Нижний Новгород.
2. Уже никогда не возвращать ему престола, но блюсти жизнь его, царицы, братьев Василиевых.
3. Целовать крест миром в неизменной верности к церкви и государству для истребления их злодеев, ляхов и Лжедимитрия.
4. Всею землёю выбрать в цари, кого Бог даст, а между тем управлять ею боярам, князю Мстиславскому с товарищами, коих власть и суд будут священны.
5. В сей Думе верховной не сидеть Шуйским, ни князю Дмитрию, ни князю Ивану.
6. Всем забыть вражду личную, месть и злобу. Всем помнить только Бога и Россию.
Это хитро составленное решение Думы было рассчитано на доверчивых простаков. Слова «блюсти жизнь его (Василия)» живо напоминали наказ Бориса Годунова убийцам царевича Димитрия: «Блюдите царевича!» Слова об истреблении ляхов были ложью, ибо вдохновители заговора Мстиславские—Салтыковы со товарищами давно прямили польскому королю. Эти люди и не думали помнить Бога и Россию. В одном они были искренни: в решении никогда не возвращать престола Шуйским, имевшим действительное право на престол, прямым потомкам Александра Невского.
* * *
...Был жаркий день, какой бывает в середине лета. 17 июля 1610 года. Василий находился в своём дворце и был в полном царском облачении: барма, шапка Мономаха. Он не верил разумному решению Думы, догадывался, что мятежники не оставят его в покое, и был готов встретить опасность. Давно утвердился в решении, что ежели ему суждена скорая смерть, то лучше умереть венценосцем. На память пришли слова из Писания: «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия в день оный...»
А пока его должны судить бояре, которые готовы предать Россию Сигизмунду. Бедная Россия! Спаси её, Господи, не дай ввергнуть в новую пучину бедствий!
Из окна Василию видно, как на Красное крыльцо подымается князь Иван Воротынский, за ним низенький, толстенький Иван Салтыков и высокий, со здоровенными кулачищами Захар Ляпунов. Оба смеялись, о чём-то разговаривая. Более всего поразило Василия, что идут они вместе: его свояк и ближник, почитавшийся другом, и его давний ненавистник, звероподобный Ляпунов. Явно, что сошлись не для доброго дела. Воротынский замедляет шаг, голову опустил. И припомнилось Василию из Писания: «Бывает друг в нужное для него время и не останется с тобою в день скорби твоей. И бывает друг, который превращается во врага».
Опередив медлительного Воротынского, Ляпунов остановился перед Василием:
– Да он никак при шапке Мономаха!
– Захар! – остановил его Воротынский, ибо именно ему поручено было довести до Василия решение Думы…
Но Ляпунова, если он решил действовать, и сам чёрт не мог бы остановить, но тон он сбавил:
– Василий Иоаннович! Ты не умел царствовать. Отдай же венец и скипетр!
Он протянул к скипетру свою мохнатую огромную лапу.
Шуйский поднялся и, держась одной рукой за скипетр, другою выхватил нож:
– Как ты смеешь!
Захар отскочил в сторону и, грозя кулаком, выкрикнул:
– Долго ли за тебя будет литься кровь христианская!
Но, видя, что Василий не испугался, и не зная, как к нему подступиться (ещё ударит ножом!), Захар угрожающе крикнул:
– Не тронь меня! Вот как возьму тебя в руки, так и сомну всего!
Василий молчал. Вид его был грозен. Послы тихонько совещались между собой, и чувствовалось, что не разделяли горячки Ляпунова.
– Пойдём прочь отсюда! – закричал Иван Салтыков. – На просторное место выйдем, станем сзывать народ.
Но Лобное место, куда сошлись люди, не вмещало всех желающих. Многие кричали в лицо Ляпунову, Хомутову, Ивану Салтыкову и прочим крамольникам:
– Похваляетесь, что свели с престола нашего царя... А где тушинский царик? Не его ли чаете на престол посадить?
Толпа устремилась к Данилову монастырю, куда должны были прийти посланцы «Тушинского вора», клятвенно обещавшие добросовестный размен. Там их ожидали князья Сицкий, Черкасский с многочисленной свитой.
– Достопочтенные князья! – громогласно обратился к ним Захар Ляпунов. – Решением думы Боярской царь Василий сведён с престола. Мы явились сюда принять из ваших рук связанного Лжедимитрия согласно нашему уговору. Не видим, где же он?
– Хвалим ваше дело: вы свергнули царя беззаконного. Теперь ваш долг служить царю истинному! – насмешливо ответствовал князь Сицкий.
– Ежели вы клятвопреступники, то мы верны в обетах. Умрём за Димитрия! – поддержал его князь Черкасский.
– Да здравствует сын Иоаннов! – раздалось из рядов тушинцев.
Москвитяне пришли в смятение. Они знали, что царь, подчинившись насилию, сидит под арестом в своём боярском доме, а тушинский царик на свободе и не ровен час двинется на Москву.
Смятением москвитян воспользовался Гермоген. На этот раз у Данилова монастыря он был не один, с ним были коломенский и тверской архиепископы и несколько архимандритов.
– Чада мои! Мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога живого и верим в спасительную силу слова и дела царского. Здесь собрались люди, кои пекутся о своём царе, его горестной судьбе по вине крамольников. Ежели кто из вас не печалится о царе, тот отрёкся от веры и хуже неверных... Возлюбленные мои! Не подражайте злу, но добру! Покаемся, и Господь простит нас, отпустит нам грехи нерадения о царе нашем Василии. Поддержите волю лучших людей града нашего и лиц священного сана, дабы советом всей земли вновь возвести Василия на царство!
Раздалось несколько недружных голосов в поддержку. Остальные молчали, боязливо поглядывая в сторону тушинцев и московских крамольников, кои о чём-то переговаривались меж собой и злобно смотрели на Гермогена. Но мятежники сами явно трусили и торопливо обдумывали, как скорее покончить с Шуйским, чтобы его не возвели снова на престол.
21
Напуганные собственной дерзостью, крамольники решили спешно постричь Василия в монахи. В Чудовом монастыре легко было сыскать иноков и священников, наказанных, а после прощённых Гермогеном за винопитие и блуд, за связь с тушинцами. Непомерно милостив был Гермоген и на свою голову прощал. Где грех, там и неправда. Греховодники-иноки стали первыми помощниками Захара Ляпунова в неправедном деле. Они согласились совершить насильственный обряд пострижения над Василием в его собственном боярском доме, где он находился под стражей. Туда вместе с иноками и Захаром явились и князья-крамольники Засекин, Туренин, Тюфякин.
– Василий! Готовься к пострижению! – объявил Захар склонённому в этот час над письменным столом хозяину.
– Слава мирская не принесла счастья ни тебе, ни людям. А слава Небесная и летам твоим преклонным более личит, – добавил князь Туренин, похожий на дьячка.
Василий оглядел вошедших, усмехнулся при виде стражников, произнёс:
– Монахом не буду! Лучше умру, но венценосцем!
Вперёд выступил князь Засекин:
– В таких сединах многолетних ты ничего не сделал для державы. Благослови же ныне Богом дарованный покой.
– Не тебе, крамольнику, говорить о Боге! То кощунство и суета бесовская!
– Покорись, Василий! – примиряюще произнёс князь Тюфякин.
Между тем боярская палата наполнилась людьми. Многие роптали при виде стражников, и по лицам видно было, что жалели несчастного царя. Были среди них и знакомые Василию люди. Он переводил взгляд с одного на другого. Тихо и ласково произнёс:
– Вы некогда любили меня... Называли царём правды, избавителем от проклятого еретика. Когда я победил Болотникова, вы величали меня спасителем отечества... За что же ныне возненавидели?! За казнь ли Отрепьева и клевретов его? Я хотел добра вам и России. Наказывал единственно злодеев. И кого не миловал?
Слушая трогательную речь, многие опустили голову. Раздались всхлипывания. И вдруг послышался рык поначалу онемевшего от неожиданности Захара. Он повелительно глянул на иноков, и те начали читать молитвы, другие совершали обряд пострижения. Туренин и Тюфякин подсказывали Василию слова монашеских обетов, но Василий безмолвствовал, и слова обета произносил Туренин.
Обряд священный совершался как насилие безбожное. И никто из присутствовавших не воспротивился этому безбожию. И многие, оправдывая себя, думали: «Видно, не зря взял такую силу Захар. Вон и князья с ним. И стражу позвали...» Увы, толпа и есть толпа. Успех или неудача много значат для неё.
...Один лишь Гермоген упорно стоял за неправедно сверженного венценосца. Он один называл его помазанником Божьим, молился за него в храмах и говорил, что Господь накажет Россию за великий грех безбожного свержения царя Василия.
Узнав накануне о пострижении Василия (это было неправедно скрыто от патриарха), Гермоген всю ночь молился. Никогда прежде не вкладывал он в слова молитвы столько страдания и надежды. Он обдумывал, что скажет завтра на литургии в Успенском соборе. Мысль о царе-мученике, о несчастной России лишала его сна.
В тот день собор не мог вместить всех желающих присутствовать на литургии. Стояли кучками и на паперти, и на Соборной площади. Дни были тревожные. К Москве подступал тушинский царик, с запада шёл гетман. Что-то скажет людям святейший? Москвитяне знали его прямой смелый нрав и его красноречие. Знали и то, как болезновал он о свергнутом царе, и сами были в душе смущены.
Гермоген был в полном патриаршем облачении. На саккосе изображение Казанской Богоматери, особо им чтимой. Она, Пресвятая госпожа, была всегда в его сердце, неизменно была с ним, когда он служил литургию. И хотя эта служба брала много сил, он любил её за трагическое величие, за спасительную силу поклонения мукам Иисуса Христа. Он знал, почему так много сегодня стеклось народу. Они хотят услышать о муках и бедах России, своих бедах и своей судьбе.
– Отчего Россия в смятении? Отчего безначалие? В Писании сказано: «Посели в доме твоём чужого, и он расстроит тебя смутами и сделает тебя чужим для других». Мы сами дали волю крамольникам и ляхам. Мы сами свели с престола достойнейшего из царей. Мы сделались чужими для помазанника Божья. Ни один из царей не был столь достоин престола, как Василий, явивший величие и твёрдость в дни горестных испытаний! Не ему ли Россия обязана освобождением от первого самозванца и не изменники ли поселили в нашем доме второго самозванца и ныне служат ему! И не ему ли, прямому потомку Александра Невского, обязана держава избавлением от банд Болотникова! Он был царём правды, одинаково справедливым для всех. Превыше всего для него были Бог и отечество. А храбростью на поле брани он превосходил прежних государей. Да будь же здрав во веки, царь Василий, сведённый с престола злой изменой!
Голос Гермогена гремел, казалось, он Пробивал стены. Но никогда прежде не ощущал Гермоген так сильно чужого злого присутствия в соборе. Лицо холодило ледяное дыхание ветра, плечи стягивало обручем. Эк разыгралось злобесие!
Таково же было забытое Гермогеном ощущение, когда в казанскую церковь Преображения во время службы явились опричники, а нехристи, по обыкновению, приводят с собой и злых духов. Было при нём такое однажды и в церкви Воздвижения. Но чтобы привести с собой нечисть в Успенский собор, где лежали мощи святых Петра и Алексея, такого от века не было.
– Чада мои! Как допустили свершиться сему? Кому поверили? Захару Ляпунову, крамольнику, вору, наказанному кнутом? Он для того и свёл с престола царя Василия, чтобы посадить тушинского самозванца!
В соборе наступила такая глубокая тишина, что даже дыхания не было слышно. Может быть, люди почувствовали пророческую силу слов патриарха, и пророчество их ужаснуло... (Ближайшее время действительно обнаружит тайные хлопоты Захара впустить самозванца в Москву).
Неожиданно раздался резкий грубый голос:
– Василий сведён с престола по челобитью всей Русской земли!
– Не было такого челобитья! – гневно возразил Гермоген. – Царя Василия свела с престола злая измена.
– Василий ныне инок. И что о том тужить! – упорствовал голос.
– Царь не произносил монашеских обетов. Над ним свершилось безбожное насилие. И егда владыка мой Христос укрепит меня на престоле владычества моего, совлеку царя Василия от риз и от иночества освобожу его...
– Князь Туренин произносил за него обеты, вот князя и надобно запереть в келью, – сказал в поддержку Гермогена кто-то из посадских.
Но грубый голос не унимался:
– Гермоген! Ежели не отстанешь от Василия, то и тебя скрутим!
Люди стали оглядываться на голос, начался ропот:
– Изыди, сатана!
– Гоните его из собора!
Все крестились. Началось какое-то движение, из собора вывалилась кучка наглых людей.
Многие устремились к Гермогену, прося благословения.
22
В Москве не знали, кого более опасаться: злодеев тушинских или собственных. Умы были поражены насилием над царём. Всюду толковали о дурных пророчествах. В этой обстановке бессилия и страха, когда грабили и убивали среди бела дня, людям легко было внушить мысль, что ныне некому державствовать в России и надо позвать царя со стороны. Искали же некогда новгородцы себе князя в земле Варяжской. Вот и ныне почему не послушаться совета Мстиславского и Салтыкова – довериться Сигизмунду и вручить скипетр Российской державы сыну его Владиславу? Или гетман Жолкевский, действующий именем Сигизмунда, не друг нам? Или не обещал он нам избавить Москву от злодеев и не заключил с нами договор о целости веры и государства!
Но многим ожидание помощи от ляхов казалось постыдной слабостью, и ляхов страшились не меньше, чем злодеев. В памяти ещё были живы дни короткого царствования Гришки Отрепьева, когда ляхи надругались над верой и выгоняли из домов даже бояр и купцов, присваивали себе земли и поместья.
Зная о мятежных настроениях москвитян, бояре-крамольники и ляхи насильно вывезли царя Василия в отдалённый монастырь. Тогда Гермоген начал уговаривать народ избрать в цари либо князя Василия Голицына (хоть и не лежала душа к этому крамольнику и беглецу с поля брани, да всё ж православный человек, и в делах ловок, и рода знатного), либо юного сына Филарета Романова – Михаила. Только бы не воцарились в Москве ляхи.
Гермоген искал и не находил поддержку своим замыслам среди дворян, купцов, посадских людей, но особенно среди духовенства. В тот день он пошёл к Филарету Романову для важной беседы. Романовы жили в своём боярском доме, на Варварке, в стороне от густонаселённого, шумного Кремля. Среди бояр Филарет держался особняком. Кое-кто ставил ему в вину, что сан митрополита он получил при первом самозванце, а второй самозванец пожаловал ему сан патриарха (при живом-то патриархе Гермогене!). Но Гермоген не видел в том вины Филарета, а соболезновал его горькой судьбе. Осуждать легко. Как было нести тяжкую опалу, что без вины выпала на долю Романовых? Семью и братьев Никитичей разбросали по разным отдалённым местам. Его, Филарета, постригли, что спасло ему жизнь, а прочих сгубили. Все братья, кроме калеки Ивана, умерли мучительной смертью. Его любимого младшего брата Михаила, красавца и богатыря, сослали на далёкий север, в Ныробск, кинули в яму и уморили голодной смертью. И если эти беды не сломили Филарета, значит, сам Господь уберёг его. Гермоген уповал на него как на верного помощника в бедах нынешних. Ростовская епархия, где он был митрополитом, – вторая по важности после Москвы.
Встретила Гермогена супруга Филарета Аксинья Ивановна, ныне инокиня Марфа. Низкорослая, с суровой приглядкой, она замерла возле порога, как бы не желая пропустить гостя далее. Гермоген мгновенно уловил и её настроение, и сходство с родным дядькой – Михайлой Глебовичем Салтыковым. Истая Салтычиха. Гермоген хотел спросить, дома ли Филарет, но тут выскочил из соседней комнаты чернявый большеглазый подросток Мишатка, неуверенно глянул на мать, потом на гостя. Гермоген отметил про себя, что мальчик не в салтыковскую породу пошёл, а в романовскую. Аксинья Ивановна перехватила взгляд Гермогена, насупилась. Ей были ведомы разговоры патриарха, прочившего на престол сына её Михаила, и она кипела гневом. На кой оно – царство! Животы бы свои спасти... Да и знала о замыслах дяди видеть на русском престоле польского Сигизмунда. А Михайла Глебыч свои затеи доводит до конца.
Узнав, что Филарета дома нет, Гермоген не воспользовался вынужденной любезностью хозяйки, не прошёл в горницу, но, благословив Аксинью Ивановну и сына её, вышел во двор. Он понял, чего опасалась Аксинья Ивановна, и знал, что с Филаретом о том беседовать не станет. Было много иного, о чём надо с ним потолковать. И первым делом отговорить народ, чтобы не присягали царю-иноверцу. Да как это сделать? В России началось правление «семибоярщины», то есть коротенькой Боярской думы из семи человек: Ф. И. Мстиславский, И. М. Воротынский, А. В. Трубецкой, А. В. Голицын, И. Н. Романов, Ф. И. Шереметев, Б. М. Лыков. Предположительно входил туда (восьмым) и Василий Голицын.
Никакого добра от этого правления народ не видел. Говорили: «Лучше грозный царь, чем «семибоярщина». Саму Думу иронически называли «седьмичные бояре». Беспорядков в Москве да и по всей державе стало больше, а защищать было некому. Да и сами «седьмичные бояре» склонялись к установлению в России польского господства. Калека Иван Романов на днях выговаривал Гермогену за то, что он мешается в дела державные, говорил, что надо позвать в Москву гетмана, дабы унял беспорядки.
Гермоген понимал, что надо противопоставить голосу Ивана Романова, имевшего силу в Думе, мнение его брата Филарета. Встретились они случайно, возле Успенского собора. Время в Кремле было тихое. Весь народ был на площади, где шёл спор, призывать или не призывать польского короля. Филарет тоже казался озабоченным. Клобук и новая мантия с изображением на ней святых угодников придавала ему величественный вид. Красивые черты породистого лица. Мать его была из рода древних князей суздальских, одной крови с Шуйскими. Испытания наложили на его лицо печать суровой замкнутости. Поклонившись патриарху, он всё с тем же холодным достоинством продолжал свой путь.
– Филарет, что идёшь и не печалишься? Не ищешь беседы с патриархом? – спросил Гермоген, в свойственной ему простонародной манере вступая в беседу.
Филарет остановился, внимательно посмотрел на патриарха.
– Как не печаловаться, владыка? Да что велишь делать?
– Али не ведаешь, о чём шумят ныне скверные кровопролитники? Им польский король надобен. Им смута – мать родная... Чаю Божьего вспоможения я от тебя, Филарет, тщания и дерзания на мятежников, да перестанут бунтовать народ... Слышишь, как шумят у Лобного места? Там и крамольники священного чина, что прельстились вместе с мирянами... Твоё увещание будет иметь силу. Народ чтит тебя за великие страдания...
Так они вместе вышли на площадь. И немало дивились тому люди, видя рядом патриарха, избранного освящённым собором, и рядом наречённого тушинцами патриарха Филарета. Однако мантия митрополита на Филарете подкусывала языки лукавцам. Вот он поднялся на Лобное место, и враз наступила тишина.
– Чада мои! Христиане православные! Болезную вместе с вами: вы прельстились лукавыми речами!.. Послушайте совета многострадального иерарха: не прельщайтесь! Мне самому доподлинно известно королевское злое умышление над Московским государством. Он хочет завладеть нами вместе с сыном своим и нашу истинную христианскую веру разорить, а свою латинскую утвердить...
Тотчас же послышались насмешливые возражения:
– Ты, митрополит, один думал али с кем ещё?
– Не мешайся в наши дела, Филарет! Ты пасёшь церковь, а не государство!
– Филарет, ты не своему ли сыну норовишь?
И ни одного голоса в поддержку. Филарет не стал убеждать толпу и тотчас удалился, о чём Гермоген очень сожалел. Он знал, что многие охуждали гордый и строгий вид Филарета и то, что он никому и ни в чём не потворствовал. Сам Гермоген видел в нём сильного и гордого человека, привыкшего полагаться только на себя, очень самолюбивого и склонного к некоторому самомнению. Таков был уж этот характер, сложившийся в сопротивлении тяжёлым обстоятельствам жизни.
Но людям нет дела до натуры своего ближнего, и всяк подводит чужие поступки под самого себя. Отсюда и кривосудие, и упорство в заблуждениях, и неумение различать добро и зло. Не на этом ли строятся и произрастают и тайные ухищрения врагов государства?








