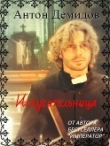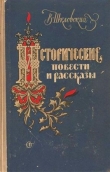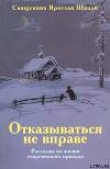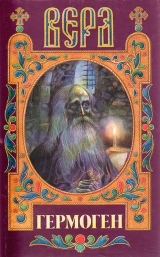
Текст книги "Гермоген"
Автор книги: Борис Мокин
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 34 страниц)
Для митрополита Алексия то был случай оказать великую услугу своей родине, ибо многое в то время зависело от милости хана. Отслужив молебен у мощей святого Петра, святитель увидел, как у гроба чудотворца сама собой зажглась свеча. Видя в том добрый знак, Алексий с остатком свечи и освящённой водой отправился в Орду.
Дальнейшие события развивались в ханском дворце. С зажжённым огарком свечи в руке и с чашей, в коей была освящённая вода, святитель приблизился к ложу Тайдуллы, усердно помолился над ней, окропил её святой водой. Хан и его близкие стояли возле, ожидая чуда. И чудо свершилось. Тайдулла медленно прозревала на глазах присутствующих. Святителя Алексия с великой честью отпустили в Москву. В память исцеления Тайдуллы был заложен Чудов монастырь и основан город Тула.
С той поры минуло двести сорок лет. Раку святого Алексия перенесли в Успенский собор (до того прах его покоился в Чудовом монастыре, в гробнице, им самим устроенной). Прикладываясь к мощам святого, больные и увечные получали чудесное исцеление. Патриарх Иов благовестил об этом на каждой литургии. Слава о спасительной силе святого разнеслась по окраинам России. Церковь понимала, что эта слава крепила державу. Время было тревожное. Не утихавшие слухи об убийстве царевича Димитрия и разговоры о том, что у Феодора нет наследников и пресекается корень царский, вызывали смуту в умах людей. Возникала опасность отторжения окраин от русской державы.
И может быть, лучше других понимал это Гермоген, связавший свою судьбу с Казанским краем, недавно присоединённым к России. Он видел, как чутко внимали враги православия мятежным голосам инородцев, как недавно принявшие православие возвращались в мусульманство. В то время он один из первых на Руси понял, сколь велика чудодейственная сила святых мощей в укреплении державы. И в канун 1595 года он отправился в Москву за мощами святого Германа, некогда известного в Казанском крае архимандрита. То был человек воистину героического и святого жития. Родился он в семье бояр Полевых, проживавших в Старице, недалеко от Твери. Постриженник Волоколамского монастыря, он приехал в Казанский край, где много занимался просвещением, будучи настоятелем Свияжского монастыря. Иван Грозный, умевший ценить святость и подвижничество до тех пор, пока они не мешали его деспотическому своевластию, хотел поставить Германа митрополитом на Москве на место скончавшегося Афанасия. Но святитель Герман начал обличать опричнину и скоро был подвержен опале разгневанным царём. Изгнанный из дворца, он доживал свои дни в Чудовом монастыре, где и скончался.
Мощи двоих других святых – архиепископа Гурия и архимандрита Варсонофия – почивали в Свято-Преображенском монастыре. Слух о том, что мощи лежат нетленными и от них исходит благовоние, мигом облетел всю Казань. Людей поразило, что нетленными были и мощи учеников Варсонофия – Ионы и Нектария, найденные в одном гробу с Варсонофием. Нетленными были обретены и мощи святого Гурия.
В те дни Казань была переполнена людьми. Съехались отовсюду – из казанских посадов и сел, из вятских пределов. Рассказывали, что тогда даже разбои на дорогах прекратились. Видимо, и сами воровские люди приезжали в Казань, чтобы приложиться к мощам. Церкви во время службы были переполнены народом. Попы едва успевали совершать обряды крещения.
Такого поклонения святой вере ещё не знала Казанская земля.
Мудрые люди давно объяснили преклонение перед святостью даже у великих грешников неодолимым стремлением к чистоте, извечно заложенным в человеке. Казанские события убеждают в этом.
Но отчего же на Руси было так много святых? Именно на Руси, за что и называли её святою Русью. Помимо известных святых, канонизированных после смерти, в России было много людей, почитавшихся святыми в миру (схимники, юродивые либо те, кого называли «не от мира сего»). Они и другие много сделали для утверждения в жизни милосердия и добра.
Источник столь прижившейся в России святости следует искать в судьбе России, мужественной и многотерпеливой. Ни одна страна не перенесла столько войн, сколько Россия, ни одна страна не знала, что такое трёхсотлетнее татарское иго. Ни одна страна не была таким вожделенным предметом зависти, ибо по природным ресурсам и географическому положению была богатейшей страной. Ни в одной стране союз внешних и внутренних врагов не порождал столько малых и больших смут, как в России. Можно сказать, что святость народная выковывалась в горниле мужества и терпения.
Судьба святого Гермогена – одна из немногих в славной летописи России. Перед тем как совершить подвиг гражданского мужества и святости, он был обычным грешным человеком. Став к описываемому здесь времени митрополитом, он оставался всё тем же Ермолаем, сохранил многие свои природные черты. В Вятском краю у него жила дочь-невеста, и встреча с ней воскресила в его душе прежние забытые воспоминания и дала редкие в его жизни минуты счастья. Редкие ещё и потому, что он почти не видел своей дочери. Став владыкой над всею епархией, он и помыслить не мог о досуге и отдыхе. В прежние годы дочь приезжала в Казань вместе с родными. Но последнее время вятские дороги стали особенно опасными. Воровские люди, прижившиеся в этих местах после взятия Грозным Казани (прижились они после того, как истребили многих вятичей и выжгли их сёла), занимались разбоем. После убийства царевича Димитрия и слухов об отпадении окраин от России воровские шайки сплачивались в грозные военные отряды, облагали местных жителей данью, грабили на дорогах.
Получив приглашение на свадьбу дочери, Гермоген тут же стал собираться в путь, отложив все дела. Он облачился в простую мантию, какую митрополиты носили до установления в России патриаршества, без саккоса и клобука и, послав впереди себя иноков, особо просил, чтобы местное священство не устраивало ему торжественной встречи.
14
Забившись в глубину возка, Гермоген смотрел на мелькавшие мимо деревья, версты и редкие дома. И как в былые казацкие годы, ему казалось, что это не кони несли его вперёд, а неведомая счастливая сила. Он слегка улыбался своим воспоминаниям. И было удивительное чувство лёгкости, точно дорога взяла на свои плечи всё его бремя, все заботы. К душе подступало ласковое тепло при мысли, что скоро он увидит дочь. Он назвал её Анастасией в честь первой супруги Ивана Грозного, добрая память о которой долго жила в народе.
А тем временем в Вятском посаде обряжали невесту. Свахи расчёсывали ей косу, а после укручивали, обряжали в свадебный наряд. На ней было платье из тонкого полотна, отделанное красной тафтой и шитое золотом и серебром. Кокошник обтянут красным шёлком и вышит жемчугом, а поверх кокошника покров с вышитым на нём крестом.
Подружья и дружки следили за дорогой. И как только показался на дороге возок, стали на большом столе выставлять гостинцы невесте. На блюдо клали нарезанный хлеб, а на малых тарелках сыр, а сверх того хлеба и сыра укладывали богатые ширинки (платки, полотенца), расшитые серебром да золотом, а на тех ширинках – подарки всякие были положены: материи и деньги.
Когда в двери показался Гермоген, Анастасия не соблюла невестиного обычая, не поклонилась гостям малым поклоном, а кинулась навстречу отцу, упала на грудь и заплакала. Наступило некоторое смятение. Но тут вошли монахи, поставили на стол отцовские подарки – коробья с полотнищами разными да шалями, особо деньги и шкатулка с богатым перстнем для жениха и яхонтовыми серёжками для дочери. Тут они оба – жених и невеста – поклонились отцу и владыке низким поклоном. Он же благословил их иконой, которую привёз с собой. Это был Спас в золотом окладе, украшенный дорогими камнями. Икона была подарена ему святым Варсонофием, и Гермоген не вдруг решил с ней расстаться, дорожа памятью высокочтимого им архимандрита, своего наставника и покровителя. Но накануне ему приснился сон, будто дочь его находится в яме, а сверху проникает свет, и будто свет идёт от его иконы, и дочь видит икону и молится перед ней. И вдруг неведомая сила подымает её из ямы к свету.
Гермоген проснулся в смятении и понял этот сон, как волю неба: он должен благословить дочь иконой и оставить эту икону у неё.
Понемногу просторная клеть наполнилась людьми, и всяк принёс подарки. Вятские посады издавна славились раскрашенными изделиями из глины (и на многие века останется знаменитой вятская игрушка). То был древний промысел, видимо ещё с языческих времён, судя по изготовлению всякого рода божков, чудищ. Тут были и леший, и чёртики, и русалки. Были и матроны в киках (предшественницы матрёшек).
И все клали свои подарки на большой стол.
После венчания в церкви и праздничного застолья началось настоящее веселье. Во дворе уже играли в бубны, свирели, свистульки. И в лад музыке вперёд выскакивали певцы и плясуны. Предпочтение отдавалось частушке. Её легче было спеть, ей весело смеялись.
Ты милая – я милой.
Ты слепая – я кривой.
Посмотрите-ко на нас:
У обоих один глаз.
Певцу поднесли чару – знак признания, и он начал петь припевку за припевкой:
У меня милашка Машка,
За рекой она жила,
Захотела повидаться —
В решете переплыла.
И следом без передышки другую, третью:
Эх, милая моя, чем обидел я тебя?
Я купил тебе платок,
Сам остался без порток.
...Хорошо тебе смеяться,
Тебя мамка родила,
А меня родил папаша,
Мамка в городе была.
Гермоген стоял на крылечке вместе с дочерью, и оба весело смеялись. И в эту минуту они были так похожи друг на друга, что сватья, глядя на них, сказала:
– Ну, ты, Настасья, крошечки отцовской подобрала... Счастливая будешь.
И в самом деле, у дочери те же, что у отца, полные губы и густые чёрные брови, большие, широко поставленные глаза. И росту высокого, и такая же горделивая стать.
Но что это такое? Сначала подумали, что во двор силой, самоволом открыв ворота, вошла толпа скоморохов. В вятских местах скоморохи не в диковинку. Раскрашенные, в истрёпанном, но благородном платье, они ходили толпами и по двое-трое. Но эти больше походили на разбойников, чем на скоморохов. Движения резкие, чуть отрывистые. Среди них выделялся высокий пожилой чёрный мужик с седыми кудрями и с проседью в густой бороде. Он не был раскрашен. На нём был богатый кафтан, рука на перевязи. Глядел сумрачно. Остальные сбивались ближе к нему и смотрели, словно ожидая его приказаний. Он только брови сдвинул, как на середину двора вошли скоморохи и развернули бумажные свитки, прикреплённые к шестам. Все невольно стали вглядываться, что изображено на этих свитках. Главный скоморох начал свою роль:
– Вот извольте видеть, люд Божий, покрытый рогожей... За один грош покажу вам что хошь... Вот Москва горит... Слышали, чай, про пожар московский, про то, как всё выгорело... Что осталось – всё наше: два двора, три кола, пять ворот да погорельцам отворот...
Скоморох подошёл ко второму свитку:
– А вот, извольте видеть, Успенский собор в Москве стоит. Нищие на паперти поют, как на клиросе клирошане. Да мало кто грошик даст. Тут своих людишек в шею бьют, а чужих зазывают да чины обещают... А это, извольте видеть, Бориско на своём дворе руками махает, ханские тучи на Москву нагоняет, воевод с ханом сражаться посылает, дабы люди были заняты войной и не замечали его бесовских проделок...
Скоморох внимательно следил за лицами собравшихся, проверяя впечатление, но видно было, что люди не догадываются, о каких «ханских тучах» идёт речь и что это за «бесовские проделки» у какого-то Бориски. Но когда взгляды скомороха встречались со взглядами Гермогена, в воздухе словно бы веяло чём-то тревожным. Скоморох был, однако, невозмутим. Вот он приблизился к третьему свитку, на котором была изображена смерть с косой и рядом какой-то человечек в богатом кафтане.
– А теперь извольте послушать, люд Божий, о чём рече смерть.
Смерть: Ах ты, Бориско, погибшая душа! Готовься ныне предстать пред Богом!
Бориско: Смерть моя дорогая, что так рано по мене пришла? Или не ведомо тебе приближение моего царства? Не грози мне косой, мне назначено поцарювать на сём свете...
Смерть: Ах ты, ирод, проклятая душа! Тебе прямая дорога – не на царство, а в пекло!
Бориско: Пошла прочь, косая! Не тебе решать мою судьбу. Нашла чем пугать! Я и на пекло соглашусь, токмо бы поцарювать хотя бы семь денёчков!
Неожиданно к скомороху приблизился пристав и грозно спросил:
– Ты, скоморох, про какого Бориску туг врёшь? И кто станет домогаться царства при живом царе? Ныне у нас царствует природный царь Феодор Иоаннович, дай Бог ему здоровья!
– У скоморохов правды не спрашивают. И сами приставы при случае ус покручивают...
Дерзкий ответ скомороха окончательно вывел пристава из себя.
– Скрутить ему руки да отвести куда следует! – приказал он.
Но тут к приставу приблизился монашек и что-то сказал ему. Пристав пришёл в некоторое замешательство, потом приблизился к Гермогену, поклонился ему:
– Как изволит владыка сотворить. А по мне так всех скоморохов надо к пытке подвести да хорошенько дознаться, что они тут намалевали, – честной народ смущать да прельщать...
15
Гермоген был немало встревожен усердием пристава. В скоморохе он узнал Горобца. И первым его порывом было выручить из беды человека, который едва не погубил его в те далёкие годы, когда они вместе казаковали. Гермоген давно всё простил и понял это, когда они встретились в монастыре. Горобец хотя и держался тогда с прежней выправкой и в душе его ещё кипело зло, но уже чувствовалось, что это был несчастный, сломленный человек. Видимо, уже в ту пору в нём просыпались угрызения совести. Иначе чем объяснить резкую перемену в его судьбе? У воеводы Башкина он был в почёте. Значит, невмоготу стало Горобцу низкое прислужничество перед жалким трусливым выскочкой, каким был этот Башкин. Что-то сломалось в душе старого казака. У него и лицо другое, и повадки разбойничьи. Прежде он бывал нагло-грубым только со слабыми, а ныне ему и сам чёрт не брат. И дивиться ли тому, что верный раб Ивана Грозного стал поносителем его самого близкого боярина – Бориса Годунова? Или не ведал, что ему за это грозит? Вот теперь и думай, как спасти его от тюрьмы и доноса в Москву. Помилует ли Борис Годунов скомороха за «Бориску-ирода»?
Гермоген дожидался прихода своего бывшего атамана в светлой горенке-боковухе, где должен был провести ночь перед дорогой. В оконца било завечеревшее солнце. И когда в горницу вошёл Горобец, низко пригибаясь под притолокой, его седые кудри отливали розовым светом и смуглое до черноты лицо казалось помолодевшим. Гермоген указал глазами на табуретку возле стола. Горобец сел с видом небрежным, хотя и строгим.
– На что позвал мене, Ермолай?
– Думал ослобонить тебя от пристава да от тюрьмы...
– Это нам не привыкать...
– Пошто наладился вести жизнь бродяжую?
– Другой жизни не сподобился...
– Что так?
– Когда помер царь Иван, воеводы стали небрегать нами. В каждой дырке затычкой стал...
– Пошто не пришёл ко мне? Такому молодцу да не сыскать подходящей службы!..
– Не... Я пошёл в стрельцы. Да дело не заладилось... – Горобец махнул рукой.
– Ты знал про свадьбу дочери и что я буду у неё? – вдруг спросил Гермоген.
В глазах Горобца мелькнуло шельмоватое выражение.
– Вижу: знал. А зачем скоморошьи малюванки сюда привёз?
– Ты, владыка, колись о правде гуторил. Что ж, ныне правда тебе не по нраву пришлась?
– Помню. Я говорил тебе, что правда – дело Божье. Под силу ли человеку постичь промысел Божий? Дивны мне и речи твои про Годунова, как будто он поцарствовать хочет хотя бы и семь дней...
Горобец усмехнулся:
– Только слепой не видит, что Бориско готовит себе царство.
– Царство устроевает Бог, и на Руси исконно правили природные цари.
– Что было, про то люди знают, а что станет потом – узнаем... Ты бы послушал, владыко, юродивых... Есть в здешних краях один Божий человек. Сказывал людям под самую Пасху: «Бориско своё гнездо высоко устроевает. Да Царь Небесный свергнет его с высоты и гнездо его разорит...»
– Спаси нас, Господь, от разора и брани!
Гермоген перекрестился. Горобец снова усмехнулся:
– Уж чего доброго, а разору да брани будет довольно. Северская земля, слышь, давно уже покоя не знает... – И вдруг он резко обернулся к Гермогену: – Вы пошто в обиду даёте северских братьев? Пошто Бориска теснит их поборами, а католики разоряют православные церкви?!
Гермоген не сразу нашёлся, что ответить. Он знал, что, будучи главным управителем при царе Феодоре, Годунов не жаловал земство, теснил их налогами, давал преимущество сословию военному и что до Москвы доходили слухи о ропоте северских жителей на безбожные поборы и налоги. Но о Западной Церкви разговоры не шли. Да и какие разговоры? Там не столь давно проездом из Москвы был константинопольский патриарх Иеремия и всё уладил.
– Ты про какие гонения без правды говоришь, Горобец? Или новые обиды чинят православной церкви? Ежели ты говоришь про затею польских панов о разделении Западной Русской Церкви на православную и унитарную, так дело то добром улажено, православные люди отвергли унию...
– Отвергли-то отвергли, да вашему главному попу надлежало дознаться до правды истинной, – ответил Горобец, имея в виду под «главным попом» патриарха Иова.
И Горобец выложил Гермогену с целый короб всяких слухов о делах в Северской земле и в Русской Западной Церкви, и Гермоген чувствовал, что в этих слухах была горькая правда.
В тот же вечер, едва успев поужинать, Гермоген выехал в Москву. Раздоры в Западной Церкви угрожали спокойствию Москвы, миру и благоденствию православных людей. Он вспомнил тревожные сетования одного иерея о том, что в русские церкви заходят ксёндзы и пасторы и смущают прихожан странными речами. Навели смуту в западной стороне. Не хотят ли того же и в Москве? Или не знают, что на границе с Северной Украиной нет былого порядка и строгости? Движение через кордон стало свободным. В Стародуб, Севск, Новгород-Северский, Путивль стекаются смутьяны и лихие люди. И кого там только нет: и литва, и немчура, и полячишки... В народе ходят тревожные слухи, что они что-то умышляют. Что же ещё, как не покушение на царство!
О, как ещё задолго до беды бывает догадлива народная наблюдательность! Но, увы, выводы её остаются в небрежении... Гермогену не раз ещё придётся убедиться в этом.
16
Москва жила своей мирной хлебосольной жизнью, верная святоотеческим преданиям и беспечности. И первое время Гермоген готов был усомниться, ладно ли он делает, давая волю тревоге и подозрениям на основе одних только слухов? Столько безмятежного покоя, столько солнца было в Москве, так празднично сияли её золотые купола!
Когда колымага Гермогена въехала в Кремль, звонили к обедне, и звоны были радостными, убаюкивающе мягкими. Гермоген вышел из колымаги и, отправив кучера на монастырское подворье, со знакомым волнующим чувством ощутил под ногами московскую землю... Мать городов русских. Здесь в Кремле решается судьба всей русской державы. Сюда он спешил, охваченный тревогой...
Оставив в стороне Житницкую улицу с её житными рядами, Гермоген направился через Ивановскую площадь к церкви Рождества Пречистой Богородицы. Помолившись перед образом Пречистой Заступницы и поблагодарив её за благополучный приезд, Гермоген чуть отошёл в сторону и очутился рядом с восточным углом обширного боярского двора князя Мстиславского[36]36
Мстиславский Иван Фёдорович (? – 1586) – князь, боярин, член Земской боярской думы. Участвовал в казанских походах и Ливонской войне, был противником Бориса Годунова.
[Закрыть]. И припомнилось ему, как лет двадцать тому назад в нескольких шагах от этого места свершалась беспощадная казнь. Подробности казни Гермоген знал из летописи, хранившейся в библиотеке Чудова монастыря: царь Иван Грозный «казнил в Кремле у Пречистой на площади многих бояр, чудовского архимандрита, протопопа и многих всяких людей. А головы метали под двор Мстиславского».
Как не содрогнуться в душе, представив эту жуткую картину! Но почему чаша сия миновала Мстиславского? И что за урок преподал царь Мстиславскому? И был ли то урок? Известно, что Иоанн больше всего боялся боярской измены. Но известно также, что Мстиславский более других бояр подавал поводы к обвинению в «изменном деле» и всякий раз приносил новую «клятвенную запись» не отъезжать к другому государю. Почему же Мстиславский помилован, а другие, не столь виновные, казнены? Объяснить ли это тем, что Мстиславский был женат на племяннице царя? Нет, с родством Иоанн не считался. Он обрёк на жестокую смерть двоюродного брата Владимира Старицкого и его семью (не пощадил даже младенца-сына), хотя вина его не была доказана. Пострадали и ближайшие родственники царицы Анастасии. А вот Мстиславский, приносивший царю свою «изменную вину», процветал, получал новые чины и поместья. И это после признания в том, что он «навёл на Русскую землю хана» и, значит, был повинен и в том, что вся Москва была сожжена.
То было в 1571 году, а три года спустя произошла жестокая расправа с боярами, среди которых не было, однако, Мстиславского. Но почему же отрубленные боярские головы «метали под двор Мстиславского»? Может быть, в назидание? Но это было бы слишком простое объяснение. В тайных замыслах и «уроках» Грозного чаще всего бывало скрыто коварное изощрённое издевательство над тем, что было ему неугодно.
А неугодна ему в те годы была земщина и её наиболее яркие представители, потомки древних боярских и княжеских родов. Во главе земщины сам царь поставил Мстиславского, человека вполне чуждого её интересам. Мстиславские, потомки Гедиминовичей, были выходцами из Литвы. И видимо, ничто не связывало Мстиславского с Русской землёй, коли он не раз пытался выехать в Литву. Но, значит, Грозному и нужен был такой руководитель земства. Не исключено, что царь сам присутствовал при казни земцев. А «метание голов» было уроком для всех, а не для одного Мстиславского. Царь как бы провозгласил конец земству. Но так как это было делом невозможным, он поставил во главе земства «царя» Симеона Бекбулатовича (крещёного татарина, касимовского хана) сразу после казни земцев. Этим он решил сразу две задачи: поставив над земством такого человека, унизил достоинство бояр и одновременно лишил земство головы, ибо касимовский хан был не более чем потешным царём, которого Грозный вскоре отправил в ссылку. На том и закончился спектакль.
Понимал или не понимал Грозный, что, принижая земство, он ослабляет державу, но смута началась ещё при нём. Дворяне и бояре захватывали чужие угодья, своевольно расширяли свои дворы, об общем деле не радели, на Думе отмалчивались. А непорядков становилось всё боле. Гермоген и прежде слышал от чудовских монахов, что многие именитые люди не бывают на литургии, что в своих дворах принимают подозрительных чужеземцев, что в Кремль стали въезжать на конях лихие люди... Под окнами царского двора выкрикивали непотребные слова. Горобец прав. Порядок и власть ослабели во всей державе. А чужеземные доброхоты и рады тому. Проникают на нашу землю всеми правдами и неправдами, сеют смуту.
Думая об этом, Гермоген пошёл далее к патриаршему дому. Дорога шла мимо Мстиславского двора, одного из самых богатых и обширных в Кремле. Зато и слава о нём – на всю Россию. Говорили, что дом Мстиславского «православием цветёт». Над воротами высится домовая церковь. Сами же ворота вверху и забор увешаны иконами Спаса, Богородицы, святых угодников. Возле каждой иконы молился Гермоген, осеняя себя крестным знаменем.
Между тем с крыльца либо из подклети доносились голоса. Ворота были чуть приотворены. Видимо, только что приняли гостей, судя по радостным живым голосам:
– Челом, друже! Как тебя Бог милует?
– Слава Богу, живы да здоровы. А ты чё вечор не приходил? Аз давно тебя ждал.
– Боярин не пущал. А я тебе новы вести привёз... Братенник мой из Севска приехал. У них там поп литовский людей в папежную веру обращает. Сказывают, тако и в Московии будет.
– То-то мой боярин про новый указ толковал. И на богомолье не схотел ехать. Прежняя-де вера православная оскудевать стала.
– Так пошто папёжная-то вера лучше православной?
– Я не сказал «лучше». И ты до срока остерегайся о том спрашивать... Давай-ка лучше холодного кваску попьём... Эй, Фёдор! Выполощи кружку чисто да принеси квасу!
– Вода нечиста...
– Вылей воду да принеси чиста!..
– А что это твой боярин на богомолье без княгини укатил? Смотрю, в колымагу один садится...
– Ты про каку княгиню спрашиваешь? Княгиня Улиания скончалась...
– Знаю. Так боярин твой али не женился?
– Он бы и женился, да Бориска не велит...
– Видно, правду говорят, что Бориска такую силу взял, что царь без него и шагу ступить не может...