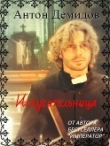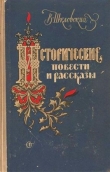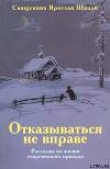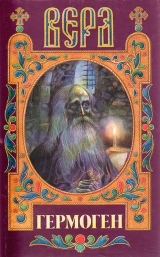
Текст книги "Гермоген"
Автор книги: Борис Мокин
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 34 страниц)
15
Вскоре после смерти Иова случилось событие, породившее в Москве много слухов и толков. Сторожа, караулившие у паперти Архангельского собора, услышали большой шум и плачевные голоса, потом смех и снова плач. И вдруг началось пение псалмов. Не зная, что и подумать, сторожа решили, что один из них пойдёт к архиепископу Арсению. Его келья находилась в Кремле, а в дневное время он бывал при гробах царских в Архангельском соборе. Арсений на этот час бодрствовал и, услышав новость, пошёл к патриарху Гермогену.
Когда Гермоген, велев сторожам оставаться на паперти, вошёл в собор, раздалось псалмопение. Гермоген узнал священнословие 118-го псалма:
Я совершил суд и правду;
Не предай меня гонителям моим.
Заступи раба Твоего, ко благу его,
Чтобы не угнетали меня гордые...
На этом песнопение оборвалось, и началась молитва за упокой души. Голос, творивший молитву, был грубым, толстым и показался Гермогену как будто знакомым. Можно было понять, что доносился он из-за придела, где были похоронены Иван Грозный и два его сына.
– Выходи, казак! Будет тебе пугать сторожей! – строго произнёс Гермоген.
Но голос снова стал творить молитву за упокой.
– Михайла Горобец, я узнал твой голос. Выходи для беседы. Станем говорить напрямик.
– Напрямик у нас не получится, святой отец, – неожиданно просто откликнулся Горобец.
Гермогену показалось, что он наблюдал за ним сквозь отверстие в приделе.
– Зачем тебе надобна смута, Михайла? Против кого крамолишь? Против своей души, против сродников своих, против бедной отчизны. Поверь, болезнует моё сердце о тебе и таких заплутаях, как ты! Богом прошу тебя: отстань от злодеев! Это по их бесовскому наущению ты тайно проник в собор, дабы смутить москвитян дурными предсказаниями.
– Это моя служба, святой отец! И пусть трепещут ваши князья да бояре. – И он пропел ещё один стих из 118-го псалма: – «Князья сидят и сговариваются против меня». – И неожиданно добавил: – А ещё они сговариваются, чтобы сыскать второго самозванца.
– Кто сговаривается?
– Этого я и на пытке не скажу.
– Сыщут нового самозванца. А дале-то что? Повержену быть, яко и первому. Ты бы, Михайла, лучше отечеству послужил.
– Э, нашёл о чём говорить, святой отец! Я свои тридцать сребреников получаю и на службу не жалуюсь.
– Или это служба?
– А чем худа моя служба?
Дверь придела отворилась, и появился Горобец. Гермоген подивился его сходству с вороном. От прежнего атамана остался только горящий взгляд, но уже во всех членах его угадывалась слабость.
– Чем худа моя служба, святой отец? – повторил он гордо свой вопрос. – Я человек вольный и твоему царю не присягал.
– Не ты ли сам сказал, что служишь за тридцать сребреников? А ежели царю не присягал, то какое нашёл в этом добро?
– А такое, что мы люди вольные, меня сам Болотников[50]50
Болотников Иван Исаевич (? – 1608) – предводитель восстания 1606 – 1607 гг., был беглым холопом, бежал из турецкого плена. Его повстанческая армия быстро заняла южные районы России, подошла под Москву, Калугу, Тулу. В октябре 1607г. был сослан в Каргополь, ослеплён и утоплен.
[Закрыть] на службу зовёт. А Болотников – орёл, не твоему царю-шубнику чета.
При этом имени Гермоген зорко и строго посмотрел на Горобца. Имя дерзкого и жестокого атамана стало известно всей России. Сам он называл себя слугою Димитрия, его именем брал целые города и волости, сжигал людей в домах и церквах, вешал, сажал на кол. Говорили, что он был холопом князя Телятевского, попал в плен к туркам, оттуда попал в Венецию. У Гермогена и царя были догадки, что в Россию его заслали иезуиты. Иначе как бы он, холоп, посмел явиться к Марине Мнишковне и Молчанову (убийце Фёдора Годунова)? Было это в Ярославле.
Свыше десяти городов к этому времени стали под знамёна Болотникова. Гермоген вспомнил, что ныне царь с ближайшими боярами и воеводами станут решать, как остановить дальнейшее продвижение опасного злодея. Знает ли царь, что в Москве есть пособники Болотникова? Горобца заставила проговориться ненависть и дерзкая отвага. И сколько же зла успеют сотворить слуги иезуитов, пока царь и бояре думают да гадают, как отвратить опасность! И что он, Гермоген, повинен сделать? Велеть сторожам схватить Горобца? Он их всех перережет. Гермоген отвергал возможность насилия. Горобец – христианин, как и все православные русские люди. Как думать, что он вконец утратил облик Божий?
– Михайла, не отвергай милосердие Господне! Сослужи службу отечеству! Царь наградит тебя. И прими ныне моё благословение на доброе дело!
С этими словами Гермоген приблизился к Горобцу, чтобы благословить его крестом. Горобец резко отпрянул в сторону от патриарха. Гермоген успел заметить, как лицо его перекосило судорогой злобы и страха.
«Испугался моего благословения? Креста испугался?» – подумал Гермоген. И тотчас же в нём ожило отроческое воспоминание, когда он служил в казаках вместе с Горобцом. Ехидный и завистливый Горобец не любил, когда кого-то хвалили за отвагу. И в тот раз он позволил себе поглумиться над Ермаком, о котором шла речь. Благородный воевода Адашев выхватил саблю, чтобы наказать глумника. Горобец мгновенно сделал рывок в сторону и на глазах исчез, словно спасённый неведомой силой.
И в эту минуту Горобец также таинственно исчез, будто провалился сквозь землю. Вместе с его исчезновением погас свет и пропали все звуки. Воистину бес.
Видимо, в соборе был тайный выход, о котором не знали ни патриарх, ни царь, но знали крамольники.
16
По Москве покатились слухи, рождающие многие толки и домыслы. Кто же ещё шумел в соборе и пел плачевные псалмы, как не погребённые там великие князья да цари? Они созидали Московское государство, а ныне оно пришло в горестное состояние. Эти слухи усиливали и без того тревожное состояние умов. Многие увидели в этом происшествии дурное предзнаменование и повторяли один за другим кем-то из недругов пущенные слова: «Царство Шуйского окончится плачем».
И хотя сторожа объявили людям, что в соборе шумел неведомо как проникший туда злобесный коварник, им не поверили. Гермоген велел объявить имя нарушителя спокойствия, но и патриарху не верили. Приходилось с горечью убеждаться в том, что легенды и сказки сильнее действуют на умы людские, чем истинные случаи и происшествия. А тут ещё смута, и кругом невидимые вражеские сети и при них ловцы человеков. Государь, к сожалению, излишне доверчив. О каких князьях говорил Горобец, что готовы служить новому самозванцу? Многие из них посланы воеводами против злодеев Болотникова. И самые именитые потерпели поражение. Измена или неудача? Князь Мстиславский показал тыл, бросив пушки, обоз, запасы и добычу неприятелю. Робость? Мстиславский действительно был хоть и первым воеводой, но отвагой и храбростью не славился. Но был ли он верен присяге и царю? И это сомнительно. Пятнадцать тысяч ратников перешли на сторону неприятеля. Могло ли сие случиться без ведома воеводы? Или воевода не властен над своим войском? Примеру Мстиславского последовал воевода Измайлов, снял осаду Козельска. Несколько ранее снял осаду Кром князь Воротынский, и отступил от Ельца князь Юрий Трубецкой.
Гермоген имел беседу с царём Василием. Он не скрывал своего недовольства действиями воевод. Но мог ли Василий сомневаться в князе Воротынском, который был его свояком, или в Мстиславском, которому предлагал царство и он отказался быть царём? Какой резон Мстиславскому чинить измену? Он первый боярин в Думе и первый воевода. Как было решиться Василию думать, что крамольники свили гнездо в самом Кремле!
Но как бы то ни было, бегство воевод с поля брани сеяло смуту среди ратников и служилых людей. Слухи об отступлении царского войска сделали своё дело: восстанием был охвачен весь юг. Против Шуйского встали Тула, Кашира, княжество Рязанское. Пожар восстания против законного царя пылал в Орловской, Калужской и Смоленской землях. Начались волнения в Вятской и Пермской землях. Мордва и холопы волжских уездов осадили Нижний Новгород. В Астрахани Шуйскому изменил князь Хворостинин[51]51
Хворостинин Иван Дмитриевич (? – 1616) – с 1607 г. был воеводой в Астрахани, принял сторону Лжедимитрия I, поднял астраханцев против Василия Шуйского. С воцарением Михаила Фёдоровича стал его сторонником. Был убит при осаде Астрахани.
[Закрыть].
Князья Шуйские славились храбростью на поле брани. Царь Василий гордился своими предками и был искусным стратегом (о чём убедительно пишет Карамзин). 21 мая он сел на ратного коня и сам повёл войско на скопище злодеев, оставив Москву на брата, князя Дмитрия Шуйского.
Это был важный момент в жизни отечества, положивший начало переменам к лучшему. Никогда Москва не видела такого торжественного и пышного выезда царя и его соратников на поле битвы. Князья, бояре, окольничие, дворяне, дьяки – все встали под царское знамя. Присоединились к ним возле Серпухова и беглецы Мстиславский с Воротынским – в унынии стыда, как пишет Карамзин.
Царь Василий оправдал репутацию искусного стратега. Осенью была взята Тула, разрушено гнездо мятежников. Были взяты в плен и казнены главари восстания – Болотников, лже-Пётр[52]52
Лже-Пётр – самозванец, мнимый сын царя Фёдора Ивановича, терский казак, один из соратников И. И. Болотникова.
[Закрыть] (ещё один из самозванцев), атаман Нагиба. Взятие Тулы праздновали как завоевание Казанского царства. Москва наслаждалась тишиной. И хотя Василий и верные ему россияне знали, что в Стародубе объявился второй самозванец, но, гнушаясь им, никто не думал, что этот Вор (временно притихший после поражения Болотникова) станет осаждать Москву и затеет смуту – более тяжкую, чем прежняя.
Между тем в Калуге и других городах ещё держались люди Болотникова, продолжали упорно насаждаться слухи о спасённом царевиче Димитрии. К Стародубу, где находился Вор, съехались сильные литовские дружины. Второй самозванец был хитрее и опаснее первого. Был корыстолюбив до низости, отличался свирепостью нрава. Друг первого самозванца пан Меховецкий стал его руководителем и наставником. Они внимательно изучали жизнь Григория Отрепьева, обсуждали причины его гибели.
В Москве уже не сомневались, что всё это делалось с тайного одобрения Сигизмунда и панов думных. Богатые не жалели денег, снабжали ими бедных, чтобы те становились под знамёна «Димитрия», подкупали людей, чтобы они несли от селения к селению весть о спасённом царевиче. Тем временем явился Заруцкий[53]53
Заруцкий Иван Мартынович (? – 1614) – донской атаман. В 1606– 1607 гг. примыкал к И. И. Болотникову, в 1607 – 1610 гг. поддерживал Лжедимитрия II. В 1611 г. был одним из руководителей первого земского ополчения, в 1613 – 1614 гг. возглавил крестьянско-казацкое движение на Дону и в Нижнем Поволжье. Был казнён.
[Закрыть] с несколькими отрядами казаков. По рукам ходило воззвание: «Царь Димитрий и все наши благородные витязи здравствуют. Зовите к нам всех храбрых, прельщайте их славою и жалованьем царским. У нас носится слух, что сей Димитрий обманщик: не верьте!»
Разумеется, творцы новой кровавой интриги знали, что «Димитрий» – обманщик. Вот что писал об этом польский историк: «Не спрашивали – истинный ли Димитрий или обманщик зовёт воителей? Довольно было того, что Шуйский сидел на престоле, обагрённом кровью ляхов». Царь Василий был главным предметом ненависти. О том же писал и Шаховской ляхам: «От границы до Москвы – всё наше. Придите и возьмите! Только избавьте нас от Шуйского!» Атаман Заруцкий, предводитель днепровских казаков, сочинял о царе Василии гнусные небылицы, чтобы поддержать ненависть к нему.
Так творилась новая смута, самая страшная в истории нашего отечества.
17
К великой досаде Гермогена, царь Василий допускал оплошки, которые способствовали смуте. На беду свою и беду державы, был он сугубо щепетилен. «Не дай Бог, ежели по моей вине учинится какая несправедливость и меня станут винить в неправде. Скажут, царь-де мстителен и злобен нравом», – думал он. Не раз говаривал ему Гермоген, что царь держит ответ перед Богом, не перед людьми, что крамольники лукавы и охочи до ложного раскаяния, что даже при милостивом царствовании Феодора (волею Годунова) были сосланы в далёкие края князья Шуйские и вся их родня, ни в чём не повинная. Или не погиб злою смертью герой псковской осады князь Пётр Иванович Шуйский?! За одно только малое слово против царицы. Кто из прежних царей был милостив к изменникам? Никто!
Царь Василий не возражал, но делал по-своему. И не скоро ещё Гермогену удастся склонить царя Василия к реальной политике по отношению к врагам. Добросердечие царя скоро принесло злые плоды. Князь Шаховской, верный соратник самозванца, похитивший государственную печать, словно по наущению самого дьявола был отправлен воеводой в Путивль, центр Северской земли, и тотчас же взбунтовал близлежащие города.
И много было у царя Василия таких милостивых «наказаний» и указов. Добром они не кончались, и смута от них была великая.
В этом убеждает и псковская история.
Боярин Пётр Шереметев в своё время изменил Годунову, отказался повести войско на самозванца, заявив: «Трудно против природного государя воевать». Думать ли, что человек, изменивший один раз, не изменит в другой? Между тем царь Василий оставил Петра Шереметева у себя в приближении. «Благодарный» ему за это боярин организовал заговор, дабы сместить царя. И что же царь? Отправил его за это воеводой в благословенный город Псков.
Расскажем эту небольшую историю. В ней наглядная картина того, как люди низкие и корыстолюбивые легко развязывают смуту. И коварство таких людей было непредсказуемо.
Надо сказать, что Псков, несмотря на погром, в своё время учинённый в городе отцом Грозного Василием Иоанновичем[54]54
...погром, учинённый в городе... Василием Иоанновичем... — Василий III (1479 – 1533) – великий князь московский с 1505 г. Завершил объединение Руси вокруг Москвы подчинением Пскова в 1510 г., Смоленска в 1514 г., Рязани в 1521 г.
[Закрыть], сохранял преданность московским царям. Поэтому когда Шуйский попросил у них денежного вспоможения для борьбы с самозванцем, псковичи радетельно собрали деньги и отправили их в Москву с пятью посланцами. Деньги эти были собраны людьми меньшими, которые так именовались по определению зажиточной части псковичан, называющих себя лучшими людьми. В летописи о них так сказано: «Гости, славные мужи, велики мнящиеся перед Богом и людьми, богатством кипящие». Они-то и воспользовались случаем, чтобы погубить «меньших» людей, «которые люди в правде против них говорили о градском житии и строении и за бедных сирот».
Воевода Пётр Шереметев решил воспользоваться разделением на «лучших» и «меньших» людей, чтобы учинить в городе смуту. Послал от имени «лучших» людей оговорную грамоту, обвиняющую тех пятерых, что повезли в Москву казну, в измене. Богатый псковитянин Григорий Щукин заранее похвалялся:
– Которые поехали с казною, и тем Живоначальной Троицы верха не видать и в Пскове не бывать.
Но хитроумный коварник Шереметев не сумел продумать последствий и предусмотреть задуманное им. Среди пятерых посланцев был сыромятник Ерёма, которого воевода не велел вписывать в число «изменников» за то, что на него «Ерёма много всякого рукоделья делал даром». Вот и решил оградить от погибели своего верного данника, золотые руки которого сулили ему новые подношения.
Этот Ерёма и спас остальных. Он сыскал стрельцов-псковичан. Те кинулись в ноги царю Василию:
– Тебе, царю, челом бьём: они не изменники.
– Кладём свои головы за их головы.
Казнь «изменников», к счастью, отложили. Ерёма поехал в Псков и сказал, что на его товарищей «писана измена». Псковитяне всем городом били челом воеводе, дабы творили суд по правде и отозвали назад оговорную грамоту. Шереметев вынужден был посадить «лучших» людей в тюрьму, дабы спасти от ярости народной. Но и тут сумел нагреть руки – получил с богатых купцов большие деньги. Тем временем несчастные «изменники», попавшие в московскую тюрьму по ложному доносу, вернулись в Псков. Но добрые чувства псковитян к царю Василию уже не были столь добрыми. И в самом Пскове усилилась смута. И встали «большие на меньших, меньшие на больших, и так было к погибели всем».
И был о том разговор у Гермогена с царём Василием.
– Как и во Пскове, разделилось нынче царство Русское надвое. Не сыскать согласных и промеж двумя людьми. Как дознаться правды, когда всё творится в тайне, а делами людскими правит умысел бесовский? – говорил царь Василий.
После случая с псковичами он опасался предавать виновных казни, и пленные, захваченные у самозванца, были отправлены в Новгород и Псков. Но и там мнения разделились. Псковитяне пленных жалели, кормили (помня, видно, как своих ни за что обвинили в измене), а в Новгороде людей, передавшихся самозванцу, убивали.
Совершалось самое страшное: размывались границы между добром и злом. А это было дурным знаком. Правда, которой больше не верили, оборачивалась против самих людей.
18
Смута ширилась, захватывая все слои населения. Историк Карамзин пишет о том времени: «Столица уже не имела войска в поле: конные дружины неприятельские, разъезжая в виду стен её, прикрывали бегство московских изменников, воинов и чиновников, к Самозванцу. Многие из них возвращались с уверением, что он не Димитрий, и снова уходили к нему. Злодейство уже казалось только легкомыслием; уже не мерзили сими обыкновенными беглецами, а шутили над ними, называя перелётами. Разврат был столь ужасен, родственники и ближние уговаривались между собою, кому оставаться в Москве, кому ехать в Тушино, чтобы пользоваться выгодами той и другой стороны, а в случае несчастия здесь и там иметь заступников. Вместе обедав и пировав, одни спешили к царю в кремлёвские палаты, другие к царику: так именовали второго Лжедимитрия. Взяв жалованье из казны московской, требовали иного из тушинской – и получали. Купцы и дворяне за деньги снабдевали стан неприятельский яствами, солью, платьем, оружием, и не тайно: знали, видели и молчали; а кто доносил царю, именовался наушником... В смятении мыслей и чувств добрые скорбели, слабые недоумевали, злые действовали... И гнусные измены продолжались».
Как спасти от смуты церковь? Нестроения, охватившие державу, начались и в Московской епархии. Среди священников объявились еретики; они чинили в приходах беззакония, открыто проповедовали ересь. Прихожане оставались без причастия и без покаяния, разглашались тайны исповеди. Начались злоупотребления в священной службе. В монастырях нарушались уставы. Монахи предавались грешным радостям мирской жизни, иные из них покидали святую обитель, бежали к «Тушинскому вору», становились злодеями, проливали христианскую кровь.
Но что особенно обескураживало Гермогена, иные чиновные иерархи попустительствовали еретикам и злодеям. Для патриарха то были дни неусыпного бдения. Верные ему служители и он лично взяли под свой контроль все епархии и приходы. Слухам он не верил, проверял лично. Тех иерархов, что неустанно проповедовали слово Божье, поддерживал и возносил, тех же, что дерзкими речами обнаруживали своё нечестие, наказывал.
Дошёл черёд и до Ростовской епархии. Митрополитом там был Филарет Романов. Он хорошо соблюдал церковный чин и через страх Божий заложил всем приходам и службам доброе основание; его иерархи имели много разума и достоинства. Но смута не минула и этой епархии. Объявились вдруг безрассудные и наглые проповедники глупости и злобы, начались беспорядки и неустройства. Поползли слухи, что сам Филарет передался Вору. Гермоген не верил этим слухам, но побывать в Ростовской епархии было надо.
Время было весеннее. На деревьях проклёвывались первые листочки. Кругом зеленела мурава. Но сколь же печальные картины открылись взору Гермогена, едва он отъехал от Москвы. Пашни пустовали, возле дворов не были возделаны огороды. Сёла обезлюдели. Когда колымага Гермогена остановилась возле колодца, к ней кинулась наседка с цыплятами. Видно, чаяла от них, случайных людей, пропитания и воды своим деткам. Гермоген велел покрошить им хлеба и налить воды в колдобину.
Праведный Боже, всё повторяется, как во времена нашествия татаро-монголов, думал Гермоген. Только ныне враг стал коварнее и хитрее. И люди не знают, как от него спастись. Подмосковные селяне бежали, видимо опасаясь всяких пакостей от нечестивых ляхов, в понизовые города, где было спокойнее. Только спокойнее ли?
Пустынной была дорога до самой слободы. Не слышно было колокольных звонов, что ране, подобно Божьему гласу, разносились над подмосковными просторами. Даже вороньи голоса не оглашали эти словно бы вымершие пространства.
Что же с тобой сделали, матушка-Русь!
...По пути в Ростов Великий Гермоген думал заехать в Лавру, дабы повидаться с братией. Не ровен час поляки с тушинцами пойдут на штурм святой обители.
Добро, что царь загодя велел занять Лавру дружинами и завести туда большие запасы продовольствия. Не сломил бы голод монахов во время осады. Гермоген думал подготовить братию к духовному подвигу. Накануне он молился святому Сергию Радонежскому и ныне чаял приложиться к его мощам, получить исцеление своей болезни у Сергия Чудотворца. Вот и поутру ломило суставы, едва осилил болезнь, чтобы подняться в дорогу.
Но перед самым пригорком, там, где ныне размещается Сергиев Посад, что-то толкнуло Гермогена сделать небольшой крюк и заглянуть в часовенку, что притаилась в лесной чащобе. Он бывал в ней ране, но уже забыл когда. Заметно было, что дорога к часовенке утоптана. Кто-то наведывался туда. В лесу было сыро. Пахло прелой листвой и первым разнотравьем.
Часовенка показалась неожиданно, за первым поворотом. Она потемнела от старости и сырости. Над входом в неё была прикреплена икона Николы Ростовского. Гермоген ещё издали увидел её своим зорким глазом. Он радовался и дивился при виде столь дорогого ему образа. Прежде этой иконы здесь не было. Кто же позаботился сотворить её и повесить здесь? Икона была меньше той, что хранилась в церкви Святого Сергия, и не было в ней той чистоты линий и красок, но исходило то же впечатление истинной святости, великой воли и чуда. По преданию, икона ростовского Николы Чудотворца принадлежала самому Сергию Радонежскому, и Гермоген верил, что так оно и было. И что удивительно, лицо ростовского Николая Чудотворца было похоже на лицо самого Сергия на шитом покрове начала XV века, что находился в той же Сергиевой церкви. Гермоген перекрестился на икону и снова всмотрелся в святой лик. Отчего иконописец избрал коричневый цвет? Лик тёмен и мрачен. Щёки опавшие. И тёмен полуопущенный взгляд зорких глаз. В них скорбная мысль и тёмное пророчество. И сколько потаённого знания о том, чему суждено свершиться! Сколько воли и благодати терпения! Это был настоящий Сергий. Иконописный образ Николы Ростовского явно срисован с Сергия Чудотворца.
Гермоген подумал, сколь тщателен был новый иконописец, повторивший и краски, и письмо иконописца, жившего более двух веков назад. Всё узнаваемо: мелкая дробь коричневых пятен на светлом фоне поясного изображения Николы Ростовского и на золотом венчике вокруг его головы. Асимметрия глубоко посаженных глаз подчёркивается асимметрией красных пятен на обшлаге рук святого и вороте надплечья. «Что ты пророчишь нам, дивный чудотворец? – спрашивал Гермоген. – Явно что – новые испытания. Доколь же, однако, терпеть нам? Ужели не сотворишь чудо спасения нашего? О, ведаю, ведаю... Ты говоришь: «Ищите истину в Священном Писании». Для того и держишь в руке святые красные книги. Сам-от ты и ране, до пострижения, был молчальником слыл необщежительным, яко и аз грешный. С единым лишь Богом вольно душе говорить да печаловаться о мире и людях».
Направляясь к колымаге, Гермоген радостно думал, что скоро увидит родной город Сергия – Ростов Великий. И ещё он думал, что Господь благословил родителей будущего чудотворца переселиться в Радонеж, ибо всё в нашей жизни по Божьему предначертанию свершается...