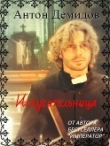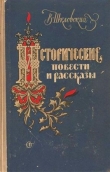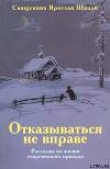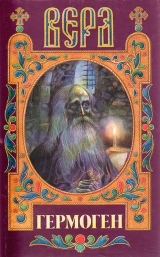
Текст книги "Гермоген"
Автор книги: Борис Мокин
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 34 страниц)
ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ
1

Осада Сергиевой лавры поляками – трагическая страница в русской истории и одновременно целая серия загадок, одни из которых придётся разгадывать и Гермогену.
Прежде всего, чем была вызвана эта осада?
Троицкая лавра святого Сергия находилась в шестидесяти четырёх вёрстах от Москвы. Заняв Лавру, можно было пресечь сообщение Москвы с севером и востоком России, отрезав от Москвы Вологду, Владимир, Пермь, земли нижегородские, казанские, сибирские, откуда шли на помощь столице военные дружины. Важно было также не отдать Скопину-Шуйскому этот монастырь-крепость и помешать ему пойти на помощь Москве.
Далее. В крепости можно было выдержать длительную осаду. Монастырь был ограждён стеною в четыре метра высоты и в три сажени толщины. Занимал монастырь значительное пространство – шестьсот сорок две сажени. Монастырь был защищён башнями, острогом и глубоким рвом, не говоря уже о густых лесах вокруг него.
И наконец, Лавра, богатая казной, множеством золотых и серебряных сосудов, драгоценных каменьев, образов, крестов, была предметом воровских вожделений ляхов.
Однако для нападения на Лавру нужен был ещё и какой-никакой предлог, ибо ляхи были клевретами «Димитрия», якобы «сына» царя истинно православного, почитавшего монастыри, – Ивана Грозного. Это он обезопасил Лавру, окружив её каменной оградой.
И предлог для набегов на Лавру нашёлся. Дело в том, что царь Василий успел предусмотрительно занять Лавру дружинами детей боярских, стрельцов и верных ему казаков. И даже иноков вооружили доспехами, кои они надевали поверх рясы, и мечами. Они выходили вместе с воинами, нападали на разъезды противника, прикрывали царские обозы, ловили лазутчиков. Они же и увещевали мятежников и мирян, отнимая воинов у самозванца, умножая число сподвижников Лавры.
Это ли не основание для гнева ляхов и доводов в пользу войны с монахами? Самозванцу они сказали:
– Доколе свирепствовать против нас сим кровожадным вранам, гнездящимся в их каменном гробе? Города многолюдные и целые области уже твои. Шуйский бежал от тебя с войском, а чернецы ведут дерзкую войну с тобою! Рассыплем их прах и жилище!
Дальнейшая история такова. Пётр Сапега и Лисовский вместе с другими знатными панами привели под стены Лавры тридцать тысяч ляхов, казаков и русских изменников. Увидев неприятеля, жители монастырских слобод сожгли их и поспешили в Лавру. Предвидя упорное сопротивление, польские воеводы обратились к осадным воеводам Лавры князю Долгорукову-Роще и дворянину Голохвостову с увещевательным воззванием:
«Покоритесь Димитрию, истинному царю вашему и нашему, который не только сильнее, но и милостивее лжецаря Шуйского, имея чем жаловать верных, ибо владеет уже едва ли не всем государством, стеснив своего злодея в Москве осаждённой. Если мирно сдадитесь, то будете наместниками Троицкого града и владетелями многих сел богатых; в случае бесполезного упорства падут ваши головы».
Одновременно ляхи послали письменный «наказ» архимандриту и монахам:
«Вы, беззаконники, презрели жалованье, милость и ласку царя Ивана Васильевича, забыли сына его, а князю Василию Шуйскому доброхотствуете и учите в городе Троицком воинство и народ весь стоять против государя царя Димитрия Ивановича и его позорить и псовать неподобно, и царицу Марину Юрьевну, также и нас. И мы тебе, архимандрит Иоасаф, свидетельствуем и пишем словом царским, запрети попам и прочим монахам, чтоб они не учили воинства не покоряться царю Димитрию».
В ответ на эти грамоты Сапеги, в ответ на запугивание и одновременно обещание наград осаждённые отвечали: «Да ведает ваше тёмное державство, что напрасно прельщаете Христово стадо, православных христиан. Какая польза человеку возлюбить тьму больше света и преложить ложь на истину: как же нам оставить вечную святую истинную свою православную христианскую веру греческого закона и покориться новым еретическим законам, которые прокляты четырьмя вселенскими патриархами? Или какое приобретение оставить нам своего православного государя царя и покориться ложному врагу и вам, латыне иноверной?»
Оставались две возможности одолеть Лавру: измена и разрушение ограды. Не скупясь на подкуп изменников, поляки засылали лазутчиков и методически бомбили из пушек каменную стену. Но ядра шестидесяти трёх пушек, производя грохот, не причиняли крепости значительного урона: сыпались кирпичи, образовывались маленькие отверстия, кои вскоре заделывались защитниками Лавры. Подкуп также не имел успеха (об этом будет особый рассказ). И тогда поляки решились на третий способ одоления Лавры, который потребовал бы более значительных жертв и сил: штурм Лавры.
Вечно пьяный Пётр Сапега решил воодушевить своих воинов по-своему: закатил пир, который длился с утра до вечера, а в сумерки полки вышли к турам, заняли близлежащие дороги и ночью устремились к монастырской ограде с лестницами и щитами, подбадривая себя криками и музыкой. Но приступ был безуспешным. Защитники Лавры встретили ляхов залпом из пушек и пищалей, было много убитых и раненых. Ляхи бежали, оставив трофеи, но казаки и стрельцы, спустившись со стены на верёвках, напали на остатки осаждавших, не оставив в живых ни одного ляха.
Менее удачной была вылазка воевод охранных отрядов Лавры: в жестокой сече полегли многие воины. И, гордясь этим временным успехом как победой, ляхи приступили к делу тайному и коварному: подкопу святой обители. Защитники Лавры проникли в их замыслы. Начались схватки с неприятелем. Успех был переменным, но преимущества были на стороне поляков: они приблизили свои окопы к стенам крепости и не пускали осаждённых к ближайшим прудам за водой.
Недостаток пищи и воды породил болезни и уныние среди осаждённых. Появились первые изменники, бежавшие к противнику. Но сколько-либо заметного следствия это не имело. Тем более что неприятель вскоре потерпел значительный урон в силе: пятьсот донских казаков во главе с атаманом Епифанцем покинули Сапегу, устыдились воевать против защитников святой обители.
Между тем иноки вскоре заметили, что неприятель действует больше хитростью, нежели храбростью. Показывая пример личного мужества, иноки вместе с дворянами и селянами успешно нападали на вражеские заставы и бойницы. И, вновь уповая на хитрость, Сапега и Лисовский послали к стенам обители несколько дружин, чтобы выманить осаждённых. И они вначале попались на хитрость, погнали дружины от монастыря, но, к счастью, монастырский колокол известил их об опасности: в засаде была неприятельская конница. Иноки вернулись назад, захватив пленных. Монастырские бойницы и личное мужество принесли инокам победу.
Между тем холодная зима сковывала действия поляков, но не мешала привычным к морозам русским проявлять чудеса храбрости. Простой селянин Суета действовал как воевода, увлекая других примером чудесной доблести, по словам очевидцев, превратил вражескую дружину в гору трупов. Слуга по имени Пимен ранил в висок Лисовского, а воин Павлов убил знатного ляха князя Горского. Это лишь единичные примеры из великого множества. Хорошо сказал летописец: «Святой Сергий[60]60
Сергий Радонежский (1314 – 1392) – святой, подвижник, основатель Троице-Сергиева посада и других обителей.
[Закрыть] охрабрил и невежд: без лат и шлемов, без навыка и знания ратного, они шли на воинов опытных, доспешных и побеждали».
2
Осада Троицкой лавры связана со многими преданиями о чудных видениях. Мы не вправе умолчать о них. Они вооружали защитников Лавры мужеством и устрашали принимавших их на веру тушинцев и, случалось, поляков.
После того как по совету Гермогена и с его благословения в Лавру была передана икона Николы Ростовского, к монахам начал являться Сергий Радонежский. Он казался словно бы сошедшим с иконы Николы Ростовского. Тот же тёмный лик, тот же погляд зорких глаз. Монахи говорили, что то было не видение: к ним являлся сам основатель обители, дабы оказать монахам скорую помощь.
Первый, кому «явился» святой Сергий, был архимандрит. Владыка был болен и не вставал с ложа. Приблизившись к ложу, Сергий произнёс:
«Чадо моё любезное, Бог подаст тем, кто терпит. Он не забудет убогих Своих до конца и никогда не презрит этого святого места и живущих в нём рабов Своих...»
На другой день архимандрит Иоасаф почувствовал ослабление хвори, в первом часу дня вместе с освящённым собором и монахами, взяв чудотворные иконы и кресты, обошёл стены Лавры, творя моление ко Всемогущему в Троице Богу и Богоматери. На противника, видевшего это, напал страх. Они покинули рвы, где окопались, и побежали в свои таборы.
Святой Сергий предупреждал братию об опасности, о набеге или вылазке противника и потому являлся монахам неожиданно. Пономарю Илинарху он «явился» во время утреннего пения, когда пономарь забылся сном. Прервав его лёгкий сон, святой Сергий предрёк грозящую братии беду:
«Скажи воеводам и ратным людям: се к пивному двору приступ будет зело тяжёл. Братия же бы не ослабевала, но с надеждою держалась...»
И святой начал ходить по Лавре и по службам, кропя святой водой монастырские строения...
Илинарх, возможно, забыл об этом предупреждении, потому что никто не чаял возгремевших снарядов и голосов литовских людей, устремившихся к стенам Лавры. Сражение завязалось возле пивного двора, о чём и предупреждал Сергий. Но, видимо, помощь святого чудотворца не оставляла защитников Лавры, если даже внезапность нападения не дала противнику успеха. Потеряв много убитыми, литовские люди вынуждены были отступить.
Скоро, однако, наступили дни ещё более тяжкие. Надвигался мор, и велика была скорбь братии, и ниоткуда не ждали утешения. И тогда снова «явился» святой чудотворец пономарю Илинарху, и братию облетели слова надежды:
«Скажи братии и всем страждущим во осаде, пошто унывают и ропщут на держащего скипетр? Аз неотступно молю Христа Бога моего! А о людях не скорбите. Людей к вам царь Василий пришлёт».
И действительно, на помощь изнемогающим защитникам Лавры был послан атаман Сухан Останков с шестьюдесятью казаками, которые привезли хлеба. И многим в те дни слышался голос чудотворца:
«Мужайтесь и не ужасайтесь! Господь спасёт место сие!»
И люди набирались мужества, не зная, сколько ещё протянется их сидение в осаде. А голос Сергия Чудотворца продолжал учить:
«Смотрите, братия, и удивляйтесь, как подаёт Бог тем, кто терпит».
Удивительно это участие в судьбе людей великого печальника земли Русской... Такова была сила чаяния народа, его вера в святого чудотворца.
Тем временем против Лавры шла война скрытая, тайная, губительная, ибо войну объявили свои же. Между иноками сеялись раздоры, рождалось недоверие, вредящее духу сплочённости.
Обратимся к одному Из драматических и самых сложных событий в судьбе Лавры, когда трудно было отличить истину от клеветы и коварства.
Взглянем на это событие проницательным оком Гермогена, суровая жизнь которого научила отличать истину от лжи. Забегая несколько вперёд, скажем, что ему также не удалось предотвратить трагедии. В те годы слово «измена» было столь часто в ходу, что наветы имели повсеместный успех. Клевета, если на её стороне была сила оружия, оставляла последнее слово за собой.
3
Гермогену стало известно, что воевода охранного отряда при Лавре Григорий Долгорукий-Роща схватил казначея Иосифа Девушкина по обвинению в измене и привёл его к пытке. Старец, известивший об этом Гермогена, был в тревоге и недоумении: воевода решил дело самоволом, без совета старцев и архимандрита, в нарушение тарханной грамоты. По словам старца выходило, что казначей не был виновен в измене и дело тут тёмное, тайное и опасное. Старцы опасаются, что ключи от монастырской крепости попадут в недобрые руки и неприятель войдёт в Лавру.
Гермоген тотчас отправился к царю. У Василия в это время находился келарь Троице-Сергиевой лавры Авраамий Палицын, несколько огрузший человек крепкого телосложения, с крупными чертами лица. Когда вошёл Гермоген, он в чём-то убеждал царя и не сумел скрыть некоторого замешательства при виде патриарха. На столе перед Василием лежали какие-то письма, и опять не укрылось от Гермогена, что келарь хотел прихватить их с собой, но при патриархе не решился это сделать. Бог весть какими путями насеваются дурные думы о человеке, но Гермоген видел, что келарь держится так, как если бы царь был его подружием и архимандрит Лавры у него в повиновении.
– Беда, Гермоген... Измена проникла в Лавру, кою мы доселе считали недоступной твердыней...
Царь протянул письмо. Гермоген стал читать:
«За четыре дня до приступа пришёл ко мне монастырский слуга Михайла Павлов и говорит: ты готовишься на воров, а Алексей Голохвостов на тебя наущает, говорит старцу Малахею Рожевитину: поди к слугам, которым веришь, и к мужикам клементьевским, говори им, что нам от князя Григория, в осаде сидя, всем погибнуть, и нам над князем Григорием надобно как-нибудь промыслить, ключи бы у него городовые отнять. И я, князь Григорий, услыша такое слово, начал говорить дворянам, головам, сотникам, детям боярским и всяким ратным людям: мы готовимся на врагов, а только Алексей такое слово говорил, что у нас в святом месте будет дурно. Услыхав это, Алексей начал запираться; и старец Малахея перед дворянами запёрся, что такого слова у Алексея не слыхал, но потом прислал ко мне сказать: виноват я, князь Григорий Борисович, в том, что сперва запёрся, потому что если бы я стал говорить, то была бы у нас большая смута, а если Бог даст благополучное время, то и ни в чём перед государем не запрусь; и в другой раз присылал он ко мне с тем же словом. А прежде как я схватил вора Иосифа Девушкина, то Алексей говорил монастырским слугам, призвавши их к себе в седьмом часу ночи: пожалуйста, не выдайте казначея князю Григорию. А как я пошёл пытать казначея, то Алексей велел сбить с города всех мужиков. Я послал проведать слугу, и тот, возвратившись, сказал: площадь полна мужиков с оружием из съезжей избы. И я мужиков отговорил от мятежа и пошёл пытать казначея; но Алексей у пытки ни за какое дело не принялся, и то его нераденье видели многие дворяне и дети боярские и всякие ратные люди и мне о том после говорили: зачем это Алексей с тобою к такому великому делу не принялся?»
Пока Гермоген читал это письмо, перед его мысленным взором пронеслось множество видений, вспомнились дни казачества. Припомнилось и поразившее Гермогена известие об измене князя Долгорукова-Рощи, когда он перешёл на сторону Гришки Отрепьева, заявив: «Служу Димитрию». «Какого слова ждёт от меня Василий? – думал Гермоген. – Или он забыл об измене князя, или поверил его покаянию? Или показалось ему, что в этом письме князь явил совесть, оттого и «уличает» измену? Видимо, так. Поверил же он злому изменнику, смердящему псу Шаховскому!»
Гермоген бросил на царя короткий пытливый взгляд. Виски его за последние дни совсем поседели, глаза прикрыты потемневшими веками. Можно было понять, как он устал. Бедный государь! Всё, что копилось при царях прежних – смута в умах, ослабление войска, разорение казны при Лжедимитрии I, – всё теперь в одночасье легло на его плечи. На самого совестливого из всех царей, самого милосердного, пережившего ещё до воцарения великое множество невзгод...
Между тем Василий тоже старался угадать мнение Гермогена и опасался его суровости. Он устал от коварства поляков, тех, кого ещё недавно называл своими братьями, устал думать о том, как обезопасить Москву от «Тушинского вора», как обратить на путь истинный легковерных москвитян. Но тяжелее всего было думать об измене своей же братии – князей. Или возвращаться к тому, что осуждал в прежних царях – к пыткам и казням? Ещё так недавно он был доволен и горд в душе, что поверил князю Долгорукому-Роще, изменившему некогда царю Борису. И хотя его предостерегали, он назначил Долгорукого-Рощу главным воеводой охранных отрядов Лавры. Ужели придётся явить всему честному народу свою ошибку?
– Что скажешь, святейший? Какую правду либо неправду узрел ты в сём письме?
– Вижу в сём деле завод князя Долгорукого-Рощи...
Уловив в глазах царя горючую боль, Гермоген опустил взгляд, но, не умея уклоняться от истины, продолжал:
– Меня многому научила в жизни казачья служба, государь. Ежели на казака кто-то налетал ястребом, кричал о воровстве и начиналась скорая расправа, значит, дело нечисто и кто-то думает, как наполнить руки деньгами, краденым добром... Схватили-то, государь, казначея, и князь стал пытать его, не получив согласия архимандрита и старцев...
– Из письма его, однако, следует, что он хочет явить свою ревность.
– Ревность, государь?! Или до тебя не довели, что князь пошёл против архимандритов и старцев? Что в святой обители учинилась смута?
– Что, чаешь, надобно делать?
– Доставить князя и старцев с архимандритом в Москву под крепкой охраной, дабы истина вышла наружу...
Царь хмуро молчал.
– Оставить этого дела нельзя, дабы не восторжествовала неправда, – продолжал Гермоген. – Видно, что Долгорукий хочет изгубить второго воеводу – Голохвостова...
– Зачем это ему надобно?
– Думаю, что измену затеял Долгорукий-Роща. Приём-то хитрый, хоть и простой. Сказать, что ключи у него отнял Голохвостов, а сам тем временем откроет полякам ворота Лавры, а виноватить будут Голохвостова. Дурная молва о нём станет бедствием, ибо нет ничего быстрее, нежели дурная молва...
– До сего дня князь Долгорукий проявлял отвагу в битве с поляками...
– Ежели человек плут и коварник, то в отваге его великая опасность. В казаках мы не доверяли таким отвагам.
– Да, тут я вижу какую-то тайну меж сими людьми: князем Долгоруким, казначеем Девушкиным и... келарем Авраамием... – задумчиво произнёс Василий.
Он долго молчал, потом спросил не то Гермогена, не то самого себя:
– И однако, ключи от Лавры хранятся у князя Долгорукого... Что, однако, мешало ему впустить ляхов допрежь того, как затеялась сия кляуза?
– У всякого человека есть свой страх. В Долгоруком ещё жив тот страх, когда он изменил царю Борису. Как без страха помыслить, что все увидят за ним ещё прежний изменный след и оттого быстро догадаются о новой измене!
– А пошто неповинного казначея надобно было схватить?
– Вели, государь, отрядить людей, дабы освободить казначея... Либо же мы так и не дознаемся о тайне... Что может быть опаснее, чем передать всю власть коварнику?
4
Гермоген опоздал со своей просьбой освободить от ареста казначея Лавры Иосифа Девушкина. На другой день стало известно, что несчастный старец не выдержал пытки. Тело его было столь обезображено, что монастырские служки обряжали его с сокрушённым сердцем, плакали и ужасались.
Тем временем воевода Долгорукий-Роща пустил по монастырю торжественную молву:
– Нетерпелив же в крепких явился Иосиф. Все свои иудины умышления тонко изъявил.
Но всяк понимал: на пытке можно не токмо на другого, но и на себя наговорить... Впрочем, признаний Девушкина в измене никто не слышал, а сам Долгорукий позже стал отрицать, что пытал казначея. Но злодейство свершилось, и живший в то время в Москве келарь Лавры Авраамий Палицын довёл до царя о кончине «изменника», не сумев скрыть тайного торжества:
– И тако зле скончался, не утаил думы иудские. Воистину от Господа попущение сие.
Когда об этом стало известно Гермогену, он подумал, что неспроста эти речи, что есть какая-то опасная тайна, связывающая Долгорукого-Рощу и Авраамия Палицына с покойным казначеем. Он ожидал встречи с архимандритом, но события приняли неожиданный оборот. Гермогену сказали, что его желает видеть какой-то человек.
...Гермоген имел обыкновение выслушивать всякого, кто пожелал бы говорить с ним. Но на этот раз монах, прислуживавший Гермогену, доложил, что какой-то страховидный человек самоволом вошёл в патриаршие палаты и не хочет объявить своё имя.
– Кабы дурного тебе чего не содеял. Глядит, паче дьявол...
– Да ты, Онуфрий, видел ли дьявола?
– Ну, ежели не дьявол, так евонный брат...
– Коли Бог за нас, станем ли бояться дьявола! Вели впустить, Онуфрий!
Вошедший не поклонился патриарху и не перекрестился на иконы. Был он чёрен и лыс. Длинный нос выгнут клювом. Сильно развитая нижняя челюсть казалась вытянутой. Глаз его нельзя было разглядеть, они прятались под массивными надбровьями.
– Чем могу быть тебе полезен, человече? За какой надобностью явился ко мне?
Незнакомец приблизился к патриарху, спросил:
– Не узнаешь, Ермолай?
Глухой, словно бы из преисподней голос вернул Гермогена к тому времени, когда в Архангельском соборе объявились «духи» и начали вещать о гибели царства. В одном из «духов» Гермоген узнал Горобца. Этот чёрный страховидный мужик с голым черепом – ужели Горобец? Что же так скрутило его? Чем промышлял? Припомнились его слова: «Я получаю свои тридцать сребреников и на службу не жалуюсь. Человек я вольный и твоему царю не присягал».
– Ты служил Вору и ныне прибыл из Тушинского стана? – спросил Гермоген.
– Не совсем так, святой отец. Ныне я бежал из плена. Спасла казацкая сноровка, ночью кубарем скатился со стены. В вашей святой обители дюже высокие каменные стены.
– Зачем пришёл ко мне? – посуровел Гермоген.
– Отвоевался, значит, на поле брани. Думаю в миру нынче служить.
– Какой службы чаешь от меня?
Горобец коротко, зло рассмеялся:
– Не по душе будет тебе моя служба. – И вдруг без всякой видимой связи спросил: – Не ведаешь, где ныне боярин Салтыков Михайла Глебович?
– Не у меня о том надобно спрашивать. Вели навести справки в приказе...
На лицо Горобца наползла хмурая плутоватая усмешка:
– По приказам мы ходить непривычны. Ты разумей это дело так, что я пришёл к тебе вперёд сказать, что пойду против тебя вместе с боярином Салтыковым...
– Велика ли рать?
– Коли с дьяволом, то велика...
Гермоген глянул на Горобца, и показалось ему, что худое его лицо стало ещё чернее, а глаза пронзительнее. Ему припомнилось внезапное исчезновение Горобца в Архангельском соборе (словно вдруг провалился в подземелье), встреча с ним у Сергиева Посада, припомнились и его таинственные действия ещё в казачьи годы.
Видно, и вправду Горобец из тех отверженных, в кого вселяется дьявол, чтобы вредить миру.
И вдруг Горобец схватился за грудь:
– Тошно мне... Давит... Мне бы...
Гермоген дал знак монашку, и тот подал на подносе Горобцу небольшую чашу с кагором. Горобец жадно пригубил её, спросил:
– А покрепче нельзя?
– Не водится... – ответил монах.
– Вели его покормить с моего стола... – сказал Гермоген.
Горобец поднялся.
– Слово тебе хочу сказать, святой отец... Ныне ночью в Сергиеву обитель войдёт Сапега. Ему откроют монастырские ворота... Не спеши доводить до царя... Войско царь не пошлёт, дабы не оставить Москву на разграбление. А ежели пошлёт отряд – его разобьют на первой заставе... Обитель – наша. И Москва будет нашей. Промысли о себе... Ты уже стар... Пора и на покой...
– Кто осмелится открыть ворота Сапеге? – резко спросил Гермоген, пропуская мимо советы Горобца.
– Один вельможный пан... О, вполне почитаемый царём...
– Ни один вельможа не осмелится совершить гнусное предательство своими руками в виду всей Лавры... – резко продолжал Гермоген, предполагая, что под вельможным паном Горобец разумел князя Долгорукого-Рощу.
– Что же ты не спросишь меня, кто тот вельможный злодей, что предаёт святую обитель и своего царя? – насмешливо спросил Горобец.
– Ежели вельможа пошёл противу Бога, мне не спасти его. Но за что вы погубили смиренного старца Иосифа Девушкина?
Горобец казался удивлённым, не понимая, почему именно казначей интересует патриарха.
– Это тайна двоих. Третьему знать не дано, – уклончиво ответил он.
– Иди, заблудшая душа! Не ведаю ныне, чем помочь тебе... Но тому, что ты сказал, Горобец, не бывать. Господь не допустит, чтобы ляхи вошли в святую обитель. Иди! – повторил он.