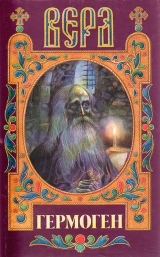
Текст книги "Гермоген"
Автор книги: Борис Мокин
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 34 страниц)
13
Гермоген был прав. Великодушие царя Василия делало поляков крикливо-заносчивыми и вредило интересам России. Не один только Гермоген предупреждал его об опасности. Но вместо того чтобы дать полякам почувствовать силу монарха и державную мощь России, Василий спешил успокоить спесивый гнев Сигизмунда. Чувствуя слабинку Василия, польский король потребовал не только освобождения своих послов, но и денег за товары, разграбленные во время мятежа, а также за покупки, сделанные самозванцем. Сигизмунд собирался послать в Москву чиновника для улаживания польских дел с Россией, но медлил. Очевидно, знал, что клевреты самозванца готовили мятеж против царя Василия, и рассчитывал на успех этой разбойничьей акции.
На этот успех рассчитывали и польские послы. Они выяснили, что царь Василий не спешит заключить выгодный для него союз с их врагом – Карлом IX шведским[49]49
Карл IX (1550 – 1611) – король Швеции с 1604 г., когда Одержал победу над польским королём Сигизмундом III Вазой, сохранявшим до того и шведскую корону. Карл IX начал интервенцию против Русского государства и Кальмарскую войну против Дании в 1611 – 1613 гг.
[Закрыть]. Шведские послы находились в Москве, ожидая решения. Поляки видели в этой медлительности русских их слабость и неуверенность и решили воспользоваться этим. Выполняя наказ Сигизмунда – получить у русских как можно больше денег, – они вели себя вызывающе.
...Первая встреча с поляками состоялась во дворце, где совсем недавно царственно восседал самозванец. Бояре сидели на лавках в глубине палаты, напротив них обособленной группой расположились поляки. В богатых камзолах, надменные и насмешливые, они ждали первого «хода» хозяев и громко переговаривались меж собой, зная, что те слышат каждое их слово.
– Сдаётся мне, пан Вацлав, будто двор московский готовится к погребению. Враз пропали и роскошь и веселие. Нет и прежних щедрот убитого москвитянами несчастного царя. Их заменила угрюмая важность вельмож нового царя, – высокопарно говорил сухощавый, маленького росточка пан. В его губастом и глазастом лице не было ни малейшего намёка на утончённую породу, отличавшую многих поляков. Остальные тотчас же поддержали его насмешливый тон. Но им не удалось скрыть сердитой досады: доселе жили они смело и весело, чувствовали себя хозяевами на чужой земле, и вдруг одним махом эти русские «туземцы» лишили их всего.
– А помнишь, пан Кастусь, как князья Мстиславский, Шуйский, Голицын с прочею братией величали непобедимым цезарем того, кого ныне шельмуют, называют гнусным исчадием ада? – тотчас же откликнулся Вацлав, высокородный пан, породистое лицо которого портили маленькие глазки и надутое выражение.
Услышав своё имя, Мстиславский начал заранее заготовленную речь. Он обратился к послам, Олесницкому и Гонсевскому. Говорил, не спуская с них своих бараньих глаз, которые обрели несвойственное им суровое выражение.
– Да, шутки шутовать панам ныне пристало, но пристало и ответ держать за тайные, воровские сношения самозванца с панами радными и самим королём Сигизмундом, – начал князь, как бы опалённый гневом. – Расстрига и вор овладел русским престолом единственно лишь коварством обманных речей и польской подмогой.
Мстиславский говорил о том, как умело, при помощи Литвы воспользовался бродяга российскою бедою – злодейским убийством царевича Димитрия по приказу Бориса Годунова.
Завершил свою долгую речь Мстиславский несвойственным ему резким словом:
– Кто виною зла и бедствий россиян? Король и вы, паны, нарушившие святость мирного договора и крестного целования!
Впечатление этой речи было столь ошеломляющим, что один пан, выпучив глаза, так сильно подался вперёд (очевидно, полагая, что это поможет ему лучше слышать), что, потеряв равновесие, свалился со скамьи. Поляки сделали вид, что не заметили оплошки своего товарища, и тихо совещались меж собой. На обвинение князя Мстиславского следовало ответить умно и достойно.
Начал посол пан Гонсевский. Был он из тех польских аристократов, что твёрдо верят в свои особые преимущества, превосходство манер и не сомневаются в своих высоких достоинствах.
– Мы слышали о бедственной кончине царевича Димитрия, – заговорил он тихим, но твёрдым голосом. – Жалели о ней, как христиане, гнушались убийцею. Когда явился человек, назвавший себя его именем, как могли мы не верить ему? Он говорил то же, что и вы, думные бояре: что он спасён Небом от Борисовой грозы, что Борис тайно умертвил его брата, царя Феодора, что он теснит и гонит мужей именитых, дабы не было ни одного родовитого соперника у его потомков. Обычная история, коих немало сыщется в прошлом. Не так ли, шановни (уважаемые) бояре думные?
– Так, да не так, ясновельможный посол. Вы нарушили обычаи, принятые у государей, пришли к нам воровским обычаем. Изгоняли хозяев из их родовитых имений, – гневно начал князь Голицын. Лицо его было мрачно, глаза потемнели. Мог ли он спокойно говорить о том, как в его доме, не спросясь хозяина, поставили польского пана, старосту Саноцкого!
Нападение было слишком внезапным, и польские послы не сразу нашлись, что ответить.
– Действия пана Саноцкого были с согласия русского царя, – возразил Гонсевский.
– Легко вам перекладывать вину на покойного! За действия польских подданных ответствен, однако, король Сигизмунд, – резко парировал слова польского посла князь Роман Гагарин. Этот весельчак и винопийца тоже был мрачен. Казалось, его угнетала тайная злоба. – Это король Сигизмунд снарядил в Московию самозванца, – закончил он, словно изрёк окончательную истину.
– Помилуйте, князь! Мы не на судилище! – со спокойным достоинством возразил посол Олесницкий. – Мог ли наш король поверить бродяге? Поверил только добросердечный воевода сендомирский пан Мнишек, но поверил лишь после того, как его признали царём многие россияне. И не вы ли, бояре, клялись, что Россия ждёт Димитрия, что ему сдадутся все города и царское войско, – что и сбылось. Между тем король Сигизмунд повелел воеводе Мнишеку покинуть войско того, кто именовал себя Димитрием, и Мнишек вернулся назад, дабы не нарушать мира между нашими народами. Димитрий же, как он именовал себя, остался в Северской земле. С ним были только донские и запорожские казаки.
Эти слова были правдивы. Канцлер Лев Сапега действительно написал Мнишеку, который был гетманом у самозванца, что ему следует возвратиться, и под предлогом сейма Мнишек отбыл в Польшу. Это было большим уроном для самозванца, потому что с Мнишеком уехала большая часть поляков. Лжедимитрий обращался то к одной роте, то к другой, уговаривая остаться, но встречал только оскорбления. Один поляк сказал ему: «Дай Бог, чтобы тебя посадили на кол». Ясное дело, эти люди не верили, что он царевич.
Положение спасли казаки. К самозванцу прибыло двенадцать тысяч запорожцев.
– И что сделали вы, россияне? – продолжал посол. – Вы пали к ногам того, кого ныне именуете лжецарём. Воеводы и войско сдались на его милость.
И это тоже было правдой, горькой правдой. Воевода Михайла Салтыков, «норовя окаянному Гришке», отошёл от Кром, хотя их легко тогда было взять. Бездеятельность воевод Дмитрия Шуйского и Мстиславского, измена Рубца-Мосальского, Шереметева, заявившего, что трудно воевать с «прирождённым государем», шаткость среди прочих бояр и в самом войске способствовали успехам самозванца. Наконец, Иван Голицын был послан ими в Путивль, дабы объявить самозванцу о переходе царского войска на его сторону. Самозванец повелел князю Василию Голицыну идти к Москве с царским войском, чтобы свести с престола Фёдора Годунова. И князь подчинился этому повелению, хотя видно было, что самозванец трусил. Со своею польскою дружиною он шёл в хвосте войска Василия Голицына.
Что можно было возразить на слова польского посла? Бояре молчали.
– И что сделали вы, бояре? – продолжал Олесницкий, наслаждаясь произведённым впечатлением. – Выехали ему навстречу с царской утварью. С великой честью встретили его в Туле: вопили, что принимаете любимого государя от Бога, кипели гневом, когда поляки хвалились, что дали вам государя. Он-де ваш прирождённый государь. Мы, послы, собственными глазами видели, как вы перед ним благоговели. Забыли, как в сей палате мы вели речь о делах совместных? Вы не выразили ни малейшего сомнения в его сане. Не мы, поляки, но вы, русские, признали своего же бродягу царевичем Димитрием, встретили его на границе с хлебом-солью, привели в столицу, короновали. Вы же и убили его. Вы начали, вы же и кончили. Для чего же вините других? Не лучше ли молчать и каяться в грехах, за которые Бог наказал вас таким ослеплением?
Олесницкий, казалось, говорил спокойно, но лоб его покрылся испариной. В палате было жарко. Он обменялся взглядом с Гонсевским, и тот подхватил прерванную речь:
– Мы не говорим о клятвопреступлении и цареубийстве, – надменно начал Гонсевский, – и не имеем причины жалеть о человеке, который в наших глазах оскорблял нас, величался, требовал безумных титулов, вызывая тем самым сомнения у нас, станет ли он другом нашего отечества...
Что могли возразить бояре? В их руки попала переписка Лжедимитрия с римским двором, из которой видно, что лжецарь хотел, чтобы папа римский склонил Сигизмунда дать «Димитрию» императорский титул. Между тем Сигизмунд отказывал ему даже, в титуле, которые поляки давали его предшественникам: его не именовали великим князем, а просто князем. Бояре помнили, как самозванец не хотел взять королевской грамоты, ибо в ней не давалось ему цезарского титула.
– Статочное ли дело нам, думным людям, слушать досадные речи ясновельможных панов? – перебил речь Гонсевского трубный голос думного дворянина Михайлы Татищева. Этот высокий сухопарый человек был резок на слово, раздражителен и часто вызывал раздражение даже у своих. – Ужели вы полагаете, что ваше лукавство не ведомо нам? На ложку правды у вас находится бочка ложных словес. Вы тут бойко языком строчили. Мы-де сами признавали вашего бродягу Димитрием. Так ли? Вспомни, Олесницкий, когда самозванец не хотел взять королевской грамоты, потому что в ней не было цезарского титула, что ты ему сказал? Ты сказал: «Вы оскорбляете короля и республику, сидя на престоле, который достался вам дивным промыслом Божьим, милостию королевскою, помощию польского народа. Вы скоро забыли это благодеяние». Как же ты говоришь теперь, что лжецарь, бродяга сел на престол русским хотением, а не милостью польского короля, не помощью польского народа?
Правдивые слова Татищева вызвали неудовольствие надменных поляков. Видно было, что они подыскивали слова, чтобы осадить убийцу верного слуги самозванца, любезного всем полякам русского боярина Петра Басманова. Не это ли убийство положило начало кровавой резне?
– Дивимся твоему суесловию, Михайла! – резко начал Олесницкий. – Нам ведомо, что ты дозволяешь себе оправдывать злую погибель наших братьев, их бесчеловечное избиение. За что изгубили людей наших? Они не воевали с вами. Слагаете вину на чернь? Поверим тому, если можно. Поверим, если вы невредимо отпустите с нами воеводу сендомирского и его дочь Марину. Или вопреки народному праву, уважаемому даже варварами, вы будете держать нас как пленников в тесноте и обиде? Так знайте, что в глазах короля и всей Европы не чернь московская, а вы с вашим новым царём виновники сего кровопролития!
– Дозвольте, паны радные, дозвольте! Или вы у себя дома? – Это подал голос князь Воротынский, отличавшийся всегдашним достоинством речей. – Вы были послами у самозванца, а теперь вы уже не послы. Следственно, не должно вам говорить столь дерзко и смело. Мы виновники вашей отставки? Согласны. А за кровопролитие дадут отчёт Богу те, кто пришёл на нашу землю с ложным царём. Святой Александр Невский говорил: «Поднявшие меч от меча и погибнут».
Поляки некоторое время молчали. Затем Гонсевский сказал миролюбиво:
– Но дозвольте, бояре, как нам не говорить о кровопролитии? Мы думаем о нашей безопасности. Мы не хотим, чтобы вы держали нас за пленников. Мы вправе опасаться черни. Рассудите!
– Вот так бы сразу... – проворчал Татищев.
Бояре сказали, что пойдут посоветоваться с царём.
Василий только что закончил беседу с послами Швеции. Он внимательно выслушал делегацию бояр. Выступление князя Мстиславского, его резкости в адрес поляков озадачили его. Больше всего он опасался испортить отношения с Польшей. Спорные слова Мстиславского будут восприняты как думное решение. Мстиславский не чета дворянину Татищеву, он – верховное лицо в Сенате, как называли поляки думу Боярскую.
И царь милостиво велел освободить всех нечиновных ляхов и вывезти их за границу. Сказал, что решение судьбы знатных панов будет столь же милостивым. Но это будет особое решение.
* * *
...Узнав о разговоре бояр с поляками и о милостивом обещании царя Василия освободить знатных ляхов, Гермоген выразил своё неудовольствие царю. Он не мог понять, почему похищение князем Шаховским государственной печати и бегство Молчанова в польские пределы, казалось, не вызывали у царя недоверия к знатным ляхам. Над словами Горобца, что Молчанов, если его признает за «Димитрия» Марина Мнишек, будет иметь успех, Василий только посмеялся.
– Государь, сие есть беспечность.
Царь посмотрел на него с выражением тихой укоризны. Это была первая размолвка между ними.
14
Если бы можно было предвидеть опасность, если бы можно было представить её размеры! Кто бы мог подумать, что имя царевича Димитрия, якобы спасённого от Борисовой грозы, вновь обретёт роковую силу! Этим именем мятежники брали целые города и везде находили усердие и поддержку доверчивых россиян. Как убедить людей, что царевич мёртв?
Царь велел оповестить по всем городам и высям, что в Москву из Углича везут тело царевича Димитрия. Народ на пути следования раки с останками царевича толпами устремлялся к нему. Пели молебны, лили слёзы покаяния и умиления; недужные, касаясь мощей, исцелялись. За чудом следовали новые чудеса. Иерархи славили новоявленного святого.
На подходе к Москве святую раку встретил царь Василий и мать царевича, инокиня Марфа. Когда открыли раку, верующие были утешены: тела святого отрока не коснулось тление, хотя оно пролежало в могиле пятнадцать лет. Лицо, волосы, одежда, платок в левой руке и горсть орехов – в правой, шитая золотом одежда, сапожки – всё было, как если бы царевича недавно предали земле. Сколько стеклось народу, и все славили сие знамение святости...
Все видели, как плакал царь, и видели в этих слезах раскаяние. Из страха перед Годуновым он скрыл злое убийство царевича и свидетельствовал, что царевич, играя в тычку, накололся на ножик. Плакала инокиня Марфа о своём вечном пожизненном горе и шла подле царя Василия, который на своих плечах нёс святую ношу.
Вся Соборная площадь заполнилась народом, все видели, как обитую золотым атласом раку установили на помосте, все слышали радостные клики исцелённых одним только действием веры в святые мощи Димитрия, плакали, слушая молебны новому угоднику Божью. И многие уста шептали проклятие Лжедимитрию.
Но едва успели останки царевича похоронить в Архангельском соборе, поползли новые слухи, что царевич ожил адскою силою, яко чародей. Чего тут было больше: веры в чудесное или жажды безначалия и надежды доискаться лучшей доли в этом безначалии? Вероятнее всего, последнее. Хуже всего, что народ начинал привыкать к безначалию. Василий был четвёртым царём в течение года. Люди привыкли легко приносить клятву, легко и нарушать её. Присягнули Фёдору Годунову, а через три месяца – самозванцу «Димитрию», ещё через несколько месяцев – царю Василию. А теперь и от Василия многие начинали отпадать. Люди не замечали, что становились клятвопреступниками. Клятвопреступление как бы вошло в обычай. Люди отпадали не только от царя, отпадали от церкви.
Первым эту великую опасность понял Гермоген. 3 июня 1606 года Поместный собор Русской Православной Церкви избрал его Патриархом Московским и всея Руси. Царь с любовью вручил Гермогену жезл святого Петра Митрополита, а Гермоген с любовью благословил царя. Оба понимали, в какое тяжёлое смутное время заключён их союз.
Дни пришли поистине роковые. Шаховской развернул сатанинскую деятельность, чтобы мятеж охватил одновременно Россию и Украину. Он писал указы именем Димитрия и прикладывал к ним похищенную им печать. Вот где сказалась его предусмотрительность, подтверждающая, что он действовал не один. Да, всё было предусмотрено заранее. И разумеется, не одним Шаховским. Неудавшийся заговор против России продолжался. Шаховской распространял слухи, что Димитрий в одежде инока до времени вынужден скрываться. Оправдывались слова одного поляка, сказавшего после убийства самозванца: «Вы хоть умрите от злости, а мы всё равно дадим вам своего царя!»
На этот раз мятежники действовали со свирепой жестокостью: вешали, распинали, сажали на кол, сбрасывали с башен. Честных людей, не желавших изменять царю, силой заставляли присоединяться к мятежникам. Верность царю называлась изменой, злодейство – доблестью, грабёж – справедливостью. Совершалось самое страшное, что может быть и что вело к нравственной гибели общества, – искажался смысл жизни, совершалась подмена понятий. На захваченных мятежниками землях люди отходили от прежних обычаев, ставили их ни во что. Если нарушение клятвы искони почиталось грехом, то ныне клятва не считалась за клятву. Над крестным целованием смеялись.
По всей стране распространялась зараза беззакония и своеволия.
Начались нестроения и в верховной среде. Одни из бояр были враждебны царю по личным родовым отношениям, другие, как князь Голицын, сами претендовали на престол и оттого готовы были ухватиться за любой предлог, чтобы восстать. Третьи были смутниками из желания перемен, особенно выдвиженцы, каких много появилось в правление Годунова.
Все эти люди не затрудняли себя поисками причин, чтобы быть недовольными царём Василием. Причины сыскались сами, когда Василий разослал в отдалённые пределы бывших приверженцев самозванца. Князь Рубец-Мосальский, дворецкий самозванца, был послан воеводою в Карелу, «великого секретаря» Афанасия Власьева послали воеводою в Уфу. Михайле Салтыкову дали начальство в Ивангороде, Богдану Бельскому – в Казани. И многих, неугодных царю, выслали в дальние города. Не замедлил подняться ропот среди их родных и сторонников. Царь-де нарушил свой обет не мстить никому лично. Но видеть ли в ссылке друзей и близких расстриги Отрепьева, врага отечества, личную месть царя? Не первый ли долг царя обезопасить державу от людей, которые стали бы ей вредить? Годунов упёк бы их в отдалённые монастыри под строгий присмотр приставов, а при Грозном их головы полетели бы с плахи. И никто бы не роптал. Будущее подтвердит, что все сосланные были злодеями своему отечеству.
Что было винить лихих людей да пришельцев на нашу землю, если сами бояре да дворяне были творцами смуты! Спасти ли мир в державе одним лишь оружием при такой раскладке сил?
И царь с патриархом стали искать, как очистить общество духовно, чтобы Бог всем людям подал мир и любовь. И оба порешили, что надобно для начала подвигнуться постом и молитвою к спасению души и прежнему благому соединению в мирный союз. А далее с людей надобно снять преступление крестного целования, ибо целовали крест царю Борису, потом царевичу Фёдору и крестное целование преступили, присягнув самозванцу. Людям надобно дать прощение и разрешить от клятвы.
После торжественного совещания с духовенством и синклитом определили позвать в Москву бывшего патриарха Иова для великого земского дела. В Старицу, где доживал свои дни престарелый Иов, послали Крутицкого митрополита Пафнутия с грамотой от Гермогена. Послание было кратким и написано в свойственной Гермогену энергичном стиле:
«Государю отцу нашему, святейшему Иову-патриарху, сын твой и богомолец Гермоген, Патриарх Московский и всея Руси, Бога молю и челом бью. Благородный и благоверный, благочестивый и христолюбивый великий государь царь и великий князь Василий Иванович, всея Руси самодержец, советовавшись со мной и со всем освящённым собором, с боярами, окольничими, дворянами, с приказными людьми и со всем царским синклитом, с гостями, торговыми людьми и со всеми православными христианами паствы твоей, послал молить твоё святительство, чтоб ты учинил подвиг и ехал в царствующий град Москву для его государева и земского великого дела. Да и мы молим с усердием твоё святительство и колено преклоняем, сподоби нас видеть благолепное лицо твоё и слышать пресладкий голос твой».
Иова привезли в Москву в царской карете. 20 февраля он явился в Успенском соборе на патриаршем месте в одежде простого инока, с выражением смирения и скорби на изрезанном морщинами лице. И только ниспадающая до самой груди борода в седых колечках волос да живой взор, с любовью обращённый к несметному множеству людей, заполнивших собор, напоминали о первом патриархе православной Руси. На него смотрели с надеждой и умилением. Помнили, как ещё недавно слуги самозванца подвергали его мукам и унижению, бесчестили и позорили. А ныне он явился, чтобы снять с них грехи вероотступничества и клятвопреступления.
Гермоген отслужил молебен, после которого народ начал просить прощения. Слова прерывались безутешными рыданиями:
– О, пастырь предобрый! Прости нас, словесных овец бывшего твоего стада!!
– Ты крепко берег нас от похищения лукавым змеем и пагубным волком, но мы, окаянные, отбежали от тебя и заблудились в дебре греховной...
– Восхити нас, благодатный ревнитель! Восхити от нерешимых уз по данной тебе благодати!
После этого Иову подали от народа челобитную, где народ молил именем Божьим отпустить ему грехи перед законом и Небом и клялся не нарушать присяги, быть верным государю. Просил прощения для живых и мёртвых, для присутствующих в соборе и отсутствующих, винил себя во всех бедствиях, ниспосланных Богом на Россию, молил Иова благословить царя и бояр и христолюбивое воинство, дабы одолеть мятежников.
Когда челобитная была дочитана до конца, в тишине ожидания под сводами собора неожиданно прозвучал чей-то сильный голос:
– Да восторжествует царь над крамольниками!
Затем патриарший дьякон читал с амвона грамоту Иова. Значительное место в ней занимали гневные слова о переживаемом моменте. Иов обличал ослепление россиян, прельщённых самозванцем.
– Я давал вам страшную на себя клятву в удостоверение, что он самозванец: вы не хотели мне верить – и сделалось, чему нет примера ни в священной, ни в светской истории...
Воздав хвалу Василию, царю святому и праведному, за избавление России от гибели и стыда, Иов продолжал:
– Вы знаете, убит ли самозванец, знаете, что не осталось на земле и скаредного тела его, – злодеи дерзают уверять Россию, что он жив и есть истинный Димитрий. Велики грехи наши перед Богом в сии времена последние, когда вымыслы нелепые, когда сволочь мерзостная, тати, разбойники, беглые холопы могут столь ужасно возмущать отечество.
И когда Иов именем небесного милосердия объявил прощение всем раскаявшимся в грехах великих перед Богом и отечеством, когда объявил им разрешение от клятвопреступлений – в надежде, что они не изменят царю законному и, одолев врагов, возвратят отечеству тишину и мир, – люди заплакали счастливыми слезами. Каждый чувствовал себя помилованным и верил в помилование России.
Иов умер, едва успев доехать до Старицы. Он был очень дряхлым девяностолетним старцем. И, говорили, не сразу собрался с силами, чтобы совершить далёкий для него путь в Москву. Но что значит душевная готовность к борьбе во имя истины: у него хватило сил осуществить свой последний подвиг на земле.








