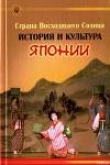Текст книги "Том 3. Корни японского солнца"
Автор книги: Борис Пильняк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 39 страниц)
Китай! – в каждом городе в Китае – своя власть, свои генералы и мандарины, за своими таэлями и тунзерами[1]1
Китайские деньги.
[Закрыть] и за своими винтовками, – впрочем, деньги в Китае – не принадлежат китайцам. В каждом городе свой банк, – и ханькоуские деньги не берут ни в Нанкине, ни в Шанхае, как шанхайские доллары не принимаются в Ханькоу и Нанкине. – Деньги! – кроме того, что у каждой провинции своя валюта иностранных банков, – в Китае в каждой провинции две валюты: для китайцев и иностранцев, – иностранцы живут мексиканскими долларами, «бигболыпими-мони», – китайцы же проживают на «смол-маленькие-мони» у китайцев в теориях существуют таэли, теоретические единицы в семьдесят семь российских рублей серебра, – но этих денег нет даже в подвалах банков, и китайцы живут на тунзеры и копперы. Доллар равен ста центам, – цент равен двум с третью тунзерам: ломпацо, тот человек, который везет рикшу, – во-первых, избегает брать центы, – а, во-вторых, вырабатывает за сутки пятнадцать-двадцать тунзеров, на кои и существует… Китай! – страна отчаяннейших горизонталей и тысяч сельскохозяйственных километров, – страна властей Чжан Дзолина, У Пей-фу, Фын Юй-сяна, Фань Ши-мина, Сун Чуан-фана, – кантонцев. – Страна – Пекина – Шанхая – и той фанзы, которая стала на скате холма у могилы Сун Ятсена. – Страна феодализма Коу Ин-дзэ и коммунистических советов профессиональных союзов Кантона и Шанхая.
Глава вторая
…Жара! жара! – маманди… Неимоверная жара, ужасная жара… —
Нас – трое: Локс, переводчик Крылов и я. Наш дом стоит в комфортабельности международного квартала, за почтительной стеной лакеев-боев, в английском регламенте, в рефрижераторном холоде, в белизне жалюзи. Мы трое – русские, – в этом трехмиллионнолюдном городе: – нам одиноче, чем в пустыне, – потому что в этом одиночестве надо по вечерам надевать монкэ-фрак. Нас – трое: четвертые, пятые, шестые – это мои вымыслы, рожденные в палительном удушье. У меня и у Крылова впереди дороги.
У меня: – должен прийти русский пароход и понести меня на Сингапур, Индийским океаном в Аден, в Порт-Саид, в Константинополь – в Москву. Я справляюсь, где мой пароход: про него ничего не слышно, – мне говорят, что на днях идет пароход в Сиам, и меня сбивают пока съездить туда, – хотя и может случиться так, что мой пароход придет, пока я буду в океане. Самое главное, что я чувствую – это страшную усталость: мои мозги переералашены теми десятками тысяч километров, которые остались позади, – на фотографическую пластинку нельзя снимать сто раз подряд, – мои мозги негодны, как такая фотографическая пластинка, – мне хочется сесть, молчать, ничего не видеть, никого не слышать, – на кой черт сдался мне Сиам! —
У Крылова: – уехала жена, – он должен ехать вслед ей, в Россию, в Москву, – он ждет грамоты. – Вот он пришел ко мне, сел в кресло, откинул назад волосы, лицо его потно, – протер очки, – он сказал:
– Я ничего не знаю про жену, как она едет, благодаря ее халатности. Я знаю, что она человек аккуратный, – и я думаю, не случилось ли чего?
У него очень хорошая жена, милый и верный друг, – я говорю, что ничего не может случиться. – Бой приносит нам содовую воду.
Каждый вечер мы надеваем монкэ-фраки и автомобилем едем за город – есть мороженое и часами мчать на автомобиле по пальмовым рощицам, ибо только в этой ночной традиции можно дышать. Через день я выезжаю на банкеты.
«Маманди!..» – Эти два дня я понимаю, что такое тропическая жара, когда тело поистине плавится. Дни приходят, как им велено. В Китае – кажется – померла религия: вчера впервые видел живую кумирню, где нельзя дышать от курений. – …Сингапур, Гонконг, Индийский, Баббель-Мандеп Черное Суэц. Голова на плечах – по есенински – готова осыпаться – никак не смертью – хмелем жатв, мужества и, быть может, усталости.
28 июня.
Льет проливной дождь, – ночью в этом дожде, душном, как банный полок, мигали молнии и громыхали громы: днем громов не слышно за гулом города. Все в дыму и водяной мути. Москиты роями летают по комнатам, – мы жжем противомоскитные свечи, от которых дохнут москиты, но можем сдохнуть и мы.
Мне предлагают плыть в Сиам.
Крылов второй день ждет телеграммы. Пришел, покурил, сказал:
– Глупо посылать телеграммы, когда не знаешь, куда их слать, – когда шлешь их, в сущности, в пространство.
4 июля.
Зной!.. – нет, не точно: зной – это палящее, жгущее. – Баня, – банный полок: мы живем в бане. Город лежит в дельте Ян-Цзы, тропическое палит сверху небо, китайский дракон: воздух так густ теплым паром, что утолением жажды нельзя охладить организма: пот стекает ручьями, не испаряясь, не охлаждая, – мы в мокром бульоне своих тел. Бой в рефрижераторе изготавливает ледяные шарики, бросает их в ледяную содовую – и мы пьем десятками бутылок в день. Нельзя принимать холодную ванну, нельзя мыться холодной водой: после холодной ванны – сейчас же тепловой удар, головная боль и рвота, – после холодной воды – нарывы на теле. Чем горячей ванна – тем легче после ванны. Руки и голова опускаются в обессиливающем, деморализующем удушье. Солнце на небе – блеклое, в клубах пара, и ночью температура жары не падает, – но по ночам прилетают москиты. – Всю прошлую неделю я провалялся: есть такая традиция под этим солнцем, что каждый, чтобы примениться к зною и сырости, должен перехворать животом. Наши платья спрятаны в цинковых гардеробах, чтобы не плесневели: если забыть кожаные ботинки на три дня, они покрываются зеленой плесенью, – все в плесени, все в сырости, все в сырости, все течет, – так же текут и мозги. В России, чтобы представить эту жару, надо переселиться жить на неделю в баню – на банный полок.
О «Трансокеанике» – нет никаких вестей. В конторе пароходства полагают, что он придет только к августу, – тогда я в Москве только к ноябрю, – ужасно!.. – Все же через Сибирь возвращаться я никак не хочу.
Крылов послал сразу пять телеграмм – в разные адреса. Говорил мне: – «Жена всегда клялась в преданности, о разлуке говорила, что это скучно, не нужно, одиноко и прочее» —
5 июля.
Сейчас ходил в контору пароходства. Мне сказали, что «Трансокеаник» прошел мимо, – сейчас он около Сингапура. Следующий пароход – «Октябрь» – придет в сентябре-августе. По-китайски это значит – «маманди»! —
8 июля.
Крылов показал текст телеграммы: «– молчание считаю возмутительным требую объяснения». – Это было утром, а вечером он показал мне письмо.
«Я не понимаю твоего молчания и нашей манеры переписываться, если можно так назвать мою безответную бомбардировку письмами и телеграммами. Я получил от тебя последнюю записку, помеченную 19 июнем. Я подсчитал, когда мои письма и телеграммы дошли до тебя. Я следил по газетам, от какого числа они дошли сюда из Пекина. Я до сих пор не знаю, в Пекине ли ты, или пробираешься в Калган, чтобы через Монголию ехать дальше? – Я не допускаю такой халатной случайности и небрежности. Я вынужден думать, что к молчанию у тебя есть причины. Я знаю тебя прямым и честным человеком, ты здорова, – стало быть, тебе трудно сказать мне что-то, или что-то там еще. – Но вот, что я хочу тебе сказать: всего тебе хорошего, всего хорошего, если эта наша размолвка катастрофична, – всякого тебе счастья. Больше я писать не буду, потому что не нахожу нужным мучиться и ходить в непрошенных татарах». —
Я сказал:
– В письме есть неточная фраза, – вы написали – «всего хорошего, если эта наша размолвка катастрофична», – ну, а если никакой размолвки нет, разве тогда отпадает хорошее? —
…если по глобусу провести пальцем от Порт-Саида на восток к берегам Великого океана, то наткнешься на город, имя которому – для меня: – «Маманди!» – Субтропики. Сеттльмент.
Ночь. Там, на севере, – там в России, – никто не знает, что такое тропическая жара, когда мокнут спички и табак, покрываясь, как мои мозги, плесенью, – когда надо вдобавок ко всему спать в москитнике и зажигать около себя от москитов свечи, от которых нечем дышать. Сейчас сижу, подставив эту свечку под мой стул, дым лезет в пижаму. Наш дом в тишине «международного квартала». В первые дни моего приезда ночами мы ездили за город в загородные рестораны – есть «айс-крим-сода» и «амэрикэн-гэрл» («американскую девочку») – разновидности мороженых. Сейчас у нас установился режим уездного монастыря, с постелью в одиннадцать. И сегодня, сходив поужинать «скияками» в японском чайном домике – японским шашлыком в японском ресторане, где люди сидят и едят на полу, – в одиннадцать мы разошлись по комнатам, – и я лег, и читал, и свет тушил.
И вот встал, потому что не спится.
У каждого человека должно быть свое хозяйство, – у меня есть свое: в чайном домике вечером неловко сбросил пепел с сигареты, и мундштук упал в пепельницу с водой (английские сигареты, раз закурившись, никак не потухают), – мало ли кто бросал окурки в эту ресторанную пепельницу и плевал в нее, – а мундштучок этот, старенький, я вывез еще из Москвы, и он мне дорог хорошею памятью. И вот сейчас, прежде тем сесть писать, я ходил в ванную, мыл мундштучок всячески, сейчас он лежит передо мною в китайской чашке, мокнет в одеколоне, – одеколон стал коричневым… На окне у меня, не знаю, как появилась несколько дней тому назад, – должно быть, новорожденная, маленькая, красная, без шерсти, – мертвая летучая мышь! – я не сбросил ее и наблюдаю, как ее ест солнце, поистине ест на моих глазах, – через несколько дней останутся одни кости.
…Фу, как испугался!., писал сейчас наклонившись, и услышал тихий шум, – поднял голову и увидел большую летучую мышь, она летает под потолком, большая, каких не бывает в России, – нехорошо, неприятно быть в одной комнате с этим чужим животным. – Села на гардину. – Опять летает.
…Какая ерунда! – прилетела и спугнула мысли…
Ну, да. Через несколько дней от маленькой летучей мыши останутся только одни кости. Тогда я соберу их. Так ест солнце.
И еще – тоже мое «хозяйство». Прежде, чем сесть писать, был на терраске, а вернувшись, просматривал костюмы, нет ли зеленой плесени? – Наш дом покоится торжественностью тишины. Наш дом стоит на берегу канала, как раз в углу, где Нанкинский канал сливается с рукавом Ян-Цзы. На канале, на воде – сотнями в ряды стоят шампуньки, маленькие китайские лодочки, в которых живут китайцы. Я стоял на террасе, и с трех больших сампан, тех что с мертвецами, пахнуло сладким удушьем трупины. – Непонятно, когда китайцы спят. – Сейчас прерывал писание, – тушил свет, прогонял мышь, – выходил на террасу. Прилив, и вся река воет китайскими голосами, и вся река в тысяче – тысячах – ползущих китайских цветных фонариков. На террасе – нельзя стоять от сладкого удушья трупины. Таинственная, такая, которую я никогда не узнаю, творится на реке жизнь!..
…Знаю, – завтра проснусь в испарине, разбитый жарою, с кислым ртом, – в постель бой принесет содовой со льдом и апельсинов (тут растут, рядом, – что хочешь тут растет!), – полезу в горячую ванну, сяду до часа – до обеда – за бумаги, – а в два, когда все колется и летит до обморока к черту от жары – пойду – поеду на рикше (ломпацо в эту жару бегают быстрее московских извозчиков, – невероятно!) – в китайское кино-ателье, где меня будут снимать для китайского «кино-глаза», – собственно, не в ателье, а в китайские переулки.
Думаю о России, о доме. Приеду и: закажу визитную карточку – «Б. А. такой-то, бывший писатель», – сам же задвинусь куда-нибудь подальше от Москвы, поступлю в кооператоры, инструктором, пропахну проселками и махоркой: – но – о кооперации писать не буду, а напишу о человеке, смерти и любви – так, чтобы это было тверже жизни. Думаю о гибели одного китайского рабочего, матерьялы которой попали мне в руки. Китай!.. – рядом с драконами здесь мощнейшие фабрики (был днем сегодня на одном местном лесопильном заводе, где у каждого станка свой двигатель, где все движется электричеством, подаваемым из-за сотни верст, – образцовейший завод!). Рядом с феодализмом, мандаринатом и маршалами – синдикалистические движения рабочих, профсоюзы, стачки, демонстрации, революция, коммунизм. Рядом с китайцами, живущими на шампуньках, отэль Маджестик, такой, равный которому есть только в Нью-Йорке. В порт приходят каждый день – каждые сутки – до ста пароходов океанского тоннажа, – это крупнейший порт на берегах Великого океана. Кругом города сотни заводов. Город утопает в мокром удушье дыма и трупины. – Непонятно, когда китайцы спят. – Кабаки тянутся от Маджестика, в ресторанном зале которого тропические заросли и прохлада фонтанов, где сутки стоят сотни долларов, – до китайских опиокурилен, где женщина и трубка опия стоят одинаково – тридцать тунзеров, семь с половиною копеек: этот ночной город загажен «белыми», белокожими, матросами, пришедшими с моря, местными колонизаторами и пиратами, живущими на концессиях, – в этом ночном городе множество «белых» проституток – и эти: суть жены и дочери российских эмигрантов. На сеттльменте, где живут белые, где делаются деньги, только эти деньги и есть, все продается и покупается, – все: и первым делом – женщины… – Ах, как деранет по всему этому кантонская революция, – несмотря на то, что на каждом углу здесь стоят по три полисмена-индуса, – ах, как холодновато-весело смотреть на китайцев, которые неминуемо должны задвигаться – не маршалами, а революциями!.. – и – вот, об одном рабочем, вылезшем на улицы с шампунек и расстрелянном здесь (или задушенном, – неизвестно), – и думаю я. Имя этому китайскому рабочему, библиотекарю, студенту – Лю-хфа.
…Но, в сущности, все это – не обо мне. Я себя чувствую очень нехорошо. Я очень устал. Мне бы теперь домой, в Россию, на печку, в мысли, в книги, в тишину – и подальше, подальше от этой нестерпимой жары, ужасной, мучительной (сижу сейчас, в три ночи, голым, снял пижаму, выпил содовой, сосу лед, – и пот ручейками стекает с меня), – от этих москитов, – и от того колоссального, жестокого одиночества, которое есть сейчас у меня в сердце. Сижу, как идиот, у моря, поджидая… парохода! Я обсчитался, – мой пароход прошел мимо: – когда я узнал об этом, я побежал к себе, чтобы складывать чемоданы и сейчас же ехать домой через Сибирь, – но выяснилось, что и во Владивосток я могу добраться только через месяц, – а та дорога, которой я приехал сюда, сейчас прервана не то Чжаном, не то Фаном, не то У. – в Дайрен билеты распроданы до конца сентября. Тише едешь дальше будешь, – совершенно верно!..
…Черт его знает, ночь, что ли, путает!.. Да, так вот! надо провести пальцем от Порт-Саида на восток к Великому океану, этак примерно на треть земного шара, – там есть город, в котором сейчас ночь. За окном горят в сизой туманности и мгле огни небоскребов и бумажные фонарики канала. И непонятно, откуда эта банная сизость ночи, – от жары, или от того, что будет скоро рассвет. Летучая мышь – самое главное этой ночи. Жаль, наши бабушки перемерли, – они знали, к чему по ночам летучие мыши?
…и опять ночь, не спится.
Вчера была гроза, невероятная гроза, громы гремели пушками, – нигде, никогда такой не слыхал, – и улицы залило так, что ломпацо ходили по колена в воде. Меня не было дома, – был у китайцев, – пришел домой и увидел, что грозою смыло с окна мою мертвую летучую мышь: поэтому купил утром сверчка, – у китайцев продаются, в клетках, как птицы, – сверчки; китайцы разбираются в качествах их пения; я купил сверчка, – должно быть, дикого, потому что он не поет при свете и при мне; я наложил ему банана и поставил под диван, – и сейчас прислушиваюсь к нему: когда щелкает машинка, он перестает петь, – когда я затихаю, он начинает стрекотать.
Как меняются масштабы и аршины, – и – как все относительно!.. Всему миру Китай кажется фантастикой, – мне он кажется таким, когда я вспоминаю, что я русский, что я должен «смотреть», – – а так, по-житейски, я ко всему привык, все мне надоело. Это к тому, что сегодня был хороший день, хороший, как хорошим мог бы быть какой-нибудь московский, на Воробьевы горы, пикник. С соотечественниками сегодня утром мы взяли моторбот и поплыли на взморье, посмотреть на Великий. Туда плыли два часа, оттуда три, там обедали. Все время мы обгоняли джонки и сампаны, нас обогнал «Эмспресс-оф-Канада», один из тех шестидесятитысячетонных пароходов, на которых американцы делают прогулку вокруг света сроком в шесть месяцев, громада, на которой людей живет больше, чем в Коломне. Я валялся на дэке (и сейчас у меня от солнечного ожога болят руки и лицо) – под солнцем, на ветру, думал по ветру. Странная вещь: мысли, как булыжники, – каждой самого себя могу придавить, – бриз же был пустяковый – и все же командовал над мыслями. И потом обедали на взморье: кругом Китай с голыми детишками, в невероятной нищете, – ив нищете, под пальмами– английская ресторация, в английской чопорности, медлительности, сода-виски, кариэн-рис, в женщинах, как воблы, в мужчинах, понявших все на сто лет вперед. Океан накатывает волны, гудит прибоем, синий-синий, – в океан проваливаются пароходы. Приехали усталые, пропахнувшие морем, ужинали, мылись, я занимался со сверчком, – лег спать, тушил свет, – и вот – пишу…
Ничего не знаем мы в России о Китае! – и странно смотреть, в эти дни, когда мы живем, как миры национальных культур выплескиваются за свои заборы, как по земному шару идет, уравнивая, геометрическая форма – и формула – шара. – Вчера с двух дня до полночи я был у китайцев, на кинофабрике, причем на этой же кинофабрике поместилась и редакция толстого одного китайского журнала, лево-фронтового, «Южная Страна». Это было в китайском городе, в китайском доме, в саду и в комнатах. Из всех стран, мною виденных, Китай больше всего похож – на Россию, на заволжскую, моей русской бабушки Россию, – даже кушаниями, несмотря на то, что здесь едят и лягушек (англичане, из «человеколюбия», судят китайцев в своем суде, если улавливают китайцев за ловлей лягушек на их, английской, «территории»), – и щенят, и ласточкины гнезда, и водоросли, и тухлые яйца. Не случайно и Китай, и Россия были под монгольским игом. У меня для Китая два аршина – Россия и Япония (в скобках: изо всех иностранных культур японская культура оказывает самое большое влияние на китайскую – современную, – лучше всего знают в Китае литературу – японскую, – китайская интеллигенция ездит учиться – в японские университеты, – самый распространенный иностранный язык – японский, – самые распространенные иностранные журналы – японские… скобки закрыты). После Японии, я все время натыкаюсь на Россию. Там, на кинофабрике, был организованне знаю, как назвать, – пикник, что ли, – потому что люди располагались и в доме, и в саду, приходили, приезжали на рикшах и на автомобилях, знакомились, здоровались, пили, ели, уезжали. Европеец там был только один – я. Киносъемили меня во всяческих видах. Говорили мы: на русском (ни одного человека, кроме моего переводчика, китайского писателя Дзяна, да меня самого, не было говорящих по-русски), – по-английски (очень многие, почти все), – по-японски (почти все), – по-немецки (человек десять), – по-французски (человек десять). Были: профессора, художники, писатели, актеры, музыканты. Народу было – ну, человек шестьдесят, не меньше: во всяком случае, ужинали в трех комнатах (по-китайски, палочками). В Японии – женщина до сих пор раба и ползает на четвереньках, даже жена профессора-западоведа: – здесь – очень похожа на дореволюционную Россию, – даже в углу сидел табунок курсисток, сначала глазевший на «знаменитостей» и благоговейно собиравший визитные карточки, – а потом, после ужина в отдельном уголке, утащивший бутылку с вином, распивший ее потихоньку и распевавший свои песни муравьиными голосами, – ну, точь-в-точь, как моя сестра с подружками на первом курсе. Сначала все лица китайцев мне казались на одно лицо, – теперь я в них разбираюсь так же, как и в европейских, – и очень хорошо понимаю в китайской женской красоте: так вот, наблюдал, как одна курсистка «сознавала» свою красоту, милая девушка и – поистине красавица!.. Жены писателей, актрисы, поэтессы (их было две) держатся – ни дать, ни взять – как наши актрисы и жены, – как, например, у меня на именинах, если бы именины были устроены на травке в саду. Да так, в сущности, и было, – только все были в своих национальных костюмах: – подавляющее большинство женщин в штанах, а мужчин в юбках. – Снимались. – Гуляли по саду. – Снимались. Откуда-то появилось винишко. Я на помеси англо-французско-немецкого говорил о культурах Востока и Запада, о Кантоне (который здесь собравшимися считался единственной здоровой китайской государственностью), – о маршалах, – о братстве русско-китайских культур, – о том обществе, которое я затеваю здесь, – о Китае-русском обществе культурной связи, – о «Китрусе», как называю я это общество про себя. Актеры пели, музицировали, декламировали, – если так можно выразиться о китайских способах петь и музицировать. Другие – спорили. Третьи – главным образом киноактрисы, – фокстротили и чарльстротили. Выпивали. Потом была гроза. Это было вечером, я стоял на терраске – и, ей богу, поплакать хотелось от красоты рваного в молниях неба и в реве громов… Ну, так вот, выпивали все, и мужчины, и женщины, – одного писателя вытащили на шэз-лонге под ливень, чтобы прочухался, – а ко мне на терраску пришла актриса (в Америке училась кинема-действу), – уравновесилась около меня, взяла мою руку, – сказала: – «май бонэ!» – и: стала целовать мою руку, укусила до синяка. Я сквозь землю согласен был провалиться, – глазами соседей сзывая, – моего переводчика спрашивая: – «что мне делать, Дзян!?» – Дзян посовещался, сказал, что муж ее полагает, что ничего, пусть целует, – потом отнесем ее под дождь. Тут она меня в щеку хотела поцеловать, – я убежал, – она рассердилась, сердито говорит, по-китайски, – я ничего не понимаю, я к переводчику, – Дзян сказал, что совсем не сердито, что таким голосом говорят комплименты (вообще, по интонации голоса европейцу ни за что не понять – ни китайца, ни японца: кажется, говорит грубости, оказывается – комплимент, – говорит, сладко улыбаясь, оказывается неприятность!), – Дзян сказал, что актриса намерена приехать ко мне с визитом, – а пока дарит свою фотографию. Действительно, она подарила мне семейный портрет: ее с мужем. – Китайцы вообще – не целуются, это вне их традиций: – актриса сделала это по «европейской вежливости», спутав, должно быть, обстоятельства – кто кому должен целовать руки; поэтому и муж ее не сердитствовал: – «Европа, мол, так Европа, – надо подчиняться этикету!» – Потом мы пили водку, китайцы пьянеют так же, как и русские: обнимались и великим смешением языков говорили бестолковые приятности. До автомобиля меня вели – в последождном мраке и лужах – точно в «кучумалу» играли – человек двадцать, держась друг за друга, чтобы коллективно стоять.
…ничего не понятно россиянину из того, что я только что написал, потому что россиянин не представляет китайских лиц, китайских домов, китайской вежливости, – того, что китайцы ходят с веерами (и я тоже), – потому что ступни ног, эмоции лица, костюмы у них совершенно не похожи на наши, – потому что музыка их невероятна на наше ухо, а поют они – отвернувшись, лицом от слушателей, лицом к стене, – а декламируют (женщин ведь в китайском театре играют мужчины!) с твердокаменными лицами – под маски – такими тонкими голосами, которые – неизвестно, где у них родятся.
Да, я уехал от них. Приехал домой, в тишину сеттльмента. Поболтал с Локсом. – Приехал я домой в час (и мрак) прилива, когда особенно кричат на канале китайцы. Стоял на террасе, слушал, одиночил, думал. Вдали полыхали молнии. – Потом ходил осматривать мое хозяйство: увидел, что исчезла мертвая летучая мышь: еще меньше стало мое хозяйство… И опять бессоничаю.
Приходил доктор, и я прерывал писание. – Доктор сам правит автомобилем и, проезжая мимо, заезжает выпить содовой, обменяться случайными новостями. По специальности доктор – сексуалопатолог, сексуалопсихолог, – не знаю, как назвать, – сексуальная психопатология – его специальность. Доктор рассказал бывший у него сегодня в практике случай, – и разговор пошел о половой жизни людей. Разговаривали – мы трое и он, – о том, что множайшие тысячи людей несчастны именно благодаря безобразию половой жизни, даже в браке, – благодаря брачному онанизму, возникающему и в несоответствии половых темпераментов, и потому, что теперешняя структура брака заменила понятие полового акта, как акта рождения, понятием акта – наслаждения, избегая детей, прибегая ко всяческим противоестественным приемам, дезорганизующим все – и психику, и здоровье, и радость… Крылов молчал, не дослушал доктора, ушел к себе, – и вернулся только тогда, когда доктор уехал. Мы с Крыловым вышли на террасу. Он сказал мне:
– Доктор говорит мерзости. Я сейчас сидел у себя, один, и мне представилось, что у меня с Катериной – ребенок. Я не знаю, кто он, мальчик или девочка, – но всего меня пронизало счастье, огромное, прекрасное счастье отцовства, разделенного с любимой женщиной.
– Как раз об этом говорил и доктор, – сказал я.
…Бой пришел приготовить на ночь постель, поднял с полу бумажку, развернул, посмотрел, бросил за ненадобностью. У боя замечательное, всегда безразлично-любезное, лицо, на которое я каждый раз внимательно заглядываюсь, – и каждый раз, когда его нет перед глазами, забываю так, что мучусь, не вспоминая, иду смотреть, вижу его безликие непроницаемые глаза, его непонятную улыбку, его скулы и зубы – и мне делается непокойно, я расспрашиваю его о его детях и прошу его дать содовой; – ухожу, – и опять мучусь непонятностью его лица.
Никогда, никогда не забуду я ночных наших поездок за город на автомобиле, когда автомобиль рвет пространства прекрасных шоссе между незнакомых деревьев, между пальм, в этих тропических ночах, когда, если бы не фонарь, не видно было бы в двух шагах. И странная тогда поднимается луна, – должно быть, прекрасная, если бы не было мути удушья и сырости, она кажется ненужным куском синей тряпки во мраке беззвездного, защемленного неба… Иногда автомобиль влетает в стаи летучих светлячков, они разбиваются о стеклянный щит автомобиля, сползают вниз и, мертвые уже, все еще светятся фосфорическим своим мертвым светом… Так машина и мои мозги гонят ночные километры.
…нет, даже во сне я не знал, что такое жара! Сейчас восемь утра, – а я уже повесил сушиться два платка, которыми утирал пот, чтобы не закапать бумагу, – рубашку на мне можно выжимать. Солнца не видно, оно в той бульонной мути, которая облепливает город и меня вместе с ним. Ужасно, – ужасно чувствовать себя все время в бульоне своего собственного пота. Нам, европейцам, делать ничего нельзя, – и мы ничего не делаем, изнывая от жары, сидя под фенами – ветродуями, похожими на аэропланные пропеллеры, – во всяческом, окончательном маразме. С канала тянет трупиной. Мысли липнут от пота, невозможно думать.
11 июля.
Крылов показал мне письмо.
«Катеринушка, родная!
Позволь мне на бумаге разобраться в моих чувствах, для того чтобы отогнать от себя кошмар этих дней. Ты знаешь объективные условия моего пребывания: неувязку с откомандированием, усталость, одиночество, неопределенность, зной, – все это пустяки по сравнению с тем, что я передумал о тебе, как я тебя перелюбил и перестрадал.
Да, у меня были и есть – очень большая любовь, очень большая боль и – очень большая злоба.
Со злобы я и начну, потому что, как ты хочешь, а твое поведение я считаю возмутительным, абсолютно свинским, всячески. В чем дело? – я шлю телеграммы от 24 и 27 июня, от 2, 4 и 6 июля, – ясно, что нервничаю, ясно, что сижу в неизвестности, – молчание. Письма я слал исключительно заказными, не дойти не могли, – я высчитал, когда они пришли. Ты получила письма – от 17, 20, 22, 24, 28 июня. Ты не удосужилась написать целых две недели с половиной – от 19 июня до 5 июля. Черт знает что такое! – ибо, если ты скучала, стало быть, времени много, – а если веселилась, туриствуя, могла бы уделить время. Тем паче, что в Пекине ты раньше меня узнала, что моя откомандировка задерживается, – стало быть, не увидимся долго, – могла бы запросить телеграммой!.. Этак пишет послание через пятнадцать дней, через полмесяца, и не находит нужным спохватиться, объяснить молчание, а – потом, через два дня и через третьи лица, находит нужным справиться о моих проектах. Пишет этакую лирическую белиберду о кружевах, до которых мне меньше, чем до китайского снега, которого не бывает, – а потом приписывает – „ну, родной мой, все тебе изложила, что позволила моя мигрень, – если что забыла, то по этой же причине, т. е. мигрень“, – а в телеграмме – „больно тона твоей телеграммы“… – А где ты была от тонов моих прежних писем, канувших, как горох в стену?! – черт знает что такое!.. Крокодильи слова пишет под классиков, – зачем, мол, расстались? – и умолкает на полмесяца. Письмо налила водой на шесть страниц и не удосужилась строчкой обмолвиться – получила ли мои письма, нет ли? – Ведь я додумался следить за тобой по газетам, по числам их отправлений, – но из газет, к сожалению, многого не узнаешь!..
Что все это значит? – я не сплю ночей, хожу сам не свой, мучаюсь, унижаюсь, прося третьих лиц сообщать мне о тебе, роюсь в догадках, ничего не понимаю, выдумываю тысячи выдумок. Решаю: случилось что-то, что не дает тебе возможность говорить со мною, заставило тебя запереться от меня, – случилось что-то катастрофическое, что ты находишь нужным замолчать, – доколе!? – и я пишу тебе письмо, где прощаюсь с тобой, всю мою силу собрав, чтобы оправдать тебя, чтобы решить, что – раз так случилось – стало быть, так и надо, потому что ты честный, чистый и хороший человек, и никто не волен на волю другого. Я тогда мучился своею злобой, – и писал в том письме, что благословляю тебя, всего хорошего желаю тебе, счастья, – а сам всю ночь просидел на террасе: это, ведь, как хоронить любимого умершего, – еще хуже, – потому что я впервые понял, что такое ревность – мерзкая вещь, звериная. Просидел ночь, всю волю собирая, чтобы изгнать злобу против тебя, – чтобы себе оставить всю боль, а тебе отдать всю радость. Очень трудно и больно. Но этим я и жил эти дни.
Ну, а теперь – пункт третий. Ты письмо это внимательно прочла? – правда? – тогда можно и не говорить, как я люблю тебя… Ах, люблю, люблю, – и не знал, что так люблю, и не знал, что так ты вросла в мое сердце, и не знал, что вырвать тебя из сердца – сил нет никаких, родная, милая, единственная, прекрасная. Сердце сейчас у меня спокойно, я хоть столетья буду ждать тебя, мечтать тобою, – мой путь к тебе будет путем аргонавтов за золотым руном твоих рук, твоих глаз, родная, родная: любить, мечтая, оказывается, совсем не хуже, чем любить, лаская».