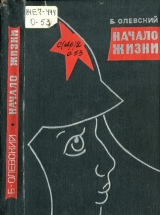
Текст книги "Начало жизни"
Автор книги: Борис Олевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)
КУДА ДЕВАТЬСЯ?
Вот как бывает на свете! Только что я выступил с речью, а сегодня меня выставили за дверь из помещения комсомольской ячейки.
Сейчас мне некуда деться, и я завернул к дедушке. Он не разговаривает со мной с самого Судного дня. Увидев меня, он даже сплюнул с досады, ведь из-за меня он рассорился с матерью.
Зато он крепко подружился с дьяком. Все устраивает с ним менки: дает ему масло, а дьячок – свечи. Мы никак не поймем, на что ему столько свечей и простыней. Мама говорит, что он спит вовсе без простыней.
Как я уже говорил, мы живем все вместе. Дедушка уступил нам свою большую комнату с двумя покосившимися окнами, а сам перебрался в маленький домик. Крыша над его домом высоченная, заросла мохом, и к передней стене спускается большим карнизом, который поддерживают две почерневшие подпорки. Когда идет дождь, весь базар сбегается сюда укрыться. Вот почему около нашего дома постоянное оживление.
Отец очень доволен этим. Но, как он говорит, дому надо было бы произвести небольшой ремонт, сделать покрепче потолок, обновить крышу, а если бог даст лишних несколько рублей, перекатать стены.
Но боже сохрани услышать это деду! О доме при нем нельзя вымолвить и слова. Целыми днями он чинит свое хозяйство – подсыпает земли к завалинкам, подпирает дрючками стены своего хлева. Дед заявляет, что пока он еще у «нынешних» не видел лучшего жилья. Это он из-за меня фыркает на «нынешних».
Но вот совсем недавно с ним произошла перемена. Как-то утром он пошел по воду, но не смог вытащить ведра из колодца. У сруба стоял красноармеец и держал двух коней в поводу. Красноармеец помог деду вытащить воду, донес ее до самой калитки и даже ласково назвал его дедусей.
Дедушка так часто рассказывает об этом, что люди уже бегут от него. И всякий раз дедушка изображает это происшествие по-иному. Последний раз он уже рассказывал, что красноармеец вошел в дом и упрашивал его: «Дедушка, может, тебе еще принести воды?»
Вот благодаря красноармейцу мы и помирились. Мама по такому случаю испекла гречневые коржи.
Вечерами у нас очень тоскливо, и я стараюсь не бывать дома. Прихожу домой только поесть и поспать. Но сегодня вечером мне некуда деться. В комсомольскую ячейку, где можно поиграть в политфанты и в шашки или так просто посидеть и поболтать, сегодня не пускают. Там музыка и народу полным-полно. Если б не дождь, я бы рад даже под окнами ячейки постоять.
Мокрый до нитки и весь грязный, я только что вошел в дом. Мне, конечно, обидно. Отца впустили. Зайвел, курьер райисполкома, просил даже прийти дедушку и мать. А меня, который уже выступает на митингах, меня, приятеля Бечека, он не пустил.
Я стал напирать, но он разозлился и столкнул меня с крыльца только потому, что мне еще нет восемнадцати. Сегодня в помещение ячейки могут входить лишь достигшие восемнадцатилетнего возраста и старше, потому что там выбирают местечковый Совет. И говорят, Бечека выберут председателем.
В ячейке сегодня горит столько ламп, что даже на улице светло. За окном сверкают косые нити дождя и поблескивает хорошо размятая грязь.
Я дождался на улице Бечека и кинулся к нему, уверенный, что он тотчас проводит меня на собрание.
– Бечек! – ухватил я его за руку, чтобы все видели, что мы с ним приятели.
Но Бечек совершенно рассеян. Он переспрашивает меня несколько раз одно и то же.
– А? Что? Что значит – не впускают! – говорит он и смотрит на меня. – Не понимаю… Что такое? – Он слюнявит потухший окурок и в конце концов оставляет меня одного у дверей.
Мне становится стыдно. Заборами, чтобы никто не приметил, как я позорно отступаю, плетусь домой по темной, грязной улочке. Остервенело льет дождь, но я не спешу. А в темноте меня, как назло, преследуют звуки музыки. Я страшно зол, и все плачет во мне от досады.
Мама сидит и щиплет перья. На наших деревянных кроватях уже такая гора подушек, что и лечь негде, а она все заготовляет перья.
– Ошер, отчего так рано? – спрашивает она.
– Так! – отвечаю я. – Не люблю сидеть и смотреть, как выбирают местечковые Советы.
Принимаюсь ходить из угла в угол и насвистывать. Это я притворяюсь веселым. Разбрасываю и снова складываю свои книги. Но чувствую, что мама глаз с меня не сводит.
– Где ты так вывозился? Дрался, что ли, с кем-нибудь?
И хотя мама говорит это тихо и знаю, что она хочет меня успокоить, я именно поэтому начинаю сердиться.
– Щиплешь, ну и щипли! – кричу я.
И хотя мне уже жалко мать, но я не хочу, чтобы она видела, что я раскаиваюсь, поэтому ложусь на кушетку спиной к матери. Чувствую на себе мамин испуганный взгляд. Чувствую, что она перестала щипать перья. Слышу, как шипит лампа на столе и в кухне однообразно циркает сверчок.
– Ошер! Чего ты бесишься? Что с тобой?
Но я не отвечаю. Я придумываю всякие нелепости, всякие обиды, чтобы удержать в себе гнев. Знаю, что это плохо, что мне не следует причинять матери боль, но не могу признаться в этом, потому что не хочу, чтобы мама думала, что я ей уступаю.
Точно бес сидит во мне. Совсем недавно я оскорбил учителя. Буля рассмешил меня во время урока. Учитель прикрикнул и велел мне выйти из класса. Но так как я был не виновен, то ухватился за парту и заявил, что не пойду.
Голда после этого позвала меня в учительскую и сказала, что за такое поведение она велит исключить меня из состава товарищеского суда. Я ей ничего не ответил, вышел и не извинился. Слышал лишь, как она сказала учителю: с таким надо быть постоянно настороже, в таком возрасте начинает вырабатываться характер.
Я хорошо вник в ее слова и после этого всем рассказывал, что у меня уже есть характер. Хотелось бы только знать, что это такое, так как то, что Голда назвала характером, мама зовет упрямством.
Мама говорит, что я «очень уж горький». Даже Рахиль, с которой я веду себя лучше, чем с кем-либо, говорит, что я ломака. Но я не ломака, а только до смерти боюсь, как бы надо мной не смеялись. И поэтому я часто делаю все наоборот. Потому-то я и с Рахилью суров: боюсь, что она догадается, что я совсем другой, и посмеется потом.
Мама, я знаю, смеяться надо мной не станет, она меня не оскорбит. Но я не хочу поддаваться. Вскочив с кушетки, я прижимаюсь лицом к стеклу. Свет жестяной лампы на столе делает еще черней залитые стекла и поблескивает в дождевых струйках.
Дождь льет не переставая. Он шумит так, точно под окнами у нас стоит густой бор. Не видно даже домов напротив. Красные четырехугольные рамы точно повисли в воздухе. И только деревянный, весь в копоти, керосиновый фонарь посреди базара свивает вокруг себя сгустки темноты и изредка посветит прохожему, который, подняв воротник, пробежит под хлопающими струями дождя.
Как стерпеть все это! Потираю обеими руками под сердцем, – не могу себе места найти.
Оторвавшись от окна, падаю на кушетку. Я и сам не знаю, что со мной и что мне нужно. Хоть бы кто-нибудь сказал мне ласковое слово.
– Ошерка, что с тобой? Чего ты мучаешься? – спрашивает мама.
Мама, хочу я ей сказать, мне грустно. Я тоже хочу выбирать в Совет; не нравится мне, когда я в одиночестве; ненавижу осень; не выношу, когда у соседа воет собака. Но ничего этого я ей не говорю. Отвечаю ей внезапно так, что и сам удивлен.
– Мама, – выкрикиваю я, – хочу кислицы!
– И это ты из-за кислиц так кривляешься? – пожимает она плечами. – Сейчас сбегаю к деду.
– Нет! Нет! – отвечаю. – Я сам пойду к дедушке. – Хотя мне не хочется идти к нему и ни к чему мне эти кислицы.
Но раз я уж сказал, придется идти.
Осторожно передвигаюсь вдоль стены, ногами нащупываю лужи. В сенях сплошной мрак и невероятно течет. Какая-то странная кровля у дедушки: даже под открытым небом не льет так, как здесь, в сенях.
Дедушка ползал сегодня до поздней ночи и все подставлял на чердаке ведра, корыта, горшки, банки, чашки. Но в сенях он ничего не поставил.
Я открыл дверь к нему в дом и остолбенел – не могу ни закрыть двери, ни бежать.
У дедушки ставни на запоре. На столе возле окна разбросаны свечи, те самые, которые он добывает у дьякона; чадящая лампочка еле освещает каморку, стекло на ней разбито, и комната полна теней. Посреди каморки босиком стоит дедушка. Он стоит спиной ко мне, весь в белом. Одежда заканчивается множеством складок у самых пят. Длинные широкие рукава совершенно скрыли руки.
– Ой! – вскрикиваю я и прижимаюсь к стене.

Дедушка мгновенно оборачивается. Длинная белая борода его трясется, слезящиеся глаза, окаймленные красными веками, суровы. Он неподвижно смотрит на меня. На стене застыла его большая мрачная тень. Слышно лишь, как стучат ходики, у которых вместо гирь привязана медная ступка, и шипит фитиль в лампочке.
– Какой черт тебя принес?! – вскрикивает он. – Почему не закрываешь двери?
– Деду-ушка!.. – взываю я и пячусь от него. – Дедушка!.. – показываю я пальцем на белые одежды.
– «Дедушка, дедушка»! – передразнивает он меня. – Я давно уж дедушкой стал, а как дойдет дело до погребения, зароют как собаку.
Он прячет свечи в комод, сбрасывает с себя саван и остается в исподнем. После этого он связывает свои погребальные одежды в узелок и прячет их под постель.
– Вот так, Ошерка! – Дедушка садится на постель и поднимает глаза к печке, где стоит чашка с гречневыми коржами. – Уже зовут меня… Пора собираться в путь.
Дедушка принимается жевать бороду. Он говорит задумчиво и как-то странно. Утихомирившись, я подхожу к нему поближе.
– Далеко? – спрашиваю я его, а сам никак не оторву глаз от постели, куда он спрятал свой саван.
– Далеко, – отвечает дедушка, – очень далеко.
– А надолго?
– Как? – удивляется дедушка. – Навсегда. – Он говорит это так, точно сообщает мне какой-то секрет. – Пожил, набегался как собака, а теперь, – он показывает пальцем в потолок, – велят: собирай-ка узелок да на покой!
– К покойникам? – Я чувствую, как становится холодно голове и трудно дышать. – На кладбище, дедушка?
– На кладбище.
Он кладет свою костлявую руку мне на колено, и я чувствую возле себя его белую бороду. В расстегнутой рубахе вижу его ребра и впервые замечаю на костлявой руке крупные синие вены под стянутой кожей.
– Охо-хо-! – гладит он меня. – А у тебя, не сглазить бы, пухлые щечки, Ошерка…
Лампа еле теплится, отстукивают ходики, и скрипит под дедушкой кровать. За окном уже не слышно дождя. Пробренчала запоздалая телега. Долго еще вдали замирает удаляющийся звук. В щель сквозь ставень виден кусочек шляха. На дворе, по-видимому, прояснилось, и взошла луна.
Внезапно за стеной раздается протяжный хриплый вой собаки. Она, видать, завыла на луну.
– Тьфу, тьфу! – отплевывается дедушка и, подбежав к двери, переворачивает калошу, что, согласно поверью, должно защищать от несчастья.
– Ангел смерти ходит, – говорит дедушка и тычет длинным худым пальцем за окно. Затем он быстро выкручивает фитиль у лампы.
Я не могу больше. Подбежав к двери, толкаю ее и изо всей мочи истошно кричу в темноту:
– Ма-а-ма-а!
ПОЛЮБИ МЕНЯ!
Многое кажется мне теперь странным. Не могу, например, представить себе, что когда-то дедушка был ребенком и что я когда-нибудь тоже буду старым дедом. Никогда не думал, что, когда мне весело, кому-нибудь может быть грустно.
Но вот я иду из школы с одноклассницей Рахилью. Я всегда стесняюсь ходить с девчонками и поэтому сразу же сказал Рахили, что мне нужно зайти в комсомольскую ячейку.
– Конечно, тебя туда пускают! – заметила она с завистью и, по обыкновению, склонила головку набок. – Ведь твой отец член профсоюза!
Она поглядела на меня сначала растерянно, а затем, топнув ножкой, стала кричать, что и ее отец будет членом профсоюза и что ее тоже тогда примут в комсомол. Потом она расплакалась и убежала.
Мне очень грустно. А ведь мне так хочется, чтобы она подружилась со мной, чтобы полюбила меня!
Недавно я из-за Рахили чуть не убился. А случилось это потому, что в последнее время мне почему-то грустно. Даже мама заметила это и все спрашивает, что со мной случилось.
Ничего со мной не происходит. И все же я сам не свой, а сказать кому-либо стыжусь. Когда я один, подолгу гляжу на себя в зеркальце, которое недавно купил. Разглядываю лицо, одинаково смуглое и зимой и летом, глаза, о которых говорят, что они плутовские; изучаю лоб с буграми у бровей, ощупываю пушок, показавшийся на верхней губе.
Я долго причесываюсь, но волосы никак не ложатся. Я их непрерывно смачиваю и зачесываю на пробор. Но, высохнув, они вновь рассыпаются, становятся дыбом, и я похож на молодого петушка.
Даже проходя мимо лужи или очутившись у пруда за городом, я смотрю на свое отражение. И хоть стою я там вниз головой, я все же замечаю, какой я стал долговязый.
Не хочу, однако, чтобы посторонние все это замечали. Вообще на людях я себя чувствую как-то неловко. И в классе я несвободен. Когда тоскливо, могу в школе все вверх дном перевернуть, а иной раз как будто и весело – а вдруг ни с того ни с сего становится грустно. И все из-за Рахили!
Мы учимся с ней в пятой группе. Раньше я ее терпеть не мог, как и всех других девчонок, даже поколачивал иногда. А вот несколько месяцев тому назад я ее точно впервые увидел: ее высокий белый лоб, короткий носик, который смешно подтягивает к себе верхнюю пухлую губку, белые зубы.
Совсем не узнаю я ее теперь. Головку она постоянно склоняет набок, на личике удивление, и все перебирает косы: расплетет и снова заплетет. И смеется она не как все: прячет рот в черный передник и сразу бежит к девчонкам, обнимает их, шушукается с ними и держится подальше от мальчишек.

Но чем больше она отдаляется от меня, тем чаще перед моими глазами встает ее коричневое шерстяное платьице и черный передник, ее тонкая, рослая фигурка и красная ленточка в волосах.
Я все делаю, чтобы посторонние думали, что я терпеть ее не могу. Однажды я даже при всех нагрубил ей.
Я боюсь оставаться с ней наедине. При посторонних я могу разговаривать с ней сколько угодно, но стоит нам остаться одним, и я чувствую себя неловко: мне нечего ей сказать. Я стесняюсь, краснею. Мне кажется, что ей скучно со мной и она потом будет надо мной смеяться. Поэтому как только увижу ее, я сразу становлюсь злым, кричу на нее и убегаю.
Но куда бы я ни убежал, где бы я ни был, она всюду со мной. За версту слышу и узнаю ее.
Однажды я стоял у окна и смотрел на дорогу, на телефонный столб и толстые провода, где уселись воробьи. Мимо изредка проезжала подвода, шагала на базар баба с корзинкой на плече. На улице было тихо и жарко. Вдруг – сам не знаю почему – сердце у меня заколотилось, я высунулся в окно и увидел собаку с высунутым языком, нескольких баб, продающих овощи, ряды лавчонок и несколько извозчичьих фургонов. В ожидании пассажиров на козлах дремал Йося.
И все же у меня дух захватило: чувствую, где-то здесь должна быть Рахиль. И я действительно вскоре ее увидел – она шла куда-то со своей матерью.
Долго смотрел я ей вслед. Мне стало вдруг так хорошо, так хорошо! Я завидовал ее матери, которая может быть с ней сколько угодно. Только одно меня удивляло: бабы продолжали сидеть, как сидели, Йося дремал на козлах своей брички и даже не обернулся в ту сторону, где так весело промелькнул красивый бант в волосах Рахили.
Сегодня мы с ней остались в школе. Вечерело. Я сидел на подоконнике и протирал запотевшие окна. Мне видна была соломенная крыша сарая Троковичера и на ней круглое гнездо давно улетевших аистов. По двору без толку носились вороны и галки и усаживались нахохленные на длинный колодезный журавель.
В соседних классах шумели ребята. Занятия уже давно кончились, из учеников остались только те, кто записался в кружки. В кружках у нас обучают портняжному и сапожному делу. Голда говорит, что все должны изучить какую-нибудь профессию.
В местечке у нас уйма лавочников. Их не любят. Мой товарищ Сролик сбежал этим летом из дому из-за того, что его отец лавочник. Он ушел в деревню и нанялся там в пастухи. Но милиция разыскала его и доставила домой. Все местечко тогда сбежалось, поднялся ужасный шум. Отцы вопили, что дети совсем отбились от рук.
Отец Рахили тоже лавочник. Однажды он примчался в школу и заявил Голде, что сойдет с ума: Рахиль записалась в кружок и собирается стать швеей. Подумаешь, какое событие!
Но я остался в школе не из-за кружка. Я буду здесь ночевать. Остались и другие мои товарищи. Теперь здесь всегда кто-нибудь ночует – мы охраняем школу. Недавно кто-то пытался ее поджечь, еле потушили. Кто-то вырубает деревья в саду. Голде прислали письмо без подписи: ее грозят убить.
Всем ученикам хочется ночевать в школе. И мне, конечно, тоже. Я все время нащупываю в кармане дедушкин ножик с костяной ручкой. Я настроен героически, мне хочется совершить какой-нибудь подвиг.
Я слез с подоконника и пошел во двор, чтобы вместе со Сроликом собрать щепок, хворосту и разложить костер. Однако на дворе все уже было готово для костра. И тут же сидела Рахиль. Она держала руки в муфточке и глядела вверх на журавель, весь усеянный каркающими воронами. Сролик что-то говорил ей и, по своему обыкновению, грыз при этом ногти.
Я сел рядом с ними и стал пристально разглядывать дым, который столбом тянулся из двух труб нашей школы, затем принялся считать низенькие хатки, разбросанные по черной равнине.
– Ошер, – сказала Рахиль, поглядывая на журавель, – ты любишь ворон?
– Терпеть не могу ни ворон, ни галок! – ответил я, хотя ни о воронах, ни о галках никогда не думал и они мне безразличны.
– И я тоже. Мне становится скучно от их карканья, – сказала Рахиль и, схватив камешек, бросила его в сторону журавля.
Но девчонки криворукие. Ее камешек даже не долетел до колодца. Тогда я запустил комком смерзшейся земли в ворон и сразу спугнул их. Они с карканьем поднялись и, покружившись над нами, расселись на голых тополях и на крыше школы. Тут я свистнул в два пальца так, что Рахиль только глаза раскрыла от удивления. Потом я стал кидать камни на крышу: сразу по нескольку штук – и грохот поднялся такой, точно стреляли из пулемета. Рахиль мне помогала, и от этого мне стало сразу весело. Я снял пальто и шапку, кинул ей на руки, расстегнул ворот рубашки. И все кидал и кидал камни и кричал, что мне жарко.
– Сролик, – предложил я и стал срывать с приятеля шапку, – давай бежать, кто кого обгонит!
Но Сролик отказался бежать. Он нахлобучил шапку на уши и стал поеживаться в своем овчинном тулупчике.
Рахиль начала издеваться над ним, но Сролика это ничуть не тронуло. Он очень странный, этот Сролик. Молчит все время, скрытничает. В школе его, однако, любят. Он учится лучше всех, много читает. С тех пор как Сролик обучается сапожному ремеслу, он стал веселей, довольно поглядывает на свои мозоли, не смывает смолы с рук и нет-нет да улыбнется.
– Ну перестань! – оттолкнул он меня. – Не хочу я бегать.
– Не можешь! Не можешь! – стала прыгать вокруг него Рахиль и, покатываясь со смеху, ударила его муфтой.
– Что с тобой сегодня происходит? – спросил Сролик.
Но Рахиль уже не слушает его. Она кинулась бегом и предложила мне ловить ее. Я бегаю, конечно, быстрей ее, но мне не хочется догонять Рахили. Маленькими шажками несусь вслед за ней и вижу, как у нее болтаются косы, как она размахивает руками. При этом она все время визжит. И отчего это девчонки всегда визжат?
Но она уже утомилась, не может и слова выговорить. Зато она хохочет так, что чуть не валится с ног.
Я нагнал ее во дворе Троковичера и легонько толкнул. Она упала. Вся покрасневшая, – губка приподнята, жакет расстегнут, – лежала она, вытянувшись на мерзлой земле, весело постукивала туфельками и кричала, чтобы я ее не поднимал.
Вдруг скрипнула дверь. Рахиль вздрогнула и, вскочив с земли, стала быстро приводить себя в порядок.
– Голда идет! – сказала она тихо и смущенно.
Действительно, на крыльце показалась Голда.
Не знаю почему, но и я тоже покраснел. Как-то мне стало неловко.
Голда вышла в черном казакине, который выглядит сзади, как колокол, а сверху узок и обшит беличьим мехом. Она держала ведро и, видно, собралась идти по воду. Увидев нас, она остановилась. Ее веселое, молодое лицо удивленно обернулось к нам. В круглой барашковой шапочке, одетой набекрень, она выглядела совсем по-мальчишечьи.
– Рахиль, что это ты так раскраснелась? – спросила она, подойдя к нам и раскачивая жестяное ведро.
– Я дежурю в школе, – еще больше краснея, ответила Рахиль, не в силах поднять глаза.
– Ты сегодня ночуешь здесь?
Чуть заметно улыбаясь, Голда поглядела сначала на меня, потом на Рахиль. Я, кажется, понял, почему она улыбнулась, и мне стало стыдно.
Но вот Голда взглянула на низкое разорванное облако, повисшее по ту сторону сарая, и проронила как бы про себя:
– Кажется, ночью выпадет снег. Я люблю первый снег.
Ах, какая она хорошая, что заговорила о снеге!
– Голда! – сказал я. – Дайте, я вам принесу воды!
Я вырвал у нее из рук ведро и помчался, – только бы поскорее скрыться, только бы она не заметила, как мне неловко! По дороге я пугнул петуха Троковичера, стоявшего на одной ноге. Даже пережевывающая жвачку красная корова и та шарахнулась от меня. Ухватив крюк, я стал быстро спускать его в колодец. Но Голда нагнала меня.
– Я ведь запретила подходить к колодцу! – сказала она. – Сейчас же марш отсюда!
Только когда мы с Рахилью отошли, Голда, нагнувшись над срубом, опустила вниз поскрипывающий крюк и, набрав воды, еще раз улыбнулась нам, затем не спеша зашагала домой.
Едва Голда скрылась за дверью, как мне снова стало весело.
Пусть, однако, Рахиль не думает, что я боюсь Голды или колодца. Вскочив на обледенелый сруб, я обеими руками схватил цепь, на которой висит зеленоватая деревянная бадейка, и стал ее спускать вниз. Завизжал журавель, на другом конце стали подниматься подвязанные камни. Я заглянул в колодец – темно, даже воды не видно, еле различишь только позеленевшие скользкие бревна сруба да сухой промерзший мох у стен.
– Хочешь, Рахиль, я спущусь в колодец? – стал я похваляться, приплясывая на одной ноге.
Рахиль пришла в ужас, крикнула что-то и убежала.
Но я не уйду отсюда. Рахиль вернется, и я при ней по цепи спущусь в колодец и выберусь наверх, – я отлично научился лазить.
Но тут, как назло, в окошко забарабанил Лейба Троковичер. Одновременно послышался стук копыт и ржанье коня, и начальник милиции Рябов произнес надо мной басом:
– А ну, не баловаться!
На крыльцо выскочила Голда. Не успела она накричать на меня, как я уже соскочил наземь и подошел к Рахили:
– Ничего, в другой раз! – Я беспечно сунул руки в карманы. – В другой раз я все-таки спущусь в колодец.
Рахиль даже не взглянула на меня. Застеснявшись Голды, она сразу отошла в сторону, незаметно подоткнула волосы под платок и чуть улыбнулась Рябову.
Начальник милиции спешился. Конь был весь в мыле, рвался, становился на дыбы, бил копытом. Рябову было трудно привязать его к забору. На крыльцо вышел Лейба Троковичер. Он был когда-то подрядчиком и знает толк в лошадях.
– Ай-яй-яй! – вскрикнул он и сорвал с головы шапку. – Какой конек! Необъезженный'?
– Первый раз оседлал! – И лицо начальника, разделенное полоской черных усов, засияло. – Ничего, у меня станет шелковым!
Сдвинув папаху на затылок, приподняв полы шинели и гремя на весь двор шпорами, Рябов направился к Голде.
– Здравствуйте, – сказал он, щелкнув каблуками и подавая Голде руку. – Как поживаете?
– Благодарю вас, – ответила Голда.
Но на лице у нее появилось смущение. Мне показалось, что она стесняется посторонних.
– Вы ко мне?
– К вам, товарищ Ходоркова. Приехал проведать.
Рябов теперь частенько посещает нашу школу: кулаки стали убивать председателей сельсоветов, рабкоров и учителей. Только очень уж сладко разговаривает он с Голдой.
Я все отдал бы, чтобы стать таким, как Рябов, охранять Голду, носить большой револьвер на боку и иметь такого коня.
Мне стало обидно, что все смотрят на начальника милиции и даже Рахиль не сводит с него глаз.
– Подумаешь! – сказав я и сплюнул, когда Голда и Рябов поднялись по ступенькам и скрылись за дверью. – Ломается, а сам боится этой клячи!
– Ездит-то он очень неплохо! – отозвался Сролик. – А какая лошадь! – И он потянул меня к ограде, где конь, высекая искры из-под копыт, громко ржал.
– Падаль! Дохлятина! – вскрикнул я и запустил в коня комок земли.
Конь вздыбился, стал метаться и долго потом не мог прийти в себя.
– Видишь, боится! Мне на лучших лошадях приходилось ездить, – сказал я и отошел от ограды к Рахили.
Но Рахиль опять отодвинулась от меня.
Сролик расхохотался:
– Да что ты говоришь, хвастунишка?! Смотрите на этого хвастуна!
Рахиль надула губки, и между бровей у нее появились две складки.
– Хвастун! Да, да, хвастун! – шепнула она и топнула ножкой. – Лгунишка!
– Я?!
– Да, ты! Лгун! – крикнула она уже громко. И, непонятно почему, ее сощуренные, ставшие злыми глаза наполнились слезами.
– Я? Я лгун? – вскрикнул я, не зная куда деться от оскорбления.
Не помню уж, как я взобрался на ограду, как отвязывал лошадь. У мягких губ животного появилась пена, из розовых ноздрей забил пар. Лошадь стала перебирать ногами. Тогда я начал привязывать ее обратно, но она рвалась, и удержать ее я уже не мог. Стоя обеими ногами на толстой перекладине, я беспомощно оглядывал школьный двор.
Сролик стоял поодаль. Шапка висела у него на одном ухе, тулупчик расстегнулся. Недалеко от него стояла Рахиль. Она прижалась к дверям школы, точно хотела туда юркнуть. Рахиль быстро-быстро вертела муфту в руках и ни на секунду не спускала с меня наполненных слезами глаз.
Я отвернулся и увидел, как по другую сторону дороги, на пустые зимние поля, на кладбище ложатся лучи заходящего солнца. Потом я снова поглядел на школьный двор и, как утопающий, все ждал, что кто-нибудь выйдет и спасет меня, то есть сгонит наконец с забора. Но, как назло, кроме нас троих, во дворе никого не было. Корова жевала свою жвачку под сараем, вверху неподвижно торчало круглое гнездо аистов.
– Ошерка!.. Ошер!.. Я не хочу!.. Я пошутила… Сойди! – услышал я умоляющий голос Рахили.
И тут я почувствовал, что мне уже ничего не страшно. Лошадь стояла совсем рядом со мной, коричневое гладкое седло на широкой, круглой спине было у самых моих колен. Рванувшись изо всех сил, я в один миг очутился в седле и сразу вцепился в гриву обеими руками. Меня подбросило вверх – и я услышал чей-то долгий, тонкий визг и крики позади себя.
Уткнувшись лицом в гриву, я видел, как несется назад земля, и слышал, как тяжело дышит скачущий конь. Но я уже ни о чем не думал, стиснул зубы и жаждал лишь одного – не свалиться.
Вдруг лошадь завертелась волчком и встала на дыбы. Кажется, кто-то мчался сзади. Я услышал крики, увидел всадников. Меня полоснули плеткой по спине. Кажется, это Лейба Троковичер, я узнал его по хриплому крику. Еще какие-то люди мчатся за мной. Слышен голос Рябова.
Но мой конь уже скакал по полям, перемахивал через рытвины и канавы и все несся вперед… Я еле дышал. Хоть бы скорей свалиться!
…Никак не вспомню, что было дальше. Когда я пришел в себя, вокруг меня стояли люди, они размахивали руками и кричали.
Не пойму, кто это меня тащит с лошади, почувствовал только, что разгибают каждый мой палец, а я все боюсь разжать кулак, чтобы не выпустить гривы и не свалиться.
Почему, однако, темно?
Почему луна на небе?
Но вот меня стащили с лошади, а ноги совсем не стоят. Тогда меня взяли под руки и повели. Я узнал мокрую лошадь, всю в мыле, и увидел Рябова. Он был без фуражки.
Сквозь шумное людское кольцо ко мне протиснулась Рахиль. Свет из окна упал на ее растрепавшиеся волосы и испуганное личико.
– Ага! – сказал я ей.
Мне ужасно хотелось засунуть руки в карманы и показать, что я плюю на таких лошадей, как эта кляча начальника милиции. Но мне не дали говорить. Меня ввели в какой-то дом и поднесли стакан воды.
Все закружилось, замелькало передо мной, как в чаду.








