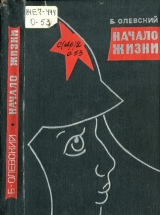
Текст книги "Начало жизни"
Автор книги: Борис Олевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
– Я устала, Ошер, еду отдыхать.
– Да, Голда, выглядите вы не так, как обычно.
– То есть как это не обычно?
– Вы устали. – Я не пойму, чего она всполошилась.
– И это видно?
Схватив зеркало, она долго разглядывает себя; разглаживает две морщинки у верхней губы, причесывает волосы.
– Значит, я уезжаю, Ошер. И у меня к тебе просьба.
– Да! – Я вскакиваю, готовый для нее сделать все, что угодно.
– Я еду отдыхать, это недалеко отсюда. Но я не хочу, чтобы знали, где я буду. Покоя не дадут. Ни Ищенко, ни кто другой не должен этого знать. Но тебе я скажу. Только ты даешь слово?..
– Никому не скажу, – говорю я, готовый сложить голову, но не выдать тайны.
– Я буду у Матильды. Ты, кажется, знаешь, где она живет?
– По ту сторону железнодорожного моста. Я там бывал.
– Вот и хорошо. Будешь приходить? Принесешь газету, может быть, письмо будет.
Она дает мне руку и велит идти; говорит, что немного поправится, и тогда мы снова возьмемся за работу.
Только вечером вернулся я наконец на почту. Уже было темно, пришлось стучать с черного хода.
Дударев раз десять спросил «кто?» и «кто там?». А открыв дверь и увидев меня, он долго морщился и расспрашивал, отчего это я к нему заявился так поздно.
Все же он взял меня под руку и провел через спальню, где в каком-то странном чепце сидела его перепуганная старушка. Она следила за мной удивленными, выпученными глазами. Да и сам Дударев был уже не прежний важный начальник. В халате, без мундира и форменной фуражки, он был скорее похож на старую бабу. Тяжело висели мешки под глазами, когда-то полные щеки теперь складками лежали на шее.
Перегороженная решеткой почтовая контора, куда мы вошли, была еле освещена.
– Товарищ Дударев, – я вытаскиваю пригоршни денег из карманов и подаю ему квитанционную книжку, – вот подписчики!
Дударев насаживает пенсне на нос и, поглядывая то на меня, то на деньги, хватает счеты.
– Очень славно! – Поплевав на руки, он принимается разглаживать смятые бумажки и складывать в стопки серебро и медяки. – Славно! Благодарствуйте! – говорит он, внезапно растроганный, потом вдруг сует мне деньги.
– Пожалуйста! Восемь рублей девяносто пять копеек.
– Товарищ Дударев! – говорю я в испуге, не понимая, за что он дает мне деньги.
– Вам причитается десять процентов. – Он смотрит на меня в недоумении. – Вы собрали восемьдесят девять рублей и пятьдесят копеек. Вам десять процентов. Больше я не могу.
Смущенный, я забираю деньги и ухожу, забыв даже пожелать ему доброй ночи.
Выйдя на улицу, я еле сдерживаюсь, чтобы не пуститься бежать. Иду, и мне странно, что никто не оборачивается и не смотрит на меня. Долго-долго я стою возле наших дверей. Хочу немного успокоиться, чтобы сердце не стучало так сильно.
Вхожу. Все спят. Лампа прикручена. Стараюсь держать себя как ни в чем не бывало. Но чуть я выкручиваю фитиль, как мама сразу просыпается и предлагает мне поесть. Проснулся и отец и сел на кровати.
– На, мама! – Я вынимаю деньги из кармана и кладу их на стол, точно это для меня пустяк. – Заработок!.. И постели мне, – говорю я как можно строже, – я очень устал!
Но я вовсе не устал. Я в состоянии сейчас перевернуть все вверх дном. Не хочу, однако, чтобы отец и мать догадались об этом, и быстро выхожу в кухню, где долго-долго моюсь. Я лью холодную воду на свою разгоряченную голову, потом долго обтираюсь полотенцем. Мама ходит вокруг меня на цыпочках и умоляет что-нибудь поесть. Но я говорю, что я сыт. Мне теперь кусок в горло не полезет.
Быстро раздевшись, я ныряю в постель и укрываюсь с головой. Я не хочу, чтобы они видели мое лицо.
Слышу, отец с матерью разговаривают. Они говорят, что мне пора сшить суконный костюм и купить шапку, потому что я – не сглазить бы – расту и все на мне расползается по швам. Мама просит отца купить мне ботинки со шнурками: я уже не ребенок, и пора мне бросить штиблеты на резинках. Но я недолго слушаю этот разговор – я таю, расплываюсь, засыпаю счастливый, точно весь мир наклонился надо мною и баюкает меня.
ЧТО ТАКОЕ С ГОЛДОЙ?
Теперь у меня нет ни одной свободной минуты, ни посидеть, ни поболтать нельзя. Каминер вовсе не выходит из бывшей кожевни Калуна. Папа работает на мельнице днем, поэтому он приходит сюда к вечеру, а мама говорит, что ей уже голову заморочили этими стульями.
Все это означает, что у нас в местечке открыли мебельную фабрику.
Никогда не думал, что фабрика бывает такой. Мне представлялось, что у фабрики множество окон, без конца трубы, и из них день и ночь валит дым. А у нас дым еле ползет, да и то не каждый день. И окон у нас мало.
Фабрику открыли в помещении бывшего кожевенного заводика Калуна. Сначала Калун говорил, что вся эта история его ничуть не трогает, но когда на его заводике стали засыпать чаны, хозяин взбесился и полез в драку. На помощь ему примчался Исайка со своими дружками. Но тут явилась милиция, и Исайка моментально скрылся. А Калуна на несколько дней посадили, и он присмирел.
Помещение кожевни разделили надвое. В одной половине все окна заложили кирпичом и устроили парильню. Здесь парят ясень, гнут его и делают ободья и дуги, а самое главное – круги и ножки для стульев. Во вторую половину уже невозможно войти: она завалена стульями. Никогда я еще не видел такой уймы стульев. Темно-коричневые, светло-желтые, они взгромоздились здесь до самого потолка.
Каминер либо испытывает стулья, либо переходит от человека к человеку и толкует с ним. Никогда еще не был он так приветлив со всеми. Недавно Бечек вызвал машиниста с мельницы, маленького Сважека. С ним пришел и Зяма, прихватив с собой большой медный гудок. Бечеку очень хочется, чтобы фабрика у него гудела. А мне и подавно! Во всем мире фабрики гудят по утрам, зовут рабочих на работу. Но машинист сказал, что для этого нужен пар. Пару в парильне хоть отбавляй, задохнуться можно, однако для гудка он не годится.
Синяя фуражка Бечека с лакированным козырьком мелькает по всей фабрике. Он без конца обходит бывших кожевенников, плотников, портных, лавочников. Здесь работают все оставшиеся без дела. Здесь трудится и Вениамин, отец Сролика.
– Вениамин, – кричит Каминер и хлопает его по плечу, – ты теперь настоящий рабочий!
Но Вениамин все еще приниженно улыбается, – никак не забудет свое прошлое. И все же, с тех пор как Вениамин скинул замасленный сюртук, пахнущий таранью, огуречным рассолом и керосином, он стал уверенней и спокойней. Его редкая рыжеватая бородка, растущая из шеи, выглядит теперь не так испуганно.
Если бы не газеты, я б дневал и ночевал здесь. Тут так шумно, так весело! В одном месте пилят, в другом строгают, в третьем собирают стулья. А там, где работают женщины, стулья трут наждаком, полируют, а затем связывают и отправляют в кооперацию и на вокзал.
Даже я купил стул, хотя у нас в доме достаточно табуреток. Надо ведь поддержать фабрику!
Мою радость омрачают газеты. Уже прошла неделя, а выписанных газет все нет и нет. Подписчики не дают мне покоя.
Дударев говорит, что газеты придут в начале месяца, потому что с этого срока они и выписаны. Я это знаю, но все же бегаю на вокзал каждый день и, если там начальника станции нет, отправляюсь к нему прямо на квартиру.
Приметив меня на платформе или у своего палисадника, начальник станции поспешно качает головой и кричит еще издали, что газет нет, а сам тем временем куда-нибудь удирает. Он даже сказал про меня кассиру, что впервые видит такого настырного мальчишку. Но я все же по-прежнему аккуратно являюсь сюда каждый день; растягиваюсь в тени тополей, обступивших нашу маленькую каменную станцию, и жду.
Не так давно здесь было довольно шумно. Беспрерывно приходили эшелоны с беженцами, мчались бронепоезда. Но теперь один поезд приходит утром, другой – вечером, а между ними тоска.
В это время наш толстячок, начальник станции Шкабура, снимает фуражку с красным верхом и тужурку с блестящими пуговицами и в одной рубашке полет у себя в огороде или сидит на каменных ступеньках перед домом и забавляется с кошкой. А возле него, надо мной, вокруг вокзала шумят высокие тополя, гудят провода, бегущие вдоль полотна железной дороги, и затем пропадают вместе с высокой насыпью вдали, среди холмистых полей. Иногда до меня долетает звонок большого желтого телефонного аппарата или стук телеграфа. Все эти звуки, эта насыпь и даже пустота вокруг напоминают мне о непознанной дали, неведомых землях, странах и городах, которые так хочется повидать.
Но сразу перед приходом поезда здесь становится весело. Прежде всего у платформы появляется почтовая двуколка, на которой восседает старый письмоносец Трофим; он стал теперь моим лучшим другом – он учит меня курить. Я уже умею пускать дым через нос не хуже самого Трофима. Когда курю, я чувствую себя взрослее.
Однако перед приходом поезда курить некогда. Прежде всего нужно приложить ухо к рельсу – не гудит ли. Чуть заслышится громыхание, на платформе появляется торжественный и строгий начальник станции в красной фуражке и черной форменной тужурке, с жезлом в руке. За начальником на платформу выбегает худой, вечно заспанный кассир. Он поворачивает скрежещущий рычаг, и тогда, точно вытянув гостеприимно руку, впереди открывается семафор.
Торжественный и грустный, раздается в тишине первый удар колокола. Теперь хватит лежать на рельсе. Где-то далеко-далеко, где небо сливается с землей, появляется клочок дыма. Постепенно он становится все гуще и гуще. И вдруг слышится свисток, который повторяет эхо. Для меня он постоянно неожидан. Я вздрагиваю и хватаюсь за ограду. Затем с бьющимся сердцем наблюдаю, как, становясь все больше и больше, летит на меня, громыхая колесами, весь в клубах дыма, черный, страшный, вечно торопящийся паровоз.
Как безумный, бегу вдоль поезда, щупаю, глажу и даже отираю пыль с боков зеленых многооконных вагонов. Заглядываю в окна, с тоской и уважением посматриваю на незнакомых людей. Хотелось бы, чтобы они хоть что-нибудь попросили у меня. Но они молчат, даже не глянут в мою сторону, даже не выйдут из вагона.
Как-то пассажир спросил у меня, какая это станция. Я чуть было не расхохотался. Было очень странно, что он не знает нашей станции и нашего местечка: у нас изготовляют стулья, жизнь бьет ключом, а он ничего не знает! Но поезд стоит так мало, что я даже не успел ему рассказать обо всем этом. Пассажир вошел в вагон, и поезд умчался. На платформе остались только я да ставший вдруг серым и будничным начальник станции.
Досадно, что еще не пришли газеты, но еще большую досаду навевает эта тишина, равнодушие, с которым дым от паровоза расстилается в воздухе, ползет по тополям, по нивам и, наконец, исчезает.
Но вчера вечером я наконец газеты получил. Это было совершенно неожиданно.
Я расхаживал у высокого, большого фонаря, который качает вокруг себя тьму, освещая лишь рельсы, кусок платформы, колокол и большое окно вокзала. Справа и слева на путях виднелись красно-зеленые фонари стрелок. Уже вышел начальник станции, выбежал кассир.
Вызвездившуюся ночную тишь разорвал гудок прибывшего паровоза. От снопов слепящего света впереди, сияющих вагонных окон стало больно глазам, резко вырисовывалась каждая веточка тополя, заискрилась росинка на листке.
Как всегда, я сразу же кинулся к зеленому багажному вагону. Там уже стоял Трофим. Узкая обрешеченная дверь была открыта. Ворчливый, заспанный уполномоченный принимал от Трофима запечатанный мешок и сдавал ему свой. Потом он стал бросать прямо на землю какие-то толстые бумажные пачки. Я сразу догадался, что это газеты.
– Товарищ начальник! – стараюсь я перекричать шум паровоза. – Товарищ начальник!..
Настигнув Шкабуру возле одного вагона, я уж не отстаю от него. Сердце у меня колотится. Я не могу говорить. И начальник вынужден мчаться со мной.
А пачек много, они рассыпаются. Я держу их руками, зубами, подпираю головой и даже коленом, и вскоре вместе с Трофимом добираюсь до его двуколки.
Никогда еще мне так не хотелось, чтобы Трофим быстрей гнал лошадь. Но она, как назло, еле плетется. Колеса грузнут и шипят в песке, подпрыгивают на корневищах. Лошадь тяжело сопит, и Трофим беспрерывно покрикивает на нее.
Собаки учуяли нас еще издали, и вся деревня наполнилась лаем. Из-за них не слышно соловьиного свиста, плача сыча в высоких сросшихся липах, заслонивших от нас небо. В местечке лошадь идет быстрей, двуколка начинает громыхать на камнях. Мне невтерпеж – я еду стоя. Не успел Трофим подъехать к нашему дому, как я уже соскакиваю на ходу и, подхватив пачки, мчусь к себе, на чердак сарая, где я сделал замечательную комнатку.
Я раздобыл фанерные ящики из-под спичек, соорудил из них полки и, как аптекарь, расставил книги, втащил сюда дедушкин столик и свой стул, который купил на фабрике. Дедушкина восковая свеча тоже здесь. На столе у меня портрет Ленина – тот, где он изображен сидящим за столом и читающим «Правду».
Плохо только, что сейчас ночь. Еле нащупав в темноте лестницу, я перетаскиваю на чердак свои пакеты. На мгновение останавливаюсь в испуге: летучая мышь ударилась о дырявую крышу, кто-то царапается в соломе. Но я быстро зажигаю свечу, вставленную в широкое отверстие зеленой бутылки, и сразу же забываю о ночных страхах.
При свете начинаю разглядывать свои пакеты. Перекладываю их из стороны в сторону и не устаю читать адрес на них. Газеты обернуты в толстую белую бумагу, перевязаны шпагатом и скреплены печатями. Я до безумия рад тому, что на каждой пачке написано мое имя и фамилия. Развязываю их и обнюхиваю газеты – они пахнут краской, ночной прохладой, вестями со всего света.
У меня дух захватывает. Подбегаю, чтобы распахнуть слуховое окно, – быть может, удастся хоть кого-нибудь увидеть и зазвать к себе. Но кругом ни души. На базарной площади даже фонарь не горит. Только луна молчаливо освещает крыши и слепые окна спящих домов.
Как Ленин на портрете, усаживаюсь я за стол и принимаюсь читать газету. В мертвой тишине зычно кричат заголовки телеграмм: «Ответ Чичерина Керзону». «Французы вошли в Рур». «Восстание в Германии». «Кровавые столкновения в Польше». «Ленин».
В верхнем углу полосы напечатано сообщение о болезни Ленина. Я даже становлюсь на колени и, подперев голову руками, в трепете перечитываю сообщение. Затем, схватив свечу, подбегаю к портрету Ленина. Слуховое окно раскрыто, пламя свечи колеблется, воск тает, растекается по моей руке и застывает. Весь чердак полон теней. И лицо Ленина, точно живое, то осветится, то потемнеет и глядит на меня, спокойно улыбаясь.
Никак не пойму, как и когда я уснул. Утром я увидел, что у меня в головах подушка и я накрыт одеялом. Видно, мать приходила, а я ничего и не слышал.
Утром она же и разбудила меня. Стоя на лестнице, она держала кусок хлеба с маслом и свежий огурец. Я накричал на нее и велел сойти с лестницы. Мне было стыдно, так как внизу уже было полно народу.
Не пойму, как это так быстро все дознались и прибежали за газетами. На бревнах внизу сидели аптекарь с зонтиком, Меер Калун, Вениамин и еще многие-многие другие. Они ждали, когда я проснусь. Увидя меня, все вскочили, задрали головы и стали кричать:
– Что пишут, Ошер?
– Бюллетень о Ленине! – кричу я с чердака.
– Что-о?
– Французы в Руре. Восстание в Германии. Керзон…
– Что с Лениным?
– Ленин болен! – Я сбрасываю газеты и кричу: «Известия» – Грузенбергу! «Эмес» – Вениамину Иоффе! «Знамя коммуны» – Михелю! «Шахматы и шашки» – Калуну! «Правда»… «Незаможник»…
Люди наклоняются к земле, рвутся к лестнице, вытягивают руки. А белые газеты плывут по воздуху, летят в сумерках сарая, пока их не поймают.
Все кричат: «Тихо!» – толкутся и читают весть о Ленине.
Выхожу на улицу и принимаюсь за разноску газет. Сролик хочет мне помочь. Я даю ему несколько газет.
– Ленин болен…
За нами увязалась детвора, и от них не отобьешься. Шагаю по местечку, а за мной целая орава ребят.
Ну и набегался я сегодня. Только после полудня кончил разноску газет.
У меня остался лишь «Гудок» и газеты для Голды. С «Гудком» я не знаю, как быть. Я понес его Рябову, но там уже сидит какой-то другой человек – низенький, широкоплечий, с ежиком на голове.
– Мне нужен товарищ Рябов, – говорю я ему.
– Какой Рябов?
– Начальник милиции.
– Я начальник милиции, – отвечает он и даже не улыбается. Только на крылечке у милиционера Галушки я узнал, в чем дело.
– Фьють! – Милиционер подбрасывает ногу, точно кого-то выталкивает. – Рябов давно уже не начальник и даже уехал.
Отправляюсь к Голде. Домик, где она теперь живет, находится недалеко от железной дороги. Сунув газеты за пояс, иду по шпалам. По левую сторону – поля капусты, луга и неподвижная речка, в которой отразились белесое небо, прибрежные вербы и тополя, окаймляющие полевую дорогу. Справа пошли нивы. А вон крыша хуторка, синяя роща, которая в этот солнечный день кажется ближе и гуще.
Раскинув руки и покачиваясь, бегу по рельсу. Только на железнодорожном мосту перевожу дыхание. Мост уже починили. Бросаю сверху камешки и гляжу, как расходятся по воде круги между обломками колес и кусками вагонной крыши, которые давно заросли зеленой тиной.
С моста я спускаюсь по высокой песчаной насыпи, затем полевой дорогой направляюсь через хуторок к Матильде. Домик ее стоит совершенно в стороне. Он такой же маленький, как и другие хаты, но крыша у него черепичная.
Не торопясь вхожу во двор, но здесь никого нет. Лишь наседка хлопочет возле выводка цыплят да на завалинке дремлет кошка. Несколько горшков торчат на сучках единственного тополя, который разросся у порога и укрывает всю крышу домика.
Дверь открыта. Вхожу внутрь, ступаю по свежей мяте, рассыпанной на земляном полу. В доме прохладно и сумеречно. В углу на трех цепочках висит лампада, она освещает икону. На столе лежит недошитая детская распашонка, в углу – какие-то книги. Пальто Голды, ее шапочка висят на гвозде, ботинки – под чисто застланной кроватью.
– Голда! – кричу я, приложив руки ко рту. – Голда!
– А-а-а! – доносится до меня веселый звонкий голос. – Сюда! Быстрей, Ошер!

Из-за домика появляется Матильда. В руках у нее тяпка, рябое лицо красно и в поту. Улыбаясь, она проводит по лбу тыльной стороной руки.
– Б-э-э, – показывает она куда-то за домик. И, как всегда, когда она хочет что-нибудь сказать, усиленно гримасничает и лицо у нее становится злым.
Выхожу с ней в сад, спускающийся вниз, к полоске цветущей гречихи. Потом мы идем лужком, на котором растут вербы и груши, рассаженные до самой железнодорожной насыпи.
– Да поскорее! – Поднимается вдруг из высокой травы сияющее, очень веселое лицо Голды. – Боже мой, – дергает она меня так, что я даже присаживаюсь, – ведь я скоро помру с тоски! Послушай-ка, Ошер, – и она показывает пальцем на рот, – я еще говорю?.. Я еще не забыла, как шевелить губами? Ха-ха-ха! – Она смеется во все горло. – Вот уж месяц, как я не разговаривала с людьми. Чего ты молчишь?..
Я уже собрался рассказать ей про стулья, но она выхватила у меня газеты – и все кончено, точно меня не существует: она вытянулась во всю длину, подперла голову руками и читает. Лоб у нее то соберется морщинками, то снова разгладится. Время от времени она отбрасывает падающие на глаза волосы, хмурится. Лицо ее при этом как-то меняется, или мне кажется, что она сама изменилась.
– Ошер, – поворачивается она ко мне, – сегодня ты рано вернешься домой?
– Да.
– Зайди к доктору.
– Зачем?
– Понимаешь, Ленин болен. Зайди к нему и скажи, что я просила написать мне, опасная ли это болезнь. Я ничего не понимаю из бюллетеня.
– Хорошо, зайду.
– Не забудь же!
Голда опять ложится и утопает в высокой траве. Ее темно-зеленый халат с цветочками пропадает, и кажется, будто тут выросли красноватая конюшина, синие колокольчики и веселые иван-да-марья.
Голда продолжает читать и даже улыбается. Вижу, она смотрит на карикатуру в «Известиях», где толстопузые буржуи в цилиндрах толкутся у дверей Наркоминдела; каждому хочется первым войти к народному комиссару и сообщить, что его страна признает Советский Союз.
– Ага, Ошер, они уже упрашивают!
– Вот здесь, – показываю я пальцем в газете, – пишется про Рур. А здесь про Керзона. О восстании в Германии…
– Восстание, говоришь?
Она поднимается и начинает быстро-быстро потирать руки. Оставив страницу, Голда принимается просматривать остальные газеты и вдруг натыкается на «Гудок».
– Разве я выписывала «Гудок»?
– Нет. Это газета товарища Рябова.
– Как Рябова?! Почему же ты принес ее мне?
– Я зашел в милицию, хотел отдать ему, но он уехал, он уже не начальник.
– Уехал? Не начальник? – повторяет она и умолкает. Затем, спохватившись, спрашивает: – Какие там еще новости, в местечке?
– Голда, Каминер устроил парильню, – сообщаю я, обрадованный.
– Что?
– Парят ясень. Делают дуги, ободы, стулья. И все покупают. Работают бывшие кожевенники, бывшие лавочники. И отец Сролика работает. Это называется фабрика, и она будет гудеть. – У меня даже дух захватывает от того, что Голда всего этого не знает.
Голда пододвигается ко мне ближе. Меня, однако, удивляет, что она не радуется, а почему-то мрачнеет.
– Давно уже ее открыли?
– О, уже две недели!
– Уже две недели? А кто там работает?
– Фроим Катух, Зюзл, резчик Михель, мать Зямы, Вениамин, плотник Мотя, Хая-Лея из чайной.
– Ну, и стало лучше?
– Ого!
– А о переезде на землю ничего не слышно?
– Кажется, ничего.
Но Голда уже перестала расспрашивать. Она вдруг говорит мне, что здесь можно помереть с тоски.
– Ну, чего я здесь валяюсь? – Она смотрит мне в глаза и не видит меня. – Что я здесь делаю? Зачем мучаюсь? – Кажется, она разговаривает сама с собой.
– Вы недовольны, Голда? – спрашиваю я.
– Как недовольна? – удивляется она. – Наоборот, Ошер. Это, может быть, наши самые светлые годы. Наоборот, все это очень хорошо. А тебе как?
– Очень хорошо! – вскрикиваю я и сообщаю, что Каминер говорит то же самое.
– Ну вот! А на меня ты возвел поклеп. Эх, Ошер! – Она проводит рукой по моему лицу. – Ты уж стал дурно думать о Голде, возгордился. А я еще помню, как ты бегал в рубашонке из бумазеи.
– Нет, Голда, я не думаю о вас дурно.
– Я шучу, Ошер. Гляжу только, какой ты большой стал, и мне иногда кажется, что я живу страшно долго. А иногда – что живу еще очень мало. Только вчера ты бегал в рубашонке, а теперь разговариваешь о Керзоне. И, говорят, даже с девочками гуляешь, – хитро усмехается она.
От этой усмешки мне становится жарко. Она никогда не говорила со мной о таких вещах.
– Уже надулся, Ошерка? – спрашивает она.
– Нет! – Я отворачиваюсь и гляжу на красное солнце, которое садится за железнодорожной насыпью, на ворон, которые уже летят с полей, на туманы, встающие над прудами.
– Я пойду, Голда. Мне ведь надо еще зайти к доктору.
– Ну ладно, иди!
Опираясь на руки, она встает сначала на колени, а затем медленно, кряхтя, поднимается с травы.
И как только она выпрямляется, я делаю большие глаза. Да ведь это не Голда! Когда она лежала – все было ладно, а теперь ее не узнать.
– Ох, как вы пополнели! – вырывается у меня.
– А?
Она отодвигается от меня и крепче запахивает халат. Кровь отливает у нее от лица, и она становится совсем бледной. Вот она уже белей воротничка, который выглядывает из ее халата. Синеют лишь подглазницы.
– Этот халат… – шепчет она. – В халате… Очень широкий… И еще от безделья…
Она отворачивается и, тяжело дыша, медленно шагает к дому.
– Ошер! – Голда останавливается возле гречихи и показывает на солнце и на тени, которые становятся все длинней. – Тебе пора, иди! И больше не надо… Ко мне далеко… И газет не носи!..
– Да нет же, Голда! Я могу каждый день…
– Не нужно. Я прошу тебя. Здесь низко. Слишком много прудов. Мне это вредно. Я, может быть, перееду туда. – Она показывает на далекий лес, который чернеет по ту сторону полей. – Ты можешь меня не застать… Не приходи! Оставляй газеты у меня под дверью, а Матильда их будет забирать. Иди, иди, Ошер!
– Ну что ж, будьте здоровы, Голда!
– Вот это мне и нужно! – отвечает она.
Но я не пойму, что такое с Голдой: у нее стоят слезы в глазах.
– Только бы не умереть, Ошерка! Мне нужно еще кое-что важное сделать, – говорит она и, не оборачиваясь больше ко мне, тихонько идет к домику, где в окнах пылает пламя заката, а из трубы на крыше уже тянется сизоватая струйка дыма.








