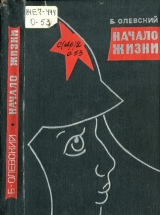
Текст книги "Начало жизни"
Автор книги: Борис Олевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
ПАВЛИК
Двери в нашем доме раскрыты настежь, окна выбиты. Петлюровцы к нам больше не придут, нас уже не будут грабить.
Мы с родителями сидим теперь на чердаке и ждем прихода Красной Армии. Здесь темно и жарко. С тех пор как я потерялся в поле, мама не отпускает меня ни на шаг от себя. Она лежит, стиснув губы и зажмурив глаза. Лицо ее бледно, опухшая рука обернута мокрым полотенцем – ей сломали руку.
Отец сидит, прислонившись к печной трубе. Пыльные солнечные лучи пробиваются сквозь дыры в проломанной крыше. Отец жмурится. Кругом паутина, поломанные ящики, битая посуда, корыта. Отец бос, одежда на нем разодрана. Он ежеминутно складывает и разнимает руки.
– Ара!.. – шепчет он, качая головой. – Кажется, Арик был прав. Великий боже! – И он прячет лицо в ладони.
Чуть раньше отец в знак траура порвал на себе пиджак. Схватил зубами за отворот и рванул.
– Боже мой! – вздрагивает мама, потирая здоровой рукой виски. – Только позавчера…
Только позавчера тетя Ита пела «а-а, а-а», укачивая своего ребенка, а теперь тети Иты уже нет.
Мама кусает себе губы, она боится, как бы кто-нибудь не услышал нас на улице. С улицы все время доносятся какие-то крики. Мама крепко держит меня, чтобы я вдруг не сбежал. А мне давно уже не терпится подбежать к слуховому окну и глянуть, что там творится.
Вторые сутки батько Лисица убивает и грабит. Вот уже второй день возле ограды нашей церкви лежат несколько убитых красноармейцев. На груди у них вырезаны пятиконечные звезды.
Изредка раздается выстрел, потом опять наступает тишина.
Но вот совершенно отчетливо доносится долгожданный орудийный гул. Далекий, глухой выстрел, веселый посвист шрапнели, а затем разрыв над самым местечком. Раз, еще раз, третий раз.
Теперь я уже никого не слушаю и мчусь с чердака вниз. Там началась беготня, и совсем близко стреляют пулеметы. Это большевики. Их еще не видно, но большевистские пули весело посвистывают в пустынных улочках.
Петлюровцев мы уже не боимся. Они бегут, бросая в панике оружие, узлы с награбленным добром; бегут испуганные, обезумевшие, скачут, точно под ними не земля, а горячая сковорода. А за ними катится волна криков «ура». Кажется, дома с выбитыми окнами, перья, выпущенные из подушек, и даже убитые на улицах улюлюкают им вслед.
Мне и моим приятелям веселее, чем кому бы то ни было.
Как большой одногорбый верблюд, врывается броневик. На носу у него полыхает веселое красное знамя, пулеметы из башенки осыпают бандитов градом пуль.
Мы с Зямой, Булей и Сроликом бежим встречать Красную Армию. Командиры покрикивают на нас, гонят прочь, но мы Красной Армии не боимся, красноармейцы нас не тронут. Мы бежим рядом с ними, и они ничего не могут с нами поделать. Они кольцом окружили местечко и вылавливают петлюровцев. Оцепили и нашу улицу. Ловят атамана Лисицу.
Он пробежал почти около меня. Впервые вижу вблизи атамана. Рот у него разинут, нос приплюснут, глаза скошены.
– Наза-ад! – ревет он, отстреливаясь от погони.
Несколько красноармейцев припали к земле и не выпускают бандитов из улочки. Их прижали к плетню. Лисицу хотят взять живым. А он окопался у соседского плетня и сдаваться не желает.
По ту сторону плетня, вся в желтых мальвах, в кустах калины, стоит Владимирова хата. Дверь в хату открыта. На разломанном плетне несколько закопченных горшков. На дворе – перевернутые сани.
Вдруг петлюровцы повалили плетень, кинулись в хату и захлопнули за собою дверь.
Но во двор уже вкатывает броневик.
– Оточити! [3]3
Оточити – окружить ( укр.).
[Закрыть]
Люк в броневике открывается, и оттуда выскакивает человек в кожанке. Он весь черный, измазанный, лишь волосы у него белые.
– Лисица! – кричит он, приложив руку ко рту. – Бросай оружие! Сдавайся!
Бандиты отвечают ему стрельбой. Башенка на броневике начинает поворачиваться. Тонкие клювы пулеметов вытянулись к окнам хаты и стреляют. В доме молчат, но подойти к нему нельзя.
– Стать у соседних ворот с ведрами! – приказывает командир. – Не давать огню распространиться!
Я тоже притащил ведерко с водой.
У броневика открыли бак с бензином, стали в нем мочить тряпки, паклю и кидать в хату. Под стены набросали соломы. Чистый летний вечер начинает попахивать бензином. Но хату все еще не подожгли.
Вдруг все срывают шапки. Со стороны базара показались извозчичьи фуры и крестьянские телеги, покрытые окровавленными простынями и одеялами. Множество народа идет вслед. Это везут на кладбище убитых. Долгий протяжный плач висит над подводами.
– Товарищ командир, – кричит какой-то красноармеец. – Больно долго уж мы с ними возимся! Давайте кончать!
В руках у красноармейца горящая пакля. Он весь в пыли, взъерошен, обмотка у него волочится, красная лента на шапке как кровавый шрам.

Все отступают. Пакля в руках у красноармейца пылает и потрескивает. Огненные языки отражаются в окнах Владимировой хаты. Красноармеец откидывается назад, замахивается, собираясь швырнуть горящий ком на крышу, но застывает на месте. Изумленные глаза его широко раскрыты. Горящий факел падает из рук.
В окне появляется мой приятель Павлик. Как всегда, он в отцовском, измазанном глиной пиджаке, который доходит ему до пят, рук вовсе не видно. Испуганными глазами разглядывает он нас. Слезы полосками избороздили его грязное, растерянное лицо.
Позади Павлика стоит ощерившийся Лисица и ругается. Атаман держит Павлика за шиворот, он знает, что теперь в него стрелять не станут. Петлюровцы застали одного Павлика в доме.
Бандиты стоят теперь у окна и постреливают. Направленный на хату пулемет не отвечает. Темнеет. Командир броневика ходит взад и вперед. Он взволнован и рассержен.
Я говорю командиру;
– Там живет Владимир, и мы спрятали у него ложки и подсвечники.
– Шо-о?
– Ложки…
– Не мешай-ка! – прогнал он меня.
Красноармеец с распустившейся обмоткой задами пополз к хате. Он обогнул двор и пробирается по траве между кустов калины. Вот он уже лежит под низеньким оконцем. Над ним чуть повыше стоит Павлик. Глаза у Павлика устремлены на нас. Все боятся пошевельнуться. Боятся, что, увидя красноармейца, Павлик обрадуется, а тогда погиб и он и красноармеец. Надо Павлика крепко напугать и отвлечь бандитов.
– Огонь! – кричит командир.
Пулеметы начинают беспрерывно бить по крыше. Позади дома свистят, кричат. Я закладываю два пальца в рот и тоже свищу. Шофер нажимает грушу броневика. Такой гам, что оглохнуть можно.
Но вот красноармеец привстал на колени. Руки его медленно тянутся к Павлику – выше, выше. Потом он хватает Павлика за босые ноги и разом вниз – к земле.
– Огонь! – кричит еще громче командир.
Павлик выскользнул из своего огромного пиджака и, голый, свалился на красноармейца. Но красноармеец уже не дышит. Он упал головой в траву, а мертвые его пальцы все еще сжимают ногу Павлика.
Красноармейцы бьют теперь по опустевшему окну, чтобы бандиты не могли к нему приблизиться.
– Огонь! – все громче, все злее кричит командир. – Огонь!
В его вытянутой руке мелькнула граната. Отбежав на несколько шагов, командир изо всех сил бросил ее на соломенную крышу. И точно кто-то огромной ручищей стукнул по башке соломенную хату, – крыша крякнула, в сторону полетела солома, куски дерева и желтые клубы дыма окутали домик.
Сначала загорается крыша, затем начинают пылать стены. Из окошек, как из раскаленных печей, бьет пламя. Огонь обнимает хату. Взлетают и гаснут над нашими головами искры.
На мгновенье в окне появляется голова Лисицы.
Павлик изо всех сил тянет за собой убитого красноармейца. Подбежавший командир подхватывает мальчика на руки и уносит его к броневику.
Зарево пожара то разгорается, то тускнеет. Вот лица у всех красные, а вот они потемнели, стали серыми, точно высеченные из камня.
Все молчат, никто не шевельнется. Из хаты уже совсем не слышно криков. Валятся обгоревшие стены, и только голая печная труба одиноко торчит в дыму.
У броневика, поджав под себя ноги, сидит Павлик и плачет навзрыд. Рядом лежит убитый красноармеец. Увидев меня, Павлик поднимается. Ему негде ночевать, и он идет к нам. Он даже не простился с командиром, даже не оглянулся на убитого, который спас ему жизнь.
В местечке темно. Колеблющееся пламя пожара освещает нам дорогу.
Я ОЧЕНЬ ЗАНЯТ
Я очень занят, у меня страшно много дел. Целый день я ношусь по местечку. Надо всюду поспеть: здесь у меня драка с мальчишками, там красноармейцам раздают кашу, наконец должен ведь я быть на кладбище, когда убитых укладывают в братскую могилу. Домой я прихожу, только когда совсем уже проголодаюсь.
Я разбил себе ногу и прихрамываю, иду совсем медленно. Но, свернув на свою улицу, я кидаюсь бежать: у нашего дома стоят две оседланные лошади. Останавливаюсь и начинаю их разглядывать. Стоят они мокрые, опустив головы, и даже не щиплют траву. Коротконогий наш Муцик тоже поглядывает на них и ворчит.
– Пошел! – гоню я его.
Я подтягиваю штаны. Очень хорошо, что на улице никого нет. Один с этими лошадьми я чувствую себя почти взрослым. Ох, как мне хочется быть взрослым! Как настоящий кавалерист, похлопываю коней.
– Но-о! Чтоб вам пропасть! Пропустите! – кричу я на них и затем ударяю носком ботинка в дверь.
Я вхожу теперь в дом постоянно с шумом. Я уже курю папиросы и никого не боюсь. Никто даже не цыкнет на меня. Отец молчит, а маму увезли в больницу.
В доме почему-то пахнет аптекой. В соседней комнате кто-то ходит взад и вперед, иногда скрипнет наша старая кушетка. Это, наверно, отец сидит на кушетке. Но кто там с отцом? Дверь не открывается, видимо, заперта изнутри.
Прохожу в спальню. Единственное окно завешено простыней, свет еле пробивается. Вдруг слышу – кто-то стонет… Останавливаюсь в испуге у двери, затем на цыпочках подхожу к кровати. На ней кто-то лежит, накрытый шинелью. Из-под шинели торчат ноги в дырявых носках. Лица я не вижу, но догадываюсь.
– Ара! – зову я, наклонившись к нему.
Он, кажется, услышал меня и простонал:
– Магид, это ты?
– Какой Магид? – не понимаю я.
Возле кровати на табуретке стоит таз. В нем плавают клочки окровавленной ваты и марли. Медный котелок и шапка с красной звездой валяются на полу.
Мне становится страшно. Открываю тихонько дверь в комнату к отцу. Она взвизгивает, но отец не слышит и не оборачивается. У окна, спиной ко мне, стоит красноармеец. Отец сидит на кушетке, положив одну руку на стол, а другой подперев голову. В волосах у него перья из распоротых подушек.
– Ну-ну! – говорит время от времени отец, затем, подняв глаза к красноармейцу, добавляет: – Что ж, товарищ Магид, помогай вам бог!.. Но отцу вот тяжело!
– А я вас уверяю, что рана не опасная! – говорит Магид и подходит к отцу. Он наступает на подсвечник, поднимает его и ставит на стол. Он стоит перед отцом в кожаной тужурке, без шапки, с забинтованной головой. Смятая фуражка с поломанным блестящим козырьком торчит у него из кармана. – Пуля не затронула кости… Вот увидите… – И черные глаза Магида в прорези из марли делаются уже. – Хороший он у вас паренек! Еще мальчик, а не кричал, не стонал даже.
Магид садится на окно. В тишине звякает шпора. Он качает ногой, не замечая, что шпорой сбивает известку со стены, ощупывает рукой голову, прижимает марлю к виску.
– Мы с ним под Васильковом познакомились, – говорит он. – Была там с нами еще одна дивчина, Голда Ходоркова, тоже из вашего местечка. Вместе наступали на Васильков.
– Вы из Василькова?
– Из Василькова.
– Много там жертв?

Магид молча обвел взглядом облупленные стены:
– В Василькове было что-то страшное!.. И в Меджибоже и в Макарове!..
– О, господи! – стонет отец. – Только бы не сойти с ума, боже мой! – говорит он как бы сам с собой. – Никогда не представлял, что на свете столько убийц. И какие люди погибают! – Отец начинает рассказывать про Ходоркова. – Он остался с несколькими красноармейцами, но бился до последнего вздоха.
Слышно, как жужжит муха, как лошади позвякивают уздечками, как плачет соседка.
– Была семья… были дети… и нет их… Будет ли когда-нибудь этому конец?
Магид не отвечает и, кажется, даже не слышит, что говорит отец. Раскрыв окно и глубоко вдыхая воздух – под окном растет мята, – он долго смотрит на соседний обгоревший дом и на журавель над колодцем, который надвое раскалывает заходящее солнце.
– Мята! – И глаза его улыбаются отцу. – Эх, только жить и жить!.. А быть убитым в такой вечер, это, знаете, действительно обидно. – Он усаживается удобнее на подоконнике, подтягивает голенища. – Как-никак, а я у своей матери единственный сын. Но все-таки… – И он взмахивает здоровенным кулаком. – Кажется, Ара у вас тоже один?
Мне становится обидно.
– Как это так! А я?
Я сказал это так неожиданно, что сам испугался.
Магид поднял брови и смерил меня удивленным взглядом.
– Замечательно! – Он чмокнул губами и взял меня за подбородок. – Как вас зовут, молодой человек?
– Ошер.
Я опускаю глаза. Мне всегда неловко смотреть старшим в глаза. Дядя Менаше, который терпеть меня не может, говорит, что это «хорошенький признак»: из меня, мол, выйдет жулик или воришка. Исподлобья я вce же поглядываю на Магида. Он стоит у зеркала. В треснувшем зеркале я вижу и себя и от смущения скребу в голове: ноги у меня до колен в грязи, и выглядит это, точно на мне сапожки.
– Наследник мой, – говорит отец, вздыхая. – В замечательное время родился. И что из него выйдет?
Магид морщится, разглядывая меня, покачивает головой и затем проводит рукой по моим волосам.
– Собачник, – отвечает себе отец, – собачник из него вырастет! – И отворачивается.
Когда никого нет, сколько отец ни кричит, меня это не трогает. Но когда он говорит при людях, это меня злит. Я сжимаю челюсти до зубовного скрежета.
– Вот слышите? – кивает отец Магиду.
– Ого! Вот как, Ошерка?! – говорит Магид.
И потому, что он говорит «Ошерка», я успокаиваюсь. Магид кладет мне на плечо руку и долго разглядывает мои грязные ноги.
– Так как же, паренек? – И глаза его смеются. – Видно, грязная у тебя работал а?
О чем он спрашивает?
– Говорю, грязная у тебя работа? – показывает он мне на ноги. – Лужи чистишь?
– Нет! – смеюсь я и, как всегда, очень громко.
Когда ко мне хорошо относятся, я быстро становлюсь свойским. У Магида на боку револьвер. Я пододвигаюсь: поближе и тихонько тяну его к себе.
– Э, Ошерка, револьвер тебя не трогает, и ты его не тронь. – И он отводит мою руку. – Расскажи-ка лучше, что ты делаешь по целым дням?
– По целым дням? Ничего.
– Так-таки ничего? Скучно, наверно! Очень скучно, а?
– Нет, весело, – отвечаю я.
– Ве-се-ло? Так ты ведь золотко, Ошер! – смеется вместе со мной Магид. – Веселишься, значит. Где же ты веселишься?
– На кладбище. Там выкопали большую-большую яму… и всех кладут вместе… И мне тоже разрешили их засыпать, – говорю я с гордостью. – Мне тоже дали лопату.
Магид перестает смеяться, глаза у него останавливаются. Только что он был веселый и внезапно погрустнел.
– Но их же нужно засыпать… ведь убитые они!.. – оправдываюсь я.
– Да-да, Ошерка… нужно, конечно… – Он обхватывает мою голову обеими руками. – Нужно… А где ты еще бываешь?
– В штабе, у походной кухни, где выдают кашу.
– Ты что же, голоден?
– Нет, не голоден. Когда сильно хочешь кушать, – разъясняю я, – и не кушаешь, то потом проходит и уже кушать не хочется.
– Хочешь поехать за кашей?
– Верхом?
– Хотя бы верхом. Когда протрубят на ужин, мы с тобой поедем.
Засунув руки в карманы галифе, он принимается ходить из угла в угол, ступая так, чтобы не звякали шпоры. Он, кажется, сердит.
Небо над замшелыми крышами сделалось кроваво-красным. В комнате стало сразу удивительно тоскливо. Где-то протрубил горнист. Магид насторожился. С поля послышались одиночные выстрелы. В домике Ходоркова кто-то протяжно плакал.
– Ошерка! – Магид нагибается ко мне так близко, что касается марлей моего лица. – Кто это плачет?
Не понимаю, что ему нужно. Горнист уже протрубил, пора ехать за кашей.
– Кто это плачет? – переспрашивает он и подводит меня к окну.
– Это плачет мама Велвела Ходоркова.
– А там? – показывает он пальцем в сторону обгоревшей хаты.
В сумраке я вижу только белую марлю, белки его глаз и белые зубы.
– Это дядьки Владимира хата догорает.
Магид обнимает меня крепко-крепко и негромко говорит:
– Догорает дом… Мать оплакивает сына… Запомни этот вечер, Ошерка! И учись ненавидеть!.. Всей своей кровью, всей душой своей ненавидеть контрреволюцию!.. – Внезапно он обращается к отцу: – Пусть он дерется до последней капли крови! Пусть всегда смотрит на мир открытыми глазами! Он запомнит все это и за революцию перегрызет горло. С открытыми глазами пойдет он вперед и ни перед кем не станет на колени. Человеком, слышите, человеком, а не собачником вырастет он!
Строго глядя на отца, Магид затягивает на себе ремень. На меня он уже не глядит. Шарит глазами по комнате, выходит на кухню, возвращается снова.
– Куда девался котелок, дорожный мешок? За кашей пора! – говорит он, глядя на меня.
– В спальне он.
Я кидаюсь в спальню, срываю простыню с окна.
Ара уже не спит. На нем защитного цвета рубашка с нашивками на воротнике. Он морщится от боли.
– Чего вы там кричите?
– Это Магид, – отвечаю я. – Он кричит, что я не буду стоять на коленях и глаза у меня не будут закрываться.
– Ошер? – Он подымает брови и разглядывает меня, точно не узнает. – Что он болтает, отец? – пытается он улыбнуться отцу, который входит в спальню.
– Глупости! – И лицо у отца делается озабоченным. – Сильно болит, Арик?
– Чепуха! – машет рукой Ара. Ему хочется усмехнуться, но глаза у него закрываются, лицо передергивается. – Мама… Где мама?
– Маме, Ара…
Я хочу рассказать, что ей сломали руку, но отец выталкивает меня из комнаты.
– Бери котелок, ведь тебя ждут! – моргает он мне глазами.
Магид уже поит лошадей у колодца. Я подбегаю к нему, и он сажает меня в седло.
– Ну как, хорошо? – спрашивает он меня.
– Еще бы! – кричу я на всю улицу.
Мне очень хочется, чтобы все видели меня верхом на лошади.
Магид берет лошадей под уздцы и тихонько ведет их. Меж черными лошадиными гривами тихо покачивается его забинтованная голова.
Я сижу высоко и колочу ногами в бока лошади. И мне так хорошо, так хорошо!
МЫ ВОЮЕМ
Магид сказал, что нужно драться до последней капли крови. Вот я и дерусь.
На правой щеке у меня даже вырваны куски мяса, местами она как будто вся в оспинках. Это меня так обработал мой приятель Зяма, когда я его вел на расстрел.
Я уже много раз видел, как убивают людей. Я сам видел, как около нашего дома трое петлюровцев задушили Зяминого старшего брата. Я видел, как петлюровцы расстреляли в соседнем леске нашего комиссара Велвела Ходоркова. Семью его почти всю вырезали, спаслись только мать и сестра Голда.
Отомстить! Бить бандитов! Но как это сделать, ведь их не схватишь?
Зяму мне удалось недавно поймать, и я повел его на «расстрел». За него ведь некому заступиться, как за меня!
Все молодые ушли с Красной Армией, остальные разбежались. Я не учусь. Бояться мне теперь некого: мама больна, Ара лежит с простреленной ногой. Единственный здоровый человек в доме – это я. Правда, шея у меня в болячках. Доктор говорит, это оттого, что у меня мало крови, и меня надо получше кормить. Странный доктор. Он вроде ходиков во Владимировой хате: дом горит, а ходики все равно идут. Мы с трудом добываем отруби, а он советует пить сырые яйца.
Я ем теперь большей частью щавель, да и то не думайте, что его так легко найти. Этому нужно хорошенько поучиться. Ведь есть человеческий и конский щавель. Конский и в рот не возьмешь. Очень неплохо пожевать цветы акации, они сладкие-сладкие. Но много их есть нельзя. Не вредно покушать низушку стебля у лопуха. А лопухами у нас обросли все ставки.
Целый мир рушится вокруг меня. Большевики дерутся с петлюровцами. Одни уходят, другие приходят. Чуть ли не каждый день меняется власть. Шум, гам, пальба… Как только власти уходят, я тотчас забираюсь в штаб. Никогда не успевают все вывезти. Уж тут-то я набегаюсь по ободранным, захламленным комнатам штаба!
Я тащу все, что подвернется под руку: поломанный телефон, чернильницу, бумагу, штык, патронташ, обойму, а самое главное – телефонный провод. Телефонный провод я начинаю обрезать еще до того, как доберусь до штаба.
Из провода я делаю замечательные плетки. Плетку можно сделать и из веток вербы, но такая плетка скоро сохнет. Другое дело плетка из телефонного провода. Лучше всего сплести ее ввосьмеро. В конец еще хорошо вплести проволоку. Тогда получается настоящий хлыст. Она крепка, гибка, и если резануть ею воздух, раздается такой свист, точно рванулась шрапнель. Кроме плеток, я еще люблю лошадей, ружья, пули, – все, с чем возятся взрослые.
У меня теперь даже походка такая, как у нашего покойного комиссара. Велвел немного прихрамывал, я теперь тоже хромаю. Каблуки у него были набок, я делаю все, чтобы каблуки у меня тоже покривились.
Три дня я ревел, пока мне наконец не сшили широкие галифе из тонкого сахарного мешка. В моих штанах я теперь похож на перевернутую бутылку.
К этим галифе шапочник Лейба подарил мне фуражку с блестящим козырьком. Не знаю, где он достал ее, но она мне очень нравится. Верх у нее кроваво-красный, а околыш зеленый, и на нем старый след от кокарды.
Плохо только, что фуражка мне немного великовата. Пришлось напихать туда порядочно бумаги, чтобы она не сползала мне на уши. Но и после этого она вертится у меня на макушке, как волчок. Никак не удержу козырька на середке – вот он слева, а вот уже справа.
Когда я впервые пришел домой в своих галифе, в свалившейся на глаза фуражке и с красным бантом на груди, мама от испуга онемела, а отец стал ломать руки.
– Сейчас же, – сказал он, – сними эту дрянь! Иначе я тебе голову сверну.
Но голову он мне не свернул, потому что я тут же удрал.
Не нравлюсь я ему, зато очень нравлюсь всем приятелям. Они завидуют моей фуражке – говорят, что я выгляжу в ней страшным. Я, конечно, этому очень рад.
Собрались мы как-то около нашего дома. Я взобрался на бревна и говорю:
– Буля, Сролик, Зяма! Нужно сейчас же собрать всех ребят и начать войну. Все воюют, все стреляют, одни мы ходим без дела.
У всех ребят глаза загорелись. Все запрыгали от восторга.
Ставни по всему местечку закрыты. Кругом тишина. Только издалека долетает до нас гул перестрелки. Эта далекая перепалка воодушевляет нас.
Меня выбирают командиром, потому что ни у кого нет таких замечательных галифе, столько телефонного провода, гильз и обойм, как у меня, а самое главное – ни у кого нет такой удивительной фуражки.
Я, Буля и Сролик живем на одной улице, Зяма – на другой. Вот из-за этого чуть и не произошло несчастье.
Зяма изменил нам. Представьте себе, он убежал от нас и сколотил свой отряд.
Теперь половина местечка моя, другая половина – Зямина. Он называет свой отряд большевиками, и мы называем себя большевиками. Мы их называем петлюровцами, и они зовут нас петлюровцами. И мы с ними на ножах.
Зяма не смеет показаться на нашей улице, а я не хожу там, где живет его команда.
С утра до вечера мы маршируем, расцарапанные, с подбитыми глазами. Впереди я – в своей кроваво-красной фуражке и в замечательных галифе, с забинтованной головой, как у Магида, а за мной, с криками «ура», со свистом, – все ребята с нашей улицы.
Мы деремся камнями. Но камней у нас нет, и мы обдираем на домах штукатурку, глину, тащим кирпичи. Дома теперь из-за этого стоят облупленные.
У нас есть ружья, и даже неплохие. Мы делаем их сами. Из толстой дощечки выстругиваем ложе, приклад – все, что полагается. Потом в ложе делаем желобок и в нем укрепляем металлическую трубку, в нижнем конце ее просверливаем дырочку – и ружье готово. Его можно набивать порохом.
Трубки очень легко достать. Возле милиции валяется много реквизированных самогонных аппаратов. Аппараты эти состоят из бочоночков, жестяных кругов, и, самое главное, в них уйма трубок, которые называются змеевиками. Мы забираем все. Трубки идут на изготовление ружей, а из бочонков и жестяных кругов мы делаем барабаны и тарелки. Мама уверяет, что, когда тридцать – сорок ребят начинают бить в барабаны, можно умереть.
Пороху тоже достаточно. У нас уйма патронов; тут и маленькие английские с острыми пулями и желтым порохом, похожим на длинную, тонкую лапшу; тут и русские – они чуть побольше, а порох в них черный и нарезан короткими палочками; австрийские легче всего узнать: пуля тупая, закругленная, а порох черный до блеска и похож на маленькие листочки. Но нам всякий порох хорош! Пули нам не нужны, а гильзы необходимы: гильзами мы набиваем карманы, и, когда бежим, они бренчат у нас в карманах как бешеные.
Домой я всегда вваливаюсь вооруженный, руки в карманах, с грохотом, с шумом:
– Кушать!
Отец тут же начинает стонать. Он говорит, что все пошло кувырком, а дети сошли с ума. Мама молчит. Она стала еще меньше, очень похудела. Левая рука у нее все еще в гипсе. А что касается брата, то доктор говорит, что ему придется отрезать ногу.
Ара подзывает меня и говорит, что я веду себя нехорошо. Он хочет мне еще что-то сказать, но вдруг лицо у него искажается от боли. Его страшно мучает рана.
В доме мрачно и скучно, так скучно, что плакать хочется.
А дядя Менаше плюется. Он находит, что лучше меня сразу отравить, чем дать вырасти.
Мама кричит, чтобы он перестал бередить ее раны. И я с ней вполне согласен. Если б дядя Менаше не был пожилым человеком, я бы его как следует поколотил. Мне и без него кисло, а главное – кушать хочется.
Выхожу на улицу и сажусь на бревна. Кругом тихо. У нашего дома стоит свинья. Сразу – бац в нее камнем. Пусть знает! Потому что я хожу постоянно голодный.
Но вот издали слышно, как ребята бьют в тарелки. Звякает жесть и наполняет меня мужеством. Я вскакиваю и бегу им навстречу.
Буля, Сролик и другие ведут Зяму. Они его поймали на нашей улице. Он шел в аптеку за лекарством для матери.
Наконец-то враг у нас в руках. Враг этот маленький, толстенький. Он тоже голодает, но щеки у него все еще похожи на пампушки.
Не глядя на меня, Зяма просит, чтобы я поскорее отпустил его: ему нужно в аптеку, матери очень плохо.
– В лес его! – командую я. – Это петлюровец!
Я выступаю впереди всех и размахиваю своим хлыстом из плетеного провода. Сзади шагают мои ребята и бьют в тарелки. Зяма ревет во все горло.
– Сразу видно, что петлюровец. Большевики не ревут! – кричу я на него.
Мы входим в молодой и густой кленовый лесок. В самый солнцепек здесь сумрак и прохлада. Мы идем теперь узкой извивающейся тропкой, которая ведет к ближайшему шоссе. В этом лесу петлюровцы расстреляли Велвела Ходоркова.
Земля здесь влажная, пухлая и повизгивает под ногами, точно молодой щенок. Ветки переплелись и царапают лицо. Мы подводим Зяму к тому самому дереву, у которого петлюровцы расстреливали Ходоркова. Еще видна дырочка от пули.
Товарищи мои присмирели. Нам самим становится не по себе от вида этого дерева. А Зяма ревет все громче. Но мы все-таки начинаем привязывать его к стволу.
– Не плачь, – говорит ему Буля, – кажется, кто-то идет.

И действительно, узкой вьющейся тропой идут люди. Через несколько мгновений мы узнаем Голду Ходоркову. С нею незнакомые красноармейцы. Видно, они возвращаются с фронта.
Голду я хорошо знаю. Она ушла из местечка еще раньше Ары. Вот она останавливается, осторожно выглядывает из-за дерева. Испугалась, видно, услышав голоса.
– Это я, Ошер! – кричу я ей.
– Ошерка, милый! Чтоб ты здоров был!
Она подбегает к нам, обрадованная, веселая. Ее ботинки на высоких каблуках связаны шнурками и переброшены через плечо.
– Прекрасно! – говорит она красноармейцам, затем оборачивается к нам. – У нас в местечке большевики?
– Большевики, – отвечаю я.
– Что ж вы здесь делаете так поздно? – Она берет Зяму за подбородок. – Отчего у тебя такая заплаканная мордашка?
– Он бандит, петлюровец! – сообщаю я, смущенный.
– Что-о? – Голда так хохочет, что глаза у нее превращаются в щелочки и в них появляются слезы.
Она говорит с красноармейцами по-русски. Очевидно, рассказывает им про Зяму, что он «петлюровец». Она говорит, что нужно обратить внимание на детей, вызвать их в ревком.
Мне уж не терпится, хочется ей все рассказать.
– Голда, – говорю я, – Ара тоже дома. Его привез на лошади красноармеец Магид.
– Ара? – Она радостно хлопает в ладоши. – И Магид? Не может быть! – Она тискает меня в объятиях. – Слышите! – кричит она красноармейцам. – Магид, черт его побери, был здесь!
Голда садится на упавшее дерево, сбрасывает со спины свой вещевой мешок и достает оттуда чулки, затем начинает обуваться. Волосы падают ей на глаза.
– Значит, дорогой мой, Магид еще здесь? – Она причесывается. – Не знаешь? Стало быть, в местечке тихо? – Она говорит сквозь зубы, потому что во рту у нее гребенка.
Присаживаются и красноармейцы. Голда все прихорашивается.
В лесу тихо и сумрачно. Деревья покачивают головами. Временами с шоссе доносится стук копыт, слышна далекая перестрелка.
– Ну, говори, – поворачивается ко мне Голда, – какие новости? Значит, петлюровцы у нас не были?
Она, видно, шутит.
– Ого, еще сколько! – выскакивает Зяма.
– И убивали…
– Еще как!
Я отталкиваю Зяму:
– Зяминого брата убили, комиссара Велвела Ходоркова…
Подбегаю к высокому клену, к которому привязывали Велвела, и показываю ей дырочку от пули, следы крови. Я совсем забыл, что это его сестра.
Голда вздрагивает. Ее большие, широко открытые глаза наполняются слезами.
– Вот здесь, говоришь? – Она подходит к дереву, прижимается к нему лицом.
На нее падает прорвавшийся сквозь ветви отблеск заката. Красноармейцы стоят с непокрытыми головами. Мы тоже снимаем шапки.
Голда, кажется, плачет. У нее вздрагивают плечи, она кутается в платок.
Мне становится страшно. Подхожу ближе к Голде, хочу ей сказать, что больше так вести себя не буду. Кладу руку Зяме на плечо.
Голда, не оборачиваясь, выходит на дорогу. Мы идем за ней. Большая красная луна выползает со стороны луга.
Старый высокий красноармеец берет меня за руку. Позади идут Сролик, Зяма и Буля.
На речке усердно квакают лягушки. В вечернем воздухе звенит комариный плач.








