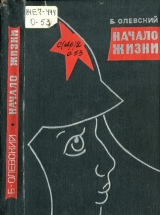
Текст книги "Начало жизни"
Автор книги: Борис Олевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 16 страниц)
У МАТИЛЬДЫ
Вчера, доставив с вокзала газеты, мы со Сроликом забрались на чердак и принялись распаковывать их и сортировать. Кругом спят, только мы одни бодрствуем. Новости со всего света приходят сюда к нам, на чердак, и только завтра мы их разнесем по местечку.
Ленин очень болен. Всем хочется знать, как он себя чувствует. Мы начинаем читать газеты с бюллетеня и узнаем, что ему лучше. Утром мы всем сообщим, что Ленин выздоравливает. Мне очень хочется, чтобы он поскорей поправился. Поставив свечу на пол, я принимаюсь просматривать картинки в журналах, потом разглядываю плакаты, которые нам все время присылают.
Вытянувшись рядом со мной и подперев голову, лежит Сролик и читает газету. Между нами на полу потрескивает восковая свеча.
– Ошер!
Я чувствую руку Сролика на своем плече, но, погруженный в чтение, даже не отзываюсь.
– Ошер! – восклицает он снова. – Земля! Земля!
Он вскакивает и принимается размахивать газетой.
От этого крика у меня начинает покалывать в затылке. К тому же он газетой потушил свечу.
– Сролик, – умоляю я его и бегу в угол, чтобы зажечь спичку, – какая земля? – Меня пугают его дикие выкрики.
– Земля! – Он сует мне газету в руки и тащит к свече. – Смотри! – тычет он пальцем. – Евреям дают землю! Всем дают землю. Мы будем работать на земле!..
Я не сразу все постигаю. Но уже через минуту и сам ору:
– Земля! Земля!
Сролик говорит, что должен немедленно сообщить об этом своему отцу, и убегает.
Спускаюсь с чердака и я. Врываюсь в дом. Там тихо.
– Земля! – кричу я. – Земля!..
– Какая земля? Что с тобой? – в испуге спрашивает отец.
– Все на землю!
– Боже мой, что случилось? – кричит мать.
Однако я не могу долго с ними разговаривать, к тому же они совершенно заспанные. Быстро раздеваюсь и валюсь в постель. Но заснуть не могу. Надо, чтобы отец поехал на землю! Я уже рисую себе, как, встав на рассвете, отправлюсь в поле пахать. А вокруг дома поля, и аисты вьют гнезда на крыше нашего сарая. Это моя мечта. Как Голда и Каминер, я мечтаю о том, чтобы закрылись все грошовые еврейские лавчонки, чтоб сгинула вековечная нищета.
Утром я, как назло, проснулся очень поздно. Особенно это обидно потому, что к нам сегодня уже приходил Каминер с каким-то незнакомым человеком. Они осматривали наш сарай, и Бечек сказал, что поставит у нас лошадей и повозки, а на чердаке свалит сено.
Когда я примчался в Совет, там уже невозможно было пробиться. Люди сидели на завалинках, стояли под окнами.
– Земля! – принимаюсь я кричать еще издали. – Земля! – и показываю всем газету.
Однако никто меня не слушает. Даже отталкивают от двери и кричат, что я не такая уж важная птица и могу постоять в очереди.
– Мне нужно сообщить, что дают землю! – рвусь я вперед. – Землю!
– Здрасьте! – таращит на меня глаза кожевник Зузл и покатывается со смеху. – Здрасьте, я ваша тетя!
Оказывается, все уже знают об этом. Каминер приехал в местечко с уполномоченным, и сейчас все записываются на землю.
Жаль, что я не первый сообщил о земле! Но ничего не поделаешь! Поворачиваюсь и ухожу.
Подо мной внизу сверкает речка, и в ней отражаются вербы. Вдали чернеет куча золы, торчат обгоревшие бревна и печь бывшей фабрики. Но на душе у меня все же радостно.
Тогда я бросаюсь к школе. Хоть ребят обрадую. Покажу Голде газету, пусть и она узнает о земле.
Взлетаю на Голдино крыльцо. Дверь заперта. Новый никелированный замок уже в нескольких местах заржавел. Пригнувшись, сую газету в щель под дверь.
Однако, сколько я ни стараюсь, газеты почему-то не лезут. Схватив щепку, я принимаюсь возить ею под дверью. Что-то, однако, мешает там. Тогда я заглядываю в щель и отскакиваю как ужаленный. Оказывается, все газеты, которые я уже столько времени сую сюда, лежат нетронутыми. Матильда их не забирала.
Медленно схожу с крыльца. Мне становится страшно: не случилось ли несчастья! Я знаю, Голда обычно не могла дождаться почтальона и постоянно посылала ребят на почту за газетами. Надо сейчас же сообщить об этом учителям, бежать к Ищенко!
Но в учительской, куда я примчался, никого нет. Все в классах. Слышно, как там стучит мел о доску, как учитель бранит кого-то. Все здесь как обычно, точно с Голдой ничего не стряслось.
Выскакиваю из школы. Отправиться в партком или в Совет? А может быть, все это чепуха? Никак не могу себе представить, чтобы Голда умерла. А потом надо мной будут смеяться и Голда рассердится. И, не раздумывая больше, я направляюсь к Матильде.
Осень. У Троковичера хмель с проволоки уже сорван, огороды перекопаны, только большие белые кочаны капусты еще сидят на своих местах. На полях еще кое-где лежат одинокие бабки хлеба. Вороны стаями ходят по стерне, наполняя карканьем осеннюю тишь.
Перейдя железнодорожную насыпь, спускаюсь почерневшей полевой дорогой к хутору. Мазанки стоят, точно голые, посреди поредевших садов. Скирды хлеба, прижатые крест-накрест лесинами, желтеют в каждом дворе. Только у домика Матильды нет даже стога сена. Одиноко торчит красная черепичная крыша, и рядом прислонился высокий голый тополь.
Осторожно подкрадываюсь к дому. На кирпичах стоит чугунок воды, под ним погасшие головешки. Под крышей висят початки кукурузы, связки мака, подсолнухи.
Пробую открыть дверь, но она заперта. Единственное маленькое окошко прикрыто ставней. Может быть, Матильда и Голда в саду или на огороде? Обхожу дом вокруг. У стены лежит куча картофеля, на нем еще сырая земля. Значит, его недавно выкопали. На завалинке – книжка. Стало быть, Голда никуда не уезжала.
– Голда! – кричу я обрадованный. Поскорей бы рассказать ей все новости!
– Олда! – отвечает мне эхо, и вспугнутая ворона начинает кружить над тополем.
– Матильда!
– Ильда! – отвечают голоса со всех сторон.
Это мне нравится. Принимаюсь без конца кричать, просто так, от нечего делать. Охрипший возвращаюсь во двор и, стащив подсолнух из-под стрехи, присаживаюсь на завалинке и принимаюсь грызть семечки. Надо подождать, решаю я, вероятно, они скоро придут.
Но, кажется, в комнате кто-то ходит, вроде кто-то простонал. Прикладываю ухо к двери. Нет, мне почудилось; ничего внутри не слышно. Но не успеваю я сесть на место, как до меня снова доносится какой-то шорох.
Может быть, они спали и теперь встают? Стучу в дверь, но никто не отзывается. Тогда я подхожу к окну. Открываю ставень и заглядываю внутрь. И вижу что-то ужасное. Хочу крикнуть, но не могу.
Матильда стоит на коленях спиной ко мне. Она отвешивает желтому глиняному полу поклоны. Над Матильдой у потолка висит чуть светящаяся лампада. В ее дрожащем красноватом сиянии я внезапно замечаю Голду.
Она лежит в постели, и высокая спинка кровати заслоняет ее всю. Видна только голова и рассыпавшиеся по подушке волосы. Ее страшные остекленевшие глаза испуганно остановились на мне. Мокрый, поблескивающий лоб стягивается морщинами, и красная струйка крови появляется у закушенной губы.
– Голда! – кричу я изо всех сил и рву к себе окошко.
Но Голда начинает еще больше метаться. Матильда вскакивает с пола и, подбежав, перегибается над ней так, что целиком заслоняет ее.
Я уже не вижу Голды, но внезапно слышу ее ужасающий крик. Тут же, обессиленный, оседаю вниз. Долго-долго несутся в поле эти крики. Даже вороны поднимаются с соседних огородов и испуганно улетают прочь.
А потом становится тихо. Наступает такая тишина, что я слышу, как падает листок с тополя, как пролетает бабочка и исчезает за домом.
Еще доносится еле слышный стон Голды. И вдруг он прерывается слабеньким, отрывистым «у-a», точно возле нее вскрикнул ребенок.
Кидаюсь к двери и принимаюсь рвать ее с петель, стучать кулаками и ногами. На пороге появляется Матильда. У нее засучены рукава, и на руках кровь, но круглое рябое лицо улыбается.
– Бэ-э-э, – говорит она еле слышно.
Но именно эта улыбка заставляет меня повернуться и бежать.
Несусь стремглав и все время спотыкаюсь. Горе гнетет меня, и слезы застилают мои глаза.
САМЫЙ ПЕЧАЛЬНЫЙ ДЕНЬ В МОЕЙ ЖИЗНИ
С утра до ночи не утихает возня наших коллективистов. Во двор к нам уже не войти. Здесь полно телег, борон, плугов. В воздухе стоят запахи конского навоза, дегтя, ременной упряжи. Даже ночью, лежа в постели, я чувствую эти запахи и слышу, как сладко жуют сено десяток лошадей.
Если б не школа и газеты, я бы теперь не вылезал из конюшни.
Несколько дней подряд я бегал следом за Каминером и помогал ему: в самую рань мчался в слободу звать крестьян, которые учат наших коллективистов пахать. Отец Сролика чуть не покалечил лошадь. Председатель соседнего сельсовета Близнюк ругает его за то, что он слишком сильно нажимает на плуг, – вести его надо легко и смотреть, чтобы отваливался ровный пласт, чтобы была одинаковая глубина вспашки.
В марте наш коллектив имени Ленина выедет в Херсонскую губернию. Сейчас Каминер собрал извозчиков. Они показывают, как надо обращаться с лошадьми, как запрягать, как ездить верхом. Из-за всего этого я бываю очень занят.
Каждый вечер я читаю нашим коллективистам газету, главное – бюллетень о состоянии здоровья Ленина.
Дни нынче коротки. Как только стемнеет, в конюшне зажигают «летучую мышь». Рассаживаются кто где: на соломе, на повозках, – и льется тихая беседа. Говорят обо всем на свете, но больше всего о весне, которая скоро придет, о том, как выедут в поле.
Никогда еще я не видывал таких счастливых глаз, как здесь, когда под потолком горит фонарь, лошади жуют овес, а Каминер рассказывает людям о лете в степи, о высокой пшенице, о Днепре, по которому ходят пароходы.
Когда я после этого вхожу в дом, мне плакать хочется оттого, что я не еду туда, что не буду пахать, не выйду на рассвете убирать хлеб.
Но вот уже третий день, как кончились разговоры о Херсоне. Теперь люди всюду толкуют о Голде. Мама даже стала оплакивать Басю-кожевницу, дожившую до такого позора. Шепчутся из-за того, что позавчера Голда пришла в местечко с ребенком.
Я хоть давно знаю о ребенке, но как-то неловко было зайти к ней. Но раз над Голдой смеются, значит, обязательно навещу. Голду уже посетил Каминер, заезжал Ищенко.
Сегодня вечером я набрался храбрости. Тихонько открыв хорошо знакомую перекошенную дверь в сени, я долго отряхивал снег с ног, потом с бьющимся сердцем взялся за щеколду. Однако приподнять ее я не смог, так как она примерзла.
– Войдите! – услышал я голос Голды, и тотчас открылась дверь.
Открыла мне мать Голды. По-видимому, в сумерках она меня не разглядела, поэтому наклонилась ко мне так близко, что я увидел морщинки на ссохшемся ее лице, седые волосы, выбившиеся из-под черной шали. Она часто-часто качала головой.
– Ах, это ты? – еле выговорила она, затем сразу отвернулась, подошла к маленькому окошку и стала оттирать пальцем лед, намерзший на стеклах.
Голда попросту кивнула мне головой, как если бы мы расстались с ней только вчера.
– Садись, Ошер!
Я разглядываю свивальники, развешенные по всей комнате, и молчу. Однако почему сама Голда ничего не говорит? Тяжело так сидеть.
– Принес вам газеты, – говорю я.
– Спасибо, – отвечает она, но не берет их у меня. Она сидит на скамеечке у плиты и покачивает легкую зыбку.
Отсветы из топящейся плиты ложатся на земляной пол и стену красными трепещущими пятнами. Они падают и на Голду.

Я замечаю, что волосы у нее стали пышней и мягче, лицо чуть вытянулось и потемнело. И может быть, потому, что накрытая одеяльцем колыбель выглядит как шатер, может быть, из-за пламени в печурке, но Голда представляется мне сейчас цыганкой у костра.
– Чего я сижу? Ну, чего я сижу, ты не знаешь? – Она вскакивает со скамейки и встряхивает, как всегда, головой так, что вся копна черных волос ложится у нее, как причесанная.
Словно не зная, за что взяться, она бесцельно ходит по комнате, затем начинает снимать развешенные на веревках свивальники и пеленки, разглаживать их пальцами и складывать в корзиночку.
– Ну, мама, я ухожу, – говорит она и оборачивается ко мне: – Ошер, поможешь донести корзинку к Троковичеру? Не могу же я бегать сюда из школы! Ладно?
– Ладно, – отвечаю я, хотя мне уже пора на вокзал за газетами. – Голда, – стараюсь я прервать наступившее молчание, – у нас в конюшне находится все имущество коллектива имени Ленина.
– Знаю. Здесь был Бечек. Он все рассказал.
Раз Голда знает о коллективе, мне опять не о чем говорить с ней. А она, как назло, ни о чем не спрашивает.
– Голда, я получил письмо от Магида. – Надо же что-нибудь говорить. Правда, письмо это я получил несколько месяцев тому назад. – Магид шлет вам привет и расспрашивает о вас.
– Ты ему что-нибудь обо мне писал?
– Нет, не писал.
– И не пиши. Сама напишу. Он еще в Харькове?
– Нет, в Москве. Я ему писал, что хочу ехать учиться. Он ответил, чтобы я приезжал.
– И много ребят едет?
– Да, Голда, много. Закончу школу и поеду… И буду писать вам письма.
– Человечек! – Она глядит мне в глаза, и уголки ее губ так улыбчиво приподнимаются, что в темноте сверкает белая полоска зубов. – И кто говорит об отъезде! Послушай, мама, кто тут разговаривает о Москве!
Но мать не отзывается. Голда вновь хмурится. Она надевает жакет и поверх набрасывает шаль. Протянув мне веревочку от колыбели, она просит меня покачать ребенка, пока она сходит за охапкой дров.
Как Голда, присаживаюсь на скамеечку около печки и принимаюсь покачивать зыбку.
– А-а-а, – напеваю я при этом. – А-а-а.
– Дождалась на старости лет! – говорит мать. – Господи! – Я вижу ее воздетые руки, раскалывающие заходящее зимнее солнце. – Отец небесный! Чтоб его так разломило, как он изломал мою жизнь и жизнь моей дочери!..
– В чем дело? Ты опять за то же? – Голда входит и тихонько складывает у плиты дрова.
Бася сразу же перестает плакать. Но она не оборачивается и не отвечает Голде. Видно только, как еще больше дергается голова и трясутся ее плечи.

Усмехнувшись, Голда подходит к кровати и расстилает теплое одеяльце. Затем она наклоняется к зыбке и вынимает оттуда спящего ребенка.
– И ты, Ошер, был когда-то таким карапузом! – говорит она и осторожно берет ребенка на руки.
Предо мной красноватое круглое личико, вздернутый носик и пухлые, чуть приоткрытые губки, сладко чмокающие во сне.
Голда несет ребенка к кровати и закутывает его в одеяло так, что из свертка выглядывает только вздернутый носик.
А Голда, как и раньше, вновь стройная, тонкая, надевает свой казакин, обшитый беличьим мехом, и, повязавшись белым теплым платком, берет на руки ребенка. Я подхватываю ее корзиночку и иду вслед за ней.
– Ну, доброй ночи, мама!
– Будьте здоровы!
Но, выйдя на улицу, которая ведет к базару, Голда останавливается и, отвернув шаль, осторожно оглядывается по сторонам. Затем она поворачивает голову в сторону церкви. Торжественные колокольные звоны, то низкие – басовые, то высокие, разносятся по завечеревшему местечку.
– Суббота сегодня, что ли?
– Да, суббота.
Голда поднимает голову к низкому облачному небу и как будто разыскивает там звездочку. Она, кажется, рада, что нигде в домах еще нет огней.
На вечерней улице почти никого нет. Над синими заснеженными крышами вздымаются дымки. Они то вьются столбом к красно-сизому небу, то, покачиваясь, ползут к земле. Видно, в поле ветер, но здесь от него заслоняют дома. Все же время от времени земля начинает куриться, сыплет снегом в лицо, а колокольные звоны то приближаются, то вдруг уходят куда-то.
Навстречу нам, по-видимому, из синагоги, идет Вениамин. Руки у него заложены в рукава, голова втянута в воротник, так что торчит один только нос. Позади него торопливо шагает до глаз укутанная женщина.
– Ошер! – тянет меня за рукав Голда и поворачивает назад.
– Куда, Голда?
– Понимаешь, ветер…
И она пробирается заборами, а потом и вовсе идет задами. А чуть где-нибудь хлопнет дверь или послышится голос, она сразу жмется к какому-нибудь углу и спешит все время так, что я еле поспеваю за ней.
– Зачем мы плетемся дворами? Пойдемте, Голда, улицей.
– Что? – испуганно спрашивает она. – О чем это ты, Ошер?
– Ведь ветра уж нет.
– Да, да! – Она выпрямляется и вскидывает голову так что с платка сыплется снег. – Да, да! – выкрикивает она в ярости. – Ветра действительно нет. И чего мы тут ползаем?..
Она выше поднимает ребенка и выбирается на шоссе. Голда теперь не торопится. На шоссе прохожих больше, и я примечаю, как встречные вглядываются в нее, а потом, остановившись, долго смотрят вслед.
Голда не оборачивается. У ее бровей появляются хорошо знакомые бугорочки гнева. Глаза под длинными заиндевелыми ресницами загораются и щурятся навстречу базарному фонарю.
На базаре уже зажглись огни. Светятся окна кооперации. Вижу сквозь распахнутые ворота нашей конюшни огонь «летучей мыши».
– Вон он, наш коллектив, – показываю я в ту сторону.
– Что?
– Вон он, коллектив. Давайте зайдем – посмотрите!
– Ладно, зайдем! – И она заворачивает к нам.
Я беру ее за руку, потому что в конюшне не пройти из-за повозок, плугов, борон.
– Осторожно, Голда.
В конюшне полумрак. Никого нет. Слышно только, как с чердака сбрасывают сено и кто-то возится у лошадей.
– Вот это, Голда, шлеи, – весело говорю я. Потом я подвожу ее к развешенным по стенам уздечкам, вожжам и другой упряжи. – А вот наши лошади. Они едят из яслей. Это бороны.
– Кто это там распоряжается? – Из-за лошадей появляется насмешливое лицо Зузла.
– Ты что это, людей не узнаешь? – оживляется Голда. Она подходит к повозке и облокачивается о лестничную перекладину, чтобы легче было держать ребенка. При этом она его чуть покачивает, чтобы он не проснулся. – Загордился, Зузл?
– О-о, да ведь это Голда!.. И с наследничком! – кричит он весело и, подмигивая ей глазом, покатывается со смеху. – С наследничком!
В доме раскрылась дверь, и на порог вышла мама. Сролик, сбрасывавший сверху сено, просунул голову сквозь доски настила и с испугом смотрит на Голду. Соседка Хая-Сора тоже уже сунула сюда свой нос. У ворот конюшни столпились женщины.
– Зузл! – говорит Голда, поглядывая на женщин и медленно подступая к нему. Она снимает несколько соломинок с его кожушка и шапки и подносит их к самым глазам Зузла. – Солома набилась и, видно, щекочет тебя.
– Какая солома? – теряется он и начинает отряхиваться.
– Не сюда, а в голову, – говорит она, вся дрожа. – Что это тебя сегодня смех разбирает?
– Гляди-ка, и слова нельзя сказать об ее наследнике! – упрямствует Зузл и пытается даже рассмеяться.
– Терпеть не могу, когда без причины скалят зубы, понял, Зузл?.. – кричит она и зовет маму, которая уже хотела скрыться в дом. – На минуточку, Лея! И вы, Хая-Сора! Все, все! – Она зовет мужчин и женщин, столпившихся у ворот.
Некоторые тотчас стушевываются, остальные подходят ближе. Тишина такая, что слышно, как сопят носы, как кони жуют овес и позвякивают цепями у яслей.
– Голда, – протискивается ближе расстроенная мать, – как ты поживаешь? Как чувствует себя дитя?
– Говорят, замечательный ребенок, – кутаясь в шаль, замечает Хая-Сора и сладенько улыбается.
– Кто это говорит?
– Говорят. – И Хая-Сора пятится назад, точно боится пощечины.
– Дай ему бог здоровья! – Голда поднимает ребенка. – Велвел зовут его, Лея.
– Пусть живет в довольстве и чести!
– Спасибо, – отвечает Голда.
И мама, плачущая по любому поводу, принимается утирать глаза кончиком платка.
Когда все разошлись, сверху спустился Сролик. Растрепанный, подходит он к Голде:
– Добрый вечер.
– А-а, Сролик? И ты уезжаешь?
– Я уезжаю с отцом, товарищ Голда.
– И много семейств отправляется? – спрашивает она теперь Зузла, точно и не бранила его.
– Ленинцев – тридцать семейств, товарищ Голда. А сейчас Каминер организует новый коллектив.
– Замечательно! – Она снова оглядывает гору плугов, борон, повозок. – Я как-нибудь еще зайду. Ну, будьте здоровы!
– Может быть, запрячь сани, товарищ Голда, подвезти?
– Не стоит, Зузл. Здесь уже недалеко. Вечер вам добрый. – И Голда выходит из конюшни, останавливается у фонаря, – она давно не видела базара и удивляется тому, что лавчонок стало меньше.
– Меньше, конечно, Голда. Вон, смотрите! – указываю я ей на ряд рундуков. На некоторых висят сургучные печати, другие вовсе заколочены.
– Меньше лавчонок, – говорит она как бы про себя, – а ленинцев больше. Кому пришло в голову дать коллективу имя Ленина?
– Всем, Голда. И мне и Бечеку. А вам нравится?
– Нравится, Ошер. – Она шагает со мной к школе, не обращая внимания на то, что встречные останавливаются и с любопытством разглядывают ее и ребенка.
– А еще Каминер предложил послать Ленину письмо. Он болен… И любит нас.
– Это идея, – спохватывается Голда. – Ты сегодня увидишь Бечека?
– Нет. От вас я сразу помчусь на станцию.
– Надо бы, чтоб он ко мне зашел. Мы вместе составим письмо.
– И я тоже, Голда. Я завтра зайду к Каминеру.
– Ладно, пускай завтра! Сегодня поздно.
Уже совсем темно. По обе стороны дороги тянутся пустынные поля. Становится морозней, крепче бьет снег в лицо. Редко-редко мелькнет огонек одинокой заснеженной хатки.
У Голды окно уже светится, в доме дымят все трубы.
– Пришла Матильда, – говорит Голда и, заслоняя ребенка от ветра, быстрей идет к дому.
Я останавливаюсь у крыльца.
– Доброй ночи, Голда.
– Доброй ночи, Ошер.
Заснеженными полями направляюсь к станции.
В последнее время наша станция делается все оживленнее. Сюда являются люди с корзинками, узлами, постелями и уезжают в далекие края: в Харьков, в Петроград, в Москву.
В зале ожиданий, где под самым потолком горит маленькая лампа, холодно и неуютно. На красных четырехугольных плитках пола лежит нерастаявший снег. Я не люблю здесь сидеть. Я подружился с долговязым, худым телеграфистом и со Шкабурой и часто посиживаю либо в кассе при выдаче билетов, либо в комнате начальника станции, где топится железная печь и постоянно жарко.
– Добрый вечер, товарищ Шкабура! – говорю я, появляясь в клубе морозного пара.
Шкабура бормочет что-то под нос и ворчит – я напустил ему в комнату холод. Вскоре он начинает прислушиваться к крику за стеной и хлопанью вокзальных дверей.
– И чего это теперь так много разъезжают? – спрашивает он.
– Отправляются искать работу в городах, товарищ Шкабура. Едут на землю. И я тоже.
Я собираюсь рассказать ему, что вскоре уеду к Магиду. Но Шкабура уже клюет носом в телеграфный аппарат. Потом он вдруг просыпается:
– Что ты сказал?
Он протирает голубоватые, водянистые глаза, затем, взглянув на большие тикающие часы, успокаивается и вновь начинает дремать. Он не слышит даже стука телеграфного аппарата, его не пробуждает телефон, который каждый раз так неожиданно звонит, что я вздрагиваю.
Мне видны только сдвинувшаяся набок фуражка начальника с красным верхом, белая свеча в фонаре с бордовым и густым зеленым стеклом, поблескивающая медь телеграфного аппарата и два никелированных звоночка на желтой коробке телефона.
Пододвинув полено, я усаживаюсь подле железной печи и принимаюсь совать туда щепки. Дрова загораются, трещат, рассыпая кругом искры и наполняя комнату прыгающими огненными пятнами.
Но чем ярче, чем веселей потрескивает в печурке, тем гуще наливается чернотой большое промерзшее окно. За стеклами не видно даже рельсов. По-видимому, потух фонарь на платформе. Слышно только, как пронзительно-тонко, точно кого-то оплакивая, посвистывает в проводах ветер.
– Товарищ Шкабура, поезд опаздывает? – спрашиваю я, когда начальник вновь начинает протирать глаза и смотрит на часы.
– Как так? – настораживается он.
И в самом деле поздно, пора билеты выдавать.
Как всегда перед приходом поезда, он приосанивается. Низенький, толстенький, он сразу как-то надувается, поправляет фуражку на голове и проверяет, застегнут ли он на все пуговицы.
– Как это опаздывает? – спрашивает он снова.
– Метель! – показываю я на окно. – Вьюга пути заносит.
– Чего заносит? – раздражается он, так как не терпит, когда говорят дурное об его участке. – У меня снег чистят! У меня следят! Наконец щиты…
– Ясно, щиты, – повторяю я, – конечно, не заносит.
Я подсаживаюсь поближе к нему. Его важность, уверенность передаются мне и делают меня тверже. В сотый раз начинаю разглядывать провода, спускающиеся с потолка к телеграфному аппарату.
– Что ж, они до самой Москвы доходят? – спрашиваю я почти шепотом. Мне уже много раз говорили, но я никак не могу себе представить, что они такие длинные.
– Конечно.
– И до самого Ленина?
– Что?
– Я спрашиваю: и с Лениным вы можете говорить по этим проводам?
– Конечно.
– А там он тоже должен сидеть у такого провода?
– Шкабура… – Он чмокает губами, и его заспанное, старообразное лицо становится торжественным. – Шкабура все может… Даже к Ленину…
Он уже не слышит, что я ему рассказываю о письме, которое наши коллективисты собираются послать по этим проводам. Он говорит о своем телеграфном аппарате. Вот он взгромоздил на нос проволочные очки и показывает, как телеграфируют. Правой рукой он берет ручку аппарата и начинает ею стучать.
– Шкабура может телеграфировать… даже Ленину, – тянет он, так как читает при этом узкую бумажную ленту, на которой прыгают точки и тире. Он пригнулся к ленте и читает там что-то.
– Даже в метель можно? – спрашиваю я.
– Что-что? – Он сдвигает в испуге очки на лоб и раскрывает рот, потом бросает на меня такой взгляд, что я отодвигаюсь подальше. Приоткрыв дверцу фонаря, он опять припадает к ленте, которая между тем медленно ползет по столу.
– Что там? Что-нибудь сломалось в аппарате?
– И чего ты пристал? Отойди!
Я впервые вижу Шкабуру таким свирепым. Он затыкает уши пальцами и стоит неподвижно, уткнувшись глазами в ленту.
В мертвенной тишине лишь стучит аппарат и неимоверно громко тикают часы.
Я уже подобрался к самой двери, но боюсь открыть ее.
Громко стучат в кассу. Поезд должен вот-вот прибыть.
– Кассир! – кричат у билетного окна. – Билеты!
– Начальник! – барабанят в стену. – Поезд!
– Чего им нужно?
Шкабура хватается за голову и подбегает к окошечку, но, не открыв его, припадает вновь к аппарату, вытягивая дрожащими руками ленту, которая уже соскользнула со стола и извивается по полу.
Пассажиры ворвались в комнату. Они требуют билеты. В раскрытую дверь лезут клубы морозного воздуха. Холодный пар стелется по полу, затем поднимается к потолку, и затуманенная лампа глядит красным глазом, точно из облака. Вместе с холодом в комнату врывается далекий свист приближающегося поезда. Расстроенные пассажиры бегут на перрон. Оставшиеся смотрят на начальника, который стоит, точно столб, посреди комнаты. Паровоз кричит уже давно, ревет, просится, чтобы его впустили сюда из морозной черной дали.
– Семафор! – вздрагивает Шкабура. – Боже мой, семафор! – и без фуражки, без тулупа, расталкивая пассажиров, кидается на платформу.
Вместе со всеми пассажирами бросаюсь и я вслед за начальником. Над нами, над бесконечным мраком – только ветер, снег да непрекращающийся рев паровоза.
Шкабура в темноте поворачивает колесо, открывающее семафор. Ухватившись за ручку, помогаю ему и я.
Раскалывая ночь снопами света, обдавая им сразу рельсы, падающие снежинки, опешивших пассажиров, подкатывает к станции горячий паровоз.
От сияющих вагонных окон становится ослепительно светло. Из мрака тотчас выскакивают тополя. Борясь с ветром, они мечутся из стороны в сторону, совсем нагие. Где-то на крыше стучит оторвавшийся кусок жести.
С паровоза кубарем слетает замасленный машинист. Отыскав Шкабуру, он угрожает ему всякими карами. Из вагонов выползают заспанные пассажиры. Все ругают начальника станции за то, что он задержал поезд у семафора.
Но Шкабура только разводит руками и заикается. Ветер треплет его белесые редкие волосы. Снег ложится на плечи, на черную тужурку, которая стала совсем рябой.
– Телеграмма… Не мог… – чуть слышно говорит он, так что машинист даже наклоняется к нему. – Телеграмма… Ленин умер!.. Ленин!.. – визгливо выкрикивает он внезапно и убегает.
Сначала я даже не понял, что он сказал. Все стало ясно только тогда, когда машинист сорвал с себя замасленную кожаную фуражку, а у некоторых на глазах появились слезы.
Я не заметил, как сошел с платформы и плетусь по колено в снегу. Я уже залез в яму, наткнулся на дерево в темноте. Надо мной навзрыд плачет вьюга. Ее завывание сливается с шумами паровоза. Но не метель, не глухая ночь виною тому, что я внезапно ощутил дикую пустоту. К смерти я уже привык, видал зарезанных, задушенных, застреленных, отравленных, людей на смертном ложе, но впервые до боли в сердце, до крика в глотке я почувствовал, что такое смерть.
И, обхватив дерево, прижавшись лбом к его обледенелой коре, я стою во мраке под ветром и плачу.








