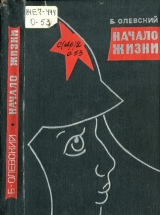
Текст книги "Начало жизни"
Автор книги: Борис Олевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)
ПОЖАР
Я еще во сне услышал набат, но мне никак не хотелось просыпаться. Натянув на голову одеяло, я поджал коленки до самого подбородка и притих, надеясь, что этот интересный сон продлится. Я люблю видеть во сне всякие происшествия, хотя бы пожар, особенно ночной пожар, когда небо становится красным-красным. Гудит набат, собаки лают, все необычно, все выглядит не как всегда. И жутко и интересно.
Но сейчас это уже как будто не сон: слишком сильно хлопнула дверь, слишком шумно у нас под окнами. Колокола звонят так, что я вскакиваю с постели. Оглядываюсь кругом и не понимаю, почему у нас пламенеют окна и кровавые отсветы падают на пустые постели отца и матери.
Я в ужасе выбегаю на улицу. Но здесь меня чуть не задавили. Конные скачут к пожарному сараю, пешие бегут с ведрами и лопатами и кричат. Всех громче кричит жена Меера Калуна. Ломая руки, она вопит, что посадили ее Меера.
Ночь до краев наполнена криками людей, лаем собак, захлебывающимся перезвоном колоколов.
Дом а сразу стали маленькими, прижались к земле под кроваво-красными облаками, которые то бледнеют, то вновь наливаются светом и виснут неподвижно над кожевнями, над горой, где стоит наш Совет.
– Фабрика!.. Фабрика!.. – кричат со всех сторон.
– Бойня!..
– Не бойня, а Совет…
– Совет горит! – слышу я мамин голос.
Забыв обо всем на свете, мчусь по темным улочкам к нашему Совету. Но, взбежав на гору, убеждаюсь, что здание Совета благополучно стоит на месте. Теперь до меня явственно доносится бряцанье ведер, позвякивание [5]5
В скане пропущен разворот, в издании 1956 года этот отрывок выглядит так:
Я мчусь по темным улочкам и, взбежав на гору, убеждаюсь, что здание Совета благополучно стоит на своем месте. Но отсюда мне хорошо видно, что горит мебельная фабрика. Стены уже обвалились. Пламя охватило печную трубу.
Спускаясь с горы, я был точно в каком-то чаду, споткнулся, упал и кубарем скатился вниз, в яму, откуда обычно берут глину. Подняв голову, я увидел старую березу и чьи-то болтающиеся в воздухе ноги – на березе кто-то сидел и наблюдал пожар. Видимо, я этого человека здорово напугал, потому что он стал озираться по сторонам. Увидев собаку, он, верно, успокоился и крикнул ей:
– Пшел!
Я оцепенел, узнав голос Исайки, и стал осторожно выбираться из ямы. Добравшись до такого места, откуда он меня уже не мог видеть, я побежал к горящей фабрике. Но в голове у меня уже не пожар.
Мне нужен председатель Совета Каминер. Но его нигде нет. В разодранном, колеблющемся мраке трудно разобрать лица. Внезапно меня останавливает женщина с красными, горящими глазами.
– Голда! – кричу я. – Голда-а!
– Они нас не запугают! – слышу я гневный голос Голды и вижу ее маленькую поднятую руку, которая грозит кому-то в темноте.
То пропадая, то вновь появляясь во вздымающемся пламени, она стоит, окруженная людьми. Глаза у всех остановились, лица в саже.
– Новую выстроим! Вместо одной – три! – кричит Голда. – Мы и не то переживали!
Голда никогда еще не была так похожа на своего брата. Кажется, подними она руку и крикни: «За мной!», все пошли бы, как когда-то за Велвлом Ходорковым.
– Голда! – зову я. – Голда!.. – Мне хочется поскорее рассказать ей об Исайке.
– Чего тебе?
– Где Каминер?
– Вон он!
[Закрыть]
Каминер сидит возле пожарной бочки на опрокинутом ведре. Он в одной рубашке.
– Да оставьте меня в покое! – отталкивает он меня.
– Я должен кое-что сказать! – говорю я торопливо.
– Ну что? – поднимает он голову. – Чего тебе нужно? – И он снова глядит на груды горящих бревен, на фонтаны искр, которые возникают каждый раз, когда пожарные крючьями растаскивают бревна. – Что ты хочешь?
Я говорю ему на ухо всего лишь одно слово:
– Исайка…
– Что-о? – Он хватает меня так, что я еле сдерживаю крик.
– Исайка возле нашего Совета, – говорю я.
– Ты сам видел?! – Он встает и ногой отбрасывает ведро так, что оно, звякнув, летит кувырком куда-то далеко в темноту.
– Пойдем-ка!
Каминер шагает так быстро, что я еле поспеваю за ним. Он идет почему-то к реке. Уже под ногами чавкает мокрая земля, трава по колено нам. Но лишь когда мы совсем удалились от пожарища, он опускается на поваленное дерево.
– Когда ты его видел? – спрашивает Бечек.
– Только что. Под горой.
– И это был Исайка?
– Да.
– А с ним никого не было?
– Не знаю. Я убежал.
– А тебя он не видел?
– Кажется, нет.
– Отомстил! – говорит он, почти не раскрывая рта. – Поджег за несколько сребреников!
Больше Бечек ничего не говорит. Он начинает соскребать грязь с сапог с таким остервенением, что я боюсь слово вымолвить; останавливается, лишь когда хрустнет ветка или лягушка бултыхнется в воду.
Начинает уже светать. На поверхности пруда можно разглядеть пузырьки. Но птиц еще не слышно. Тучи стоят так низко и их так много, что теперь на них нет отсвета пожарища. Начинает накрапывать дождик, и на поверхности пруда образуются кружки.
– Дождь, что ли? – вздрагивает Бечек. – Что такое? Тьфу! – плюет он. – Я совсем уже потерял голову – выбежал без пиджака… Вот что, Ошер! Сбегай-ка, попроси у кого-нибудь пальто.
Я вскакиваю и тотчас пускаюсь бегом.
– Подожди-ка! Еще позови Голду!
Однако на пожарище я уже Голды не застал. Да и пальто не у кого взять.
– Ну и ладно. Нет так нет. Сиди! – говорит Бечек. – Значит, нету пальто? Да, это плохо. Неприятно встретиться с ним в таком виде…
– То есть как встретиться? Ведь он хочет вас убить?!
– Мало ли что он хочет! Я ведь тоже не дурак.
– Но ведь он в вас стрелял и поджег, как вы говорите!
– Не он. Я думал о Калуне.
– А Исайка?
– Ну, подумаешь, ссорился с ним. Теперь мы уже помирились.
– С Исайкой? Да вы смеетесь! – Никак не пойму, в чем тут дело.
– Пошел бы ты лучше домой, Ошер! – говорит он сердито, но вслед за тем вновь становится приветливым. Но это странная приветливость, – лицо каменное, и ни улыбки.
– Ошер, сделай одолжение!
– Какое?
– Мне нужно сходить в милицию. Меера Калуна посадили. Сбегай в Совет и принеси мне мой пиджак. Не боишься?
– Нет, нет, принесу! – Я скорее дам кожу с себя содрать, чем покажу, что мне страшно.
– Помни, однако, Ошер! Если он там меня ждет, то, конечно, спросит, почему ты несешь мне пиджак. А ты ему голову не морочь и говори правду. Скажи, что я тебя послал, что я в милиции, у Меера Калуна, и что я буду тебя ждать у вас дома.
– У нас дома?
– Да, у вас дома. Туда и принеси пиджак.
– Ну что ж, бегу!
Однако я не побежал, а пошел, и очень медленно. Мне хотелось бы, чтобы дорога длилась как можно дольше. Я останавливаюсь у кучи тлеющих углей. Монотонно идет дождик, тихо шипят угасающие головешки. Люди смотрят на торчащую среди пожарища печь остановившимися, пустыми глазами, затем расходятся. Ухожу и я.
Я иду по тропинке к Совету, точно по стеклу, и настороженно вглядываюсь. На березе никого нет, кругом ни души.
Наконец подхожу к Совету. Дождь точно пальцами барабанит по железой крыше. Боясь оглянуться, подхожу к раскрытой настежь двери. Стараюсь идти тихо, но ботинки гулко отбивают шаг на цементном полу. На широкой скамье лежит развороченная постель Каминера. Быстро забираю его пиджак, сворачиваю в узел и отправляюсь домой.
Но на пороге меня встречает незнакомец в брезентовом плаще и с капюшоном на голове. Хочу обойти его, но он задерживает меня и, кашлянув в ладонь, спрашивает по-украински, не здесь ли поселковый Совет, хотя на вывеске перед входом все ясно написано.
– Да, – отвечаю я ему. – Но еще рано, товарищ.
Однако он не слушает меня и входит в помещение.
Хочу сказать, что входить нельзя, но мне становится страшно.
– Ты что это стащил, воришка? – говорит вынырнувший внезапно из-за кустов Исайка.
– Это пиджак, – отвечаю я, дрожа. – Несу Каминеру.
– Какие там еще пиджаки? – ощупывает он узел.
– Бечек просил. Он вышел в одной рубашке.
– А где он, твой Бечек?
– В милиции. За пожар посадили Калуна. Но Бечек будет ждать меня у нас.
– Где это – «у нас»?
– У Леи.
– Ты, кажется, Ошер?
– Ошер.
– А как меня звать, знаешь?
– Нет!.. – Я боюсь произнести его имя, потому что слышал, что он может убить за это. – Нет, не знаю.
– Не валяй дурака! Я не пьян, и меня на бога не возьмешь, – говорит он, хотя я чувствую тяжелый запах водочного перегара.
– Кажется, Исайка?
– Ах, холера! Я тебя помню, когда ты еще пешком под стол ходил, а ты со мной шутки шутишь, болячки тебе!
– Вот теперь я вас признал.
– Ясно, что признал. Ведь меня все знают! Да? – Он притягивает меня поближе к себе. Его широкое, четырехугольное лицо точно припухло, большие мешки свисают под беспокойными, давно не знавшими сна и точно испуганными глазами. – Поговаривают обо мне? Да?
– Поговаривают. – Я пытаюсь несколько освободиться от его объятий.
– Не бойся, я не стану марать руки о тебя. Зря никого не трогаю. Я не Бечек, который гоняется за мной, как собака.
– Да нет же, Исайка, – пытаюсь я его успокоить. – Ведь он тебя любит.
– Кого? – кричит он разъяренно.
– Тебя.
– Меня? – Он таращит глаза так, что у меня дух захватывает. – Меня? Я сделаю сейчас из тебя яичницу! Хочешь надуть?! У вас он или нет? Говори!
– Чтоб мне пропасть! – клянусь я совершенно искренне.
– Не кричи! Это он сам тебе сказал, что будет у вас?
– Сам сказал.
– Когда?
– Да вот недавно.
– Комиссар сказал – что пес пролаял. Бечек – не я. Я вот скажу, так скажу.
– И я говорю правду! – клянусь я вновь.
– Так ты не хочешь, чтобы меня поймали?
– Нет! – Я и в самом деле ничего против него не имею теперь. – Нет, не хочу.
– Видишь? – Он вытаскивает из кармана часы с цепочкой. – Хочешь иметь часы?
Я не понимаю, что ему от меня нужно.
– Это часы Меера Калуна, – говорит Исайка. – Он думает от меня отделаться часами да бутылкой водки. Я подарю их тебе, если ты мне вызовешь Бечека.
– Хорошо, вызову, – обещаю я и собираюсь идти.
Но Исайка велит мне подождать. Он подбегает к незнакомцу с портфелем и о чем-то с ним шепчется.
– Ну, пошли, Ошер!
Втянув голову в плечи и подняв воротник, Исайка нахлобучивает шапку до самых бровей. От этого он становится как будто ниже. А ходит он сторожко, Странно! Человек, которого все боятся, поминутно останавливается, оглядывается по сторонам и прислушивается, хотя на улице нет ни живой души. Но возле нашего дома он исчезает.
– Исайка! – кричу я громко, но он не отзывается. – Мама! – Я принимаюсь стучать в дверь. – Открой!.. Каминер здесь?
– Был и ушел, – говорит она, открывая мне. – Выдумал ведь ребенка ночью посылать! Тоже барин нашелся! Он будет либо в парткоме, либо в Совете и просил принести ему туда пиджак. Эля, – зовет она отца, – сходи с ним! Незачем ребенку ходить одному ночью.
Она сама выходит ко мне с шалью на плечах. Но я не люблю таких штук.
– Не ходи! – говорю я ей и убегаю.
В парткоме, куда я пришел, темно и двери заперты.
– Исайка! – кричу я опять.
– Цыц! – Появившийся точно из-под земли Исайка хватает меня за шиворот. – Чего орешь?
– Я думал, ты ушел, – лепечу я.
– Кто много думает, тому делают капут! – говорит он, дрожа от бешенства. – Я ведь сказал тебе: не кричать!
– Я не кричу.
– Послушай-ка, негодяй! – Он тащит меня за угол и, заикаясь от злости, спрашивает: – Зачем ты кричишь? Говори!
– Я тебя искал.
– Смотри, со мной в бирюльки не играют. Ладно уж, из слов матери я вижу, что ты не соврал. И нечего тебе дрожать! Ты мне не нужен. Я тебе даже часы отдам! Обещал – пропало. Пообещал Мееру Калуну – и сделал. Так и с тобой.
– Что ты обещал Мееру?
– Что нужно, то и обещал.
– Фабрику?..
– Ты что это таращишь на меня глаза! Чего тебе надо? – Он поднимает руку, и я замечаю в рукаве вороненую сталь револьвера. – Иди! – говорит он, бледный как полотно. – Иди!
Я иду молча. Потом говорю ему, что мне холодно, и, надев пиджак Бечека, подворачиваю длинные рукава. Так удобней будет бежать от него. Доведу до Совета, предупрежу Бечека и сбегу.
Однако Исайка не разрешает мне взбежать на гору. Он поминутно останавливается, пригибается и тащит меня тоже книзу. А сам он не спускает глаз с раскрытого окна Совета.
Наконец мы поднялись в гору. Однако дверь в Совете, которую я оставил открытой, теперь заперта.
– Бечек! – кричу я изо всех сил.
Мне хочется поскорей вскочить в помещение и захлопнуть за собой дверь.
– Он, видно, спит! – говорю я нарочито громко.
Но Исайка хватает меня за локоть. У меня на лбу выступает холодный пот.
– Зови его! – подталкивает он меня к открытому окну. – Зови! – скрежещет он зубами. – Кричи! – и сует мне в карман часы.
Однако я не хочу, чтобы Бечек подходил к окну.
– Не дави так! – умоляю я его. – Лучше я залезу туда и разбужу его.
– Лезь!
Однако окно очень высоко, а выступающий каменный фундамент скошен. Сколько ни стараюсь, ноги ползут вниз.
Только при помощи Исайки мне удается ухватиться за карниз окна. Но влезть внутрь я не могу. А тут еще рубашка зацепилась за гвоздь. Я весь изнемог, но ничего у меня не выходит. Чувствую, что сейчас свалюсь.
– Бече-ек! – кричу я из последних сил.
И вдруг замечаю, что Каминер стоит за деревом. Он подмигивает мне. Рядом с ним стоит новый начальник милиции.
Все это длится мгновенье. Меня оглушают резкие выстрелы. Потом слышны вопли. Ощущаю страшную боль, но не могу даже крикнуть.
ЗЕМЛЯ
В то утро, когда убили Исайку, я свалился с окна и вывихнул себе ногу. Это, конечно, чепуха, надо только лежать, не вертеться. Но мне трудно улежать на месте.
А на Каминера я не в обиде. Оказывается, меня все время охраняли. Бечек говорит, что он из-за меня не мог стрелять в Исайку и все утро вынужден был плестись за нами.
Если б я все это знал, то, по крайней мере, обозвал бы Исайку бандитом, может быть, кинулся бы драться с ним.
Ну, что пропало, то пропало.
Теперь я уже здоров. Жаль, что Голды еще нет. Уже осень, в школе идут занятия, а она все еще не вернулась.
Я сбегал бы к Матильде, да не знаю, там ли еще Голда. А к тому же и рассказать ей нечего.
О себе неудобно, а о местечке ничего не расскажешь. Снова у нас тоска. И, как всегда, когда дела плохи, люди собираются у нас на крылечке или толкутся на базаре. Больше всего толкуют о мебельной фабрике и о земле.

Каминер сильно изменился и вроде даже постарел. На его небритом лице прибавилось много седых колючек. Его теперь редко видно, – целыми неделями пропадает в губернском городе. Он уже и с Ищенко ездил туда. Ему нужно, говорит он, получить кредит и добиться, чтобы людей послали на землю.
Нынче все стали говорить о земле. Примолкнув среди самых горячих споров, люди с завистью глядят на крестьянский воз, груженный хлебом. Даже женщины могут, внезапно бросив работу, долго смотреть вслед огромной телеге с сеном.
Дядя Менаше позавчера, стукнув себя рукой по лбу, потребовал, чтобы ему объяснили, откуда у евреев теперь такая тяга к земле.
Земли Каминер еще не достал, и он очень сердит. Сегодня, однако, он приехал из губернии повеселевшим. Он даже посидел у нас на завалинке.
Шоссе было пустынно. Ветер налетал порывами, неся с собой высохшие листья и смешивая их с соломой и навозом на шоссе. Как обычно, люди к вечеру собрались у нас под навесом. Сидели на завалинке, на земле, курили, нюхали табак, задирали головы, следя за цепочками отлетающих аистов, прислушивались к крикам диких гусей в небе.
Всем вдруг перестало нравиться наше местечко. Его стали теперь называть не иначе, как захолустье. А отец Сролика Вениамин обозвал его даже могилой.
– Ну, все толкуете? – еще издали крикнул Каминер. Руки у него, как всегда, были в карманах, голова вскинута, точно он собирался с кем-то спорить.
Как только Каминер приблизился, все смолкли. Одни старательно глядели в землю, другие покашливали, третьи смотрели на тучу, с одного края черную, с другого красную, неподвижно повисшую над низкими домами.
– Зима идет, – начал вдруг ни с того ни с сего Фроим Котух и, как если бы уже было холодно, поежился и спрятал руки в рукава. – Кажется, сегодня будет дождь.
И, словно обеспокоенные этим сообщением, собравшиеся задрали головы к туче, где среди разодранных ее кусков уже показались звезды.
– Вы, оказывается, толкуете о погоде? – Каминер, опершись головой о руку, вытянулся на завалинке во весь рост так, что свет только что вспыхнувшего окна упал на его грязные сапоги с ушками по бокам. – Вам уже не нравится местечко?
– Да ведь дожили… Ходим без дела, – сказал Котух, не глядя на председателя Совета.
– Вот это настоящий разговор!
– Говорят, – набрался духу Вениамин, – люди кое-где уже перестали страдать.
– Кто это говорит?
– Народ.
– Какой народ?
– Народ. – Вениамин на всякий случай отодвинулся подальше. – В больших городах, товарищ председатель, люди уже имеют работу.
– Товарищ председатель не любит, когда попусту треплют языком. В городе еще тоже немало безработных.
– Но ведь народ ездит туда?
– И что же? – опять спокойно сказал Каминер. – Ищут. Если б мы раньше добыли земли… Или если б у нас было несколько фабрик…
– Да уж видели мы эти фабрики, – не дал ему договорить Фроим.
– Вот как? Уже видел, умник ты этакий! Ты пока видел только дым от фабрики. Правда, и с фабрикой было бы немало горя. Бедны мы еще – мало стульев покупают.
– Почему же, товарищ председатель, нас на землю не посылают?
– Моя фамилия Каминер!
– Газеты пишут… – не отстает от него Фроим. – В газетах есть…
– Ты уже и газеты читаешь? – говорит довольный Бечек. – Вранье это! В газетах еще пока ничего не пишут. Но все же мы отправимся на землю, Фроим. Я вместе с Ищенко уже несколько раз ездил в губернию. Ждем со дня на день. Думаю, вскоре мы сможем послать несколько десятков семей.
– Да ведь все обещают. Конечно, если бы Ленин знал! Набрался бы кто-нибудь ума да написал ему… Только нас постигло такое несчастье…
– Ну, чего вы хотите? Ведь нельзя все сразу! – Каминер садится. – Вот смотрите! – Он показывает рукой на жалкие домишки, сбившиеся в кучу, на нищие лавчонки, на тусклый фонарь, к которому как раз сейчас сторож приставил лестницу, чтобы зажечь огонь. – У нас пятьсот восемнадцать семей. Из них сто сорок восемь – портные, сапожники, жестянщики, шорники, кожевники, кузнецы, бондари, маляры, столяры…
– Переплетчики, извозчики… – не удержался я.
– Заготовщики, плотники, – продолжает Каминер. – И более двухсот семей лавочников и всяких бедняков, которые вообще ни к чему не приспособлены. Невозможно для всех сразу найти работу… Скажи вот ты, Вениамин, у тебя, кажется, домик?
– Да, товарищ Каминер.
– Собственный?
– Свой.
– Сам строил?
– Сам.
– А у вас, Фроим?
– Тоже.
– Вспомните, как вы строили свои домишки. Вероятно, не раз глаза на лоб лезли, покуда обзавелись своим домом: то не хватало лесу, то кирпича на печку. И строили-то вы всего лишь один домик. А мы закладываем фундамент для целой страны, – загремел Каминер, – чтобы всем таким труженикам, как вы, было в нем хорошо. Как же вы требуете, чтобы все вам было сразу, чтобы нигде не протекало, не продувало?!
– А ведь верно!.. – отозвался кто-то.
– Нельзя сразу… И мы еще посмотрим! – Тяжелая морщина прорезала лоб Каминера. Он стоит, весь освещенный светом из окна, и рубит шапкой воздух. – И мы еще посмотрим!..
Туго надвинув обеими руками шапку, председатель Совета, не оглядываясь, тут же уходит.
Как только все под окном разошлись, в дом заявился дядя Менаше. Я лежал на кушетке и ждал Сролика, чтобы вместе отправиться за газетами. Увидев дядю, я притворился спящим и даже стал похрапывать.
– Не дай бог никому! – говорит дядя, поглядывая в мою сторону. – В собственном доме не смеешь слова сказать!
Родителям нравится, когда приходит дядя. Он приносит им всегда что-нибудь новое. Отец уважает его и за то, что он умеет читать и что у него хороший почерк.
– Безбожники! – кричит Менаше. – Вероотступники! Не заботятся о том, чтобы переплести молитвенник или «Книгу пророков», которая уже рассыпается!
Дядю, конечно, интересуют переплеты, потому что он переплетчик. Думая, что я сплю, он начинает потихоньку ныть.
– Все еще болен, – говорит он, читая бюллетень о болезни Ленина. – И сам Семашко подписывается. А тут целый город людей… Не дай бог, если с ним что-нибудь случится, тогда все мы по дворам пойдем. Он только заболел – и уже такое самоуправство! Какой-то Бечек! Целый город оставили без куска хлеба!
– Довольно! – кричу я, не в силах стерпеть это.
От неожиданности дядя опрокидывает на себя стакан чаю.
– Ну вот пусть скажет отец!.. Что я особенного сказал? – улыбается мне перепуганный дядя. – Говорил о положении…
– Ошер!.. – заступается за него отец.
– Он ничего не говорил! – удерживает меня мать.
Но меня нечего удерживать. Как Каминер, я хочу, чтобы всем было хорошо и чтобы дядя это наконец понял.
– Когда вы строили ваш дом, дядя… – говорю я.
– То есть как?
– Он никогда ничего не строил.
– В компанию?
– Всю свою жизнь.
– Ну, не отпирайтесь! – выхожу я из себя. – Так вот, когда вы строили дом, – чуть не плача говорю я, – и у вас глаза на лоб лезли…
– Да что он такое говорит, боже мой!
– И у вас на лоб глаза лезли, когда недоставало дерева или еще чего-нибудь…
– Какого дерева?
– Деревянного дерева! – кричу я и раскрываю двери… Шум дождя наполняет притихшую комнату. – Так вот, когда вы строили один только домик… А теперь, когда мы закладываем фундамент для целой страны, когда недостает, чтобы прикрыть крышу… И если нету… вы хотите, чтобы нигде не протекало… чтобы было тепло…
Но так как и родители, и дядя Менаше вытаращили на меня недоуменные глаза, я, хлопнув дверью, выбегаю на двор и, взобравшись к себе на чердак, взбешенный, растягиваюсь на дедушкином топчане.
Вскоре ко мне на чердак взбирается и Сролик.
С тех пор как сгорела фабрика, он не отходит от меня ни на шаг: бегает на станцию за газетами, ночует со мной на чердаке.
В первый же вечер, когда Сролик пришел ко мне, он размечтался, разговорился и заявил, что если даже каждый будет ему давать по десять копеек за доставку газет, то и тогда наберется три рубля в месяц, а за год – тридцать шесть рублей, и ему хватит на билет, чтобы уехать.
Он мечтает уехать на землю или на завод, только далеко-далеко, где его никто не знает. Он будет работать и станет комсомольцем. А потом будет учиться, а когда кончит ученье, будет строить фабрики, чтобы все могли работать. И никто не будет ходить без дела. А то вдруг забудет про фабрику и мечтает отправиться в Индию или в Африку. Там он станет революционером. Мне тоже иногда приходят в голову такие мысли.
Частенько, особенно по вечерам, когда на улицах пустынно и на базаре раскачивается единственный на все местечко фонарь, на меня находит тоска и меня тянет уехать куда-нибудь далеко. Я даже начинаю потирать себе грудь от волнения. Мне хочется уехать и совершить что-то большое, важное. Я рассказываю Сролику, что у меня есть знакомый, по фамилии Магид, и он нам поможет. Мы обнимаемся и даем друг другу слово ехать вместе. Мы лежим тогда долго-долго с открытыми глазами у нас на чердаке и никак не можем уснуть.
Я уже даже написал Магиду письмо:
Дорогой товарищ Магид! У меня ночует мой приятель Сролик, который хочет уехать отсюда со мной вместе, потому что мы оба поклялись работать и жить вместе и совершить что-нибудь большое. Но здесь мы ничего такого совершить не можем. У нас очень тоскливо. Каминер говорит, что в местечке слишком много портных и лавочников. Он недоволен тем, что нам до сих пор не дали земли и у нас нет фабрик. И мне уже надоело местечко (оно мне вовсе не надоело, но я пишу это потому, что все говорят так). Я хочу приехать к вам со своим приятелем Сроликом, чтобы вместе с вами работать, учиться и бороться за пролетариат.
Ваш Oшep.
Назавтра я пожалел об этом письме, но было уже поздно, – оно ушло. Мне обидно, что я написал Магиду плохо про местечко. Каминер уже снова весел, а это значит, что нужно ожидать добрых вестей.
Сегодня ночью мы со Сроликом, как обычно, пришли на станцию. Каминер стоял на платформе с каким-то узелком. На нем был чужой брезентовый плащ. Я бы Бечека совсем не узнал, если бы не синяя фуражка с примятым козырьком, торчащая над поднятым воротником. Меня поразил его вид: какие-то брюки, которых я не видел, начищенные сапоги.
– Вы едете куда-то? – спросил я Каминера.
– А вы чего здесь шатаетесь? – спросил он. – Что делаете здесь так поздно?
– Пришли за газетами.
– A-а, за газетами? Я еду за добрыми вестями, ребята. Ну, а ты чего съежился? – спросил он Сролика и нахлобучил ему шапку на глаза.
– Ничего, товарищ Каминер.
– Чей ты?
– Это Сролик, сын Вениамина, – ответил я за него.
– А-а, – вспомнил Бечек, – это ты однажды удрал от отца? Любишь добрые вести?
– Очень люблю, товарищ Каминер.
– Ну, так жди их!
Но какие это вести, мы так и не узнали у него, так как подошел поезд.
– Готовьтесь, ребята! – крикнул он нам и, вскочив на подножку вагона, помахал нам рукой.








