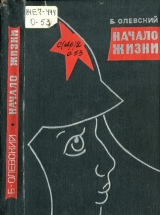
Текст книги "Начало жизни"
Автор книги: Борис Олевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц)
ПИСЬМО В АФРИКУ
Никогда еще я не приходил домой такой возбужденный. Переступаю порог комнаты смирнехонько, безо всякого шума, – это первый раз в жизни.
– Добрый вечер, папа.
– Добрый вечер, Ошерка, – отвечает удивленный отец.
Он не верит своим глазам, не может себе представить, чтобы я тихо, чинно вошел в дом и даже поздоровался.
Все дело в том, что на душе у меня сегодня радостно и вместе с тем беспокойно. Не знаю, как рассказать об этом отцу, но сегодня я впервые узнал, что наше местечко со всех сторон окружает какой-то огромный мир и что на всем белом свете дерутся.
Подперев рукой щеку, усаживаюсь у стола. Кроме меня и отца, никого дома нет. Как только вошла Красная Армия, Ару сразу положили в госпиталь, и мама все время при нем.
– Папа! – говорю я, указывая на окно, выходящее на юг. – Там, за окном, за морями, есть огромная страна. Там тропические леса. Страну эту зовут Африка…
Отец настораживается, затем встает и на цыпочках подходит к столу.
– И там живут негры, папа!.. А Джим хочет их зарезать… Они бегут, бегут…
– Ошерка! – восклицает отец и разглядывает меня в испуге. – Не заболел ли ты?
Он ощупывает мой лоб: в местечке свирепствует тиф, и, говорят, больные бредят. Он тотчас укладывает меня в постель, и я слышу из-под одеяла, как он вздыхает.
Мне хочется ему рассказать, о чем читала нам в клубе Голда, но отец не дает говорить и приказывает спать.
А Голда читала нам в клубе о негритятах.

Неделю тому назад нас, ребят, созвали в ревкоме и сообщили, что открывается детский клуб. Голда будет там руководительницей. Но так как подходящего помещения нет, то клуб устроили в старой тюрьме. Запущенное страшное строение это стоит на горке и со всех сторон окружено высоким черным частоколом.
Все решетки здесь выломали, двери пораскрывали. Осталось только несколько крюков с кольцами, которые накрепко вмурованы в стены. Помещение вычистили, выскребли, побелили – и конец тюрьме. Теперь это наш клуб!
– В клубе, – сказала мне сразу же Голда, – должно быть тихо. Прекрати беготню! И не смей бить девочек!
А ребятам она немного позже предложила:
– Надо выбрать дежурного по клубу. Может быть, сделаем дежурным Ошера? Для этого нужен мальчик тихий, аккуратный. Ошер как раз подходит. – Она поглядела на меня и чуть-чуть улыбнулась.
Я юркнул за спины ребят, а сердце у меня часто-часто забилось.
В клубе поднялся шум. Зяма засмеялся. И все ребята стали кричать, что я бросаюсь камнями и дерусь.
Но Голда заявила, что она не верит этому. Она отыскала меня, посадила поближе к себе и вовсе не бранила, а поглядела так ласково! Из-за этой ласки я боюсь ее сейчас больше всего. Мне боязно, как бы она вдруг не сказала, что я дурной мальчик.
Теперь я постоянно сажусь возле Голды, задираю голову и гляжу ей прямо в рот, когда она говорит.
Когда мы первый раз собрались в клубе, Голда прочла нам рассказ о негритятах. Это было под вечер. Она уселась на окне, ноги поставила на скамейку.
С тех пор как она вернулась домой и узнала, что петлюровцы убили ее брата Велвела, глаза у нее всегда красные и под глазами синяки.
– Дети! – сказала она, обращаясь к нам. Одна щека у нее рдела от заходящего солнца, на другой лежал сумрак большого темного здания. Она указала рукой на острия частокола и две черные башенки по бокам, четко вырисовывающиеся на фоне заходящего солнца, и спросила: – Дети, вы знаете, где Африка?
Мы вытянули шеи и посмотрели на красный солнечный круг. Нет, никто из нас не знал, где находится Африка.
– Смотрите! – сказала Голда, протягивая руку в коротком рукаве к небу, и повела ею влево.
Мы все повернули головы вслед за рукой к югу, где небо уже совсем погасло и показались первые звезды.
– Если мы переберемся через частокол, – сказала Голда, – и пойдем вон туда, к звездам… Если минуем поля и леса, горы и долы, переплывем моря и океаны и все будем идти и идти, мы доберемся до теплых краев, до земли, которая зовется Африкой. Там живут черные-черные люди, негры…
Затем Голда раскрыла книжечку и начала читать.
И с этой минуты все кончилось: нет клуба, нет Голды! Вокруг нас тропическая Африка, густые, непроходимые леса. Мы слышим, как в реках бушуют крокодилы, в чаще рыкают львы… А между деревьев бегут негритята, черные негритята со смоляными кудряшками на голове, и за ними гонится белый человек по имени Джим. Сейчас он их настигнет и зарежет. Белые люди уже давно истребили их родителей…
Голда кончила читать, и наступила мертвая тишина. Слышно было, как маленькая Рахиль тянет носом и вытирает передником глаза.
А потом мы все сразу начали кричать, что белый Джим – петлюровец и что негритятам надо помочь.
Однако Африка от нас далеко. Голда говорит, что поля и леса, моря и горы отделяют нас от этой далекой, неведомой земли.
Я никак не верил, что когда-нибудь смогу прийти на помощь этим несчастным негритятам. Но в один прекрасный осенний день мне удалось переслать им письмо. Я его послал с аистом.
Вот как было дело.
Я копал могилу для ласточки. Она выпала из гнезда и разбилась. Ласточка была маленькая, слабенькая. У нее был невероятно большой рот, и она все время раскрывала его, как рыба, выброшенная на песок.
Я решил, что она просит поесть, и напихал ей в рот хлеба. Но ласточка после этого трепыхнулась, раскинула крылышки и испустила дух.
И вот я копал для нее могилу под старой липой, что растет у нас под окном. Вдруг слышу над головой взмахи крыльев. Летят два больших аиста и один поменьше, наверно, детеныш. Маленький все отстает и отстает, а старшие с криком кружат над ним.
– Аист, аист, твои детки горят, а мои не горят, – стал я изо всех сил кричать им.
Так мы постоянно кричим, когда видим аиста.
Аистенок был, видимо, сильно утомлен и спускался все ниже, ниже. Наконец он сел на большую старую липу, что растет у нас под окном. Однако уселся он на сухой, тонкий сучок. Сучок подломился под ним, и аистенок, беспомощно цепляясь за ветки и рассыпая белые перья, упал на землю почти у самых моих мог.
Сразу сбежалась целая орава детишек.
Аистенок лежал на боку и слабо попискивал. Я попробовал поставить его на ноги, но он тут же вновь повалился. Одно его крыло бессильно распласталось, черные круглые глаза были полны страха и боли.
Мы накрошили аисту хлеба, кто-то принес молока. Но птица ни к чему не прикоснулась. Она лежала на боку и точно вздыхала. Отец и мать аистенка описали над нами несколько кругов, покричали вверху и скрылись.
Я осторожно поднял аиста и понес в сарай. Там я отгородил ему уголок, постелил мягкую постельку и выложил ее свежим сеном. Моя собачонка Муцик была очень недовольна этим, но я дал ей пинка, и она оставила птицу в покое.
Аистенок пролежал без движения почти двое суток.
Теперь я целыми днями бегал по местечку, разыскивая для него подходящую пищу. Аисты питаются лягушками. Но их трудно добыть, этих лягушек. Живут они у нас подле густо заросших прудов. Как только я подберусь к ним, они, точно камни, бултых в воду – и пропали. Зато совсем нетрудно ловить жаб, особенно вечером в огороде. Там их у нас уйма. Лягушки – зеленые, жабы – серые, в крапинках, и вечно разевают огромные рты.
Раньше я боялся ловить жаб. Папа и мама говорили, что они проклинают людей. Но Голда объяснила, что все это выдумки. А если так, почему же их не ловить? И вот я стал носить своему аисту жаб.
Принесу ему жабку – мой аистенок станет на высокие желтые ноги, осмотрит со всех сторон появившуюся тварь, затем хлоп клювом, – и живая жаба проглочена.
Да, аист выздоровел у меня, и я был очень доволен. Ведь я давно мечтал иметь собственного аиста.
Обычно, встав утром и подойдя к окну, я слышал трескотню, напоминавшую пулеметную очередь. Это на гумне у соседа в круглом гнезде разговаривали два высоких белых аиста.
Однако ловить мне аистов не давали. В нашем деревянном, соломенном местечке, где часты пожары, верят, что там, где поселились аисты, пожаров не будет. Но у нас много аистов и немало пожаров. От зари до заката шагают эти птицы на высоких худых ногах по болотистым лугам, выискивая лягушек в высокой зеленой осоке.
Теперь у меня собственный аист, да еще какой красивый, высокий, чуть ли не с меня ростом! Он уже так привык ко мне, что бегает следом, как Муцик, и клюет мне руку, выпрашивая какое-нибудь лакомство.
Однако в конце лета мой аист совсем переменился, надулся, заскучал, не встречал, как бывало, весело пошагивая; заберется куда-нибудь в угол и упрячет свою длинную шею под крыло.
Иной раз мой аист вдруг подпрыгнет, раскинет крылья – и давай махать ими. Он даже перестал есть. На любой птичий крик, доходящий к нему сквозь тонкие стены, он откликается беспокойной трескотней.
– Скучает мой аист, – говорю я в клубе ребятам.
Однако мне и в голову не приходит, отчего это он скучает.
Рощицы и сады уже пожелтели, ветер повсюду швыряет листья. Крестьяне свозят сено с лугов. Шумные, многоголосые стаи птиц ширяют по полям и лугам.
– Птичьи свадьбы! Птичьи свадьбы! – кричим мы.
Ласточки и аисты, которые в обычное время летают парами, собираются теперь большими крикливыми стаями. Синички, точно пушистые шарики с длинными узенькими хвостиками, посиживают на березах и кленах. Вертлявые скворцы, будто маленькие веретена, кружатся на скошенных лугах.
– Осень, – говорит мой приятель Зяма. – Птицы собираются в жаркие края.
Я вздрагиваю:
– Мой аист тоже, наверно, тоскует по жарким краям.
Над скошенными полями, над осенними лугами, высоко над крышами нашего местечка все чаще появляются треугольники птиц – несутся журавли; а вон в небе косые ряды – это летят дикие гуси; ломаными линиями летят аисты. Каждая птица летит по-своему. Одни несутся бесформенными стаями, другие – построившись в шеренги. Но все они наполняют прозрачную тишину беспокойными криками.
Смотрю им вслед, и меня охватывает тоска: не хочется отпускать моего аиста.
– Знаешь, – снова говорит Зяма, – они летят далеко-далеко, в теплые края. Там растут пальмы и зимы совсем не бывает. Там водятся слоны… И там живут, как нам рассказывала Голда, маленькие негритята. Они бегают совсем голые – ведь там очень жарко. Но белые люди гоняются за ними, бьют их, терзают…
– Туда, говоришь, летят? – И я задираю голову. – Туда?..
И тут у меня появляется мысль. Я даже немею от неожиданности: «Надо туда написать письмо!» Затем мчусь в клуб, к Голде.
– Товарищ Голда! – кричу я с порога. – Письмо в теплые края!.. Детям!..
Голда ничего не понимает.
– Тише! Чего ты кричишь? – набрасывается она на меня.
– Я отпускаю своего аиста! – кричу я снова.
И тут в клубе поднимается нечто невообразимое. Идея послать письмо африканским детям, которых притесняет белый Джим, понравилась всем ребятам, и они наперебой предлагают:
– Надо им написать, пусть сделают революцию!
– Пускай приезжают к нам!
– Пусть расстреляют царя!
Я присел к, столу и стал писать:
Дорогие негритята!
Мы очень скучаем по вас и ненавидим петлюровца Джима, который убил ваших родителей и гоняется за вами в джунглях, где кругом львы и крокодилы.
У нас львов и крокодилов нету, но петлюровцы у нас есть. Они убили отца и маму моего товарища Були, расстреляли Велвела Ходоркова, любимого брата Голды.
Все наши братья воюют. Мой брат лежит в госпитале. Он красноармеец. Красноармейцы сбросили царя и убили Лисицу, который хотел всех нас уничтожить.
Просим вас сбросить царя, сделать революцию и поджечь Джима.
От имени детей клуба «Спартак», которые ждут вашего ответа.
подписал Ошер.
Письмо всем понравилось. Мы вложили его в конверт и запечатали.
Однако аисты летят очень долго. Летят через степи, одолевают кипящие моря, прорываются сквозь ветры и ливни. И письмецо может в небе размокнуть. Поэтому я свернул его в трубку, обмотал кожей и, завязав шпагатом, помчался домой. Ребята кинулись за мной.
Я взял своего аиста на руки. Он не сопротивлялся. Но как только я вынес его во двор, он стал бить большими крыльями и рваться из рук. Яеле его удержал.
Очень осторожно привязал я к его крылу письмецо, так, что оно лежало у него как раз на спине и не мешало лететь.
В это время высоко в небе показалась стая – она летела ломаной линией. Мы полезли на крышу. Мой аист рвался из рук и бил меня клювом в лицо. Чтобы не свалиться, я ухватился за треснувшую трубу.
– Ребята, смотрите! – крикнул я и отпустил аиста.
Он постоял немного, попрыгал на худых ногах, хлопнул раз-другой крыльями, а затем, даже не оглянувшись на меня, – взлетел.
Долго смотрела вся наша компания, как летит аистенок в теплые края. Вот он уже догоняет своих. Я его уже еле вижу. Письмо наше высоко-высоко в небе.
– Улетел! Улетел! – кричат весело ребята.
– В теплые края! В Африку! – добавляю я.
Через поля и леса, через горы и реки, через степи и моря на больших белых крыльях аиста летело наше письмо к негритятам – курчавым детям далекой теплой Африки.
О ЛЮБВИ
– Такая туча надвигается! Столько горя! А он о собачке скулит! – укоряет меня отец.
Но такой уж я есть. Могу смеяться на похоронах и плакать из-за аиста. Я очень люблю птиц и животных.
Больше всех страдает сейчас моя собачка Муцик. Аисты едят жуков и лягушек, кролики – капусту, голубей вовсе не надо кормить: они сами находят себе пищу. Но Муцику нужно мясо и хлеб. Были бы хоть остатки со стола! Но у нас теперь ничего не остается. Когда мама дает нам поесть, мы с отцом так вылизываем тарелки, что они начинают блестеть, как вымытые.
Все теперь голодают. Мой товарищ Буля как-то даже убил ворону и попробовал ее съесть.
Отец и мать все чаще отправляются по деревням. Они ходят туда выменивать мыло, спички, сахарин на отруби и картошку.
– Туча надвигается! – говорит отец.
Сейчас лето, солнечно, ясно. И все же над нами туча. У нас поговаривают о немцах, которые движутся откуда-то с запада. Клуб работает очень плохо. Голда ездит все время по деревням, собирает хлеб для армии.
Настоящего хлеба нет ни крошки. Едим хлеб из отрубей, и пекут его без соли. Хлеб этот коричневый, тяжелый, в трещинах. Корка еще туда-сюда, а мякиш расползается между пальцев, склеивает рот.
А еще мы узнали о сахарине. С тех пор как появился сахарин, я ненавижу все сладкое и тоскую по соленому. По виду сахарин похож на крупинки битого стекла, по вкусу – на лимонную соль, только лимонная соль кислая, а сахарин сладкий. Когда мама первый раз бросила мне в чай крупинку сахарина, я подумал, что она скупится, и бросил себе целую щепотку, как только она отвернулась. Меня чуть не стошнило.
Но Муцику не дают даже отрубей и сахарина. От собаки остались кожа да кости, она похожа на кролика и ест теперь даже траву.
Стоит мне позвать, и Муцик сразу же становится на задние лапки, передние чуть свесит, пасть приоткроет. Что бы я ей ни дал, все съест – даже бумажку. Как только я появлюсь, она сразу бежит мне навстречу. У нее туловище на коротких, растопыренных ножках, длинные мягкие уши и веселая острая мордочка. Таких собак называют такса. Сначала она прыгает на двух лапках, затем валится на спину и катается по земле. А если я приласкаю ее, она прыгает, старается лизнуть меня в лицо.
Но последнее время моя собачка стала серьезной, она пополнела, и у нее скоро будут щенки.
Муцик теперь лежит большей частью растянувшись у порога, высунутый розовый язык ходуном ходит у нее, – она зевает, ловит мух.
Даже отец не трогает ее теперь. Но вот сосед Чечевичка очень недоволен. Виданное ли дело, чтобы евреи держали собак! Муцик, кричит он, разорит его. Из-за Муцика он станет скоро нищим.
Чечевичка живет совсем близко. Его домик, заросший густым сорняком, виден из нашего окна. На дворе у него тихо, как на кладбище. Но временами из этого домика несется отчаянный визг. Тогда вся улица знает, что Чечевичка дерется с женой. Они бьют друг друга до крови.
Я еще ни разу не бывал у Чечевички. Стоит какому-нибудь мальчишке появиться у него во дворе, как он поднимает кулаки и визжит:
– Вон вылодки! Они меня лазолят!
У соседа нет зубов, он не выговаривает буквы «р», и когда ест или говорит, то кажется, будто он жует губу.

Когда Чечевичка ест, он подставляет дрожащую руку к жидкой бороденке, чтобы, не дай боже, крошки не упало на пол. Маленькие поблескивающие глазенки на его морщинистом личике все время бегают. Он вечно что-то вынюхивает, в чем-то копается. Чечевичка поднимает все, что увидит на своем пути: тряпку, кость, жестянку, щепку – и тащит все это в свой дом.
Это маленькое, ссохшееся злое существо ни с кем не разговаривает, всех ненавидит, и все его ненавидят. Иной раз он забежит к нам попросить кипятку. Но мама, завидев его еще издали, захлопывает дверь. А я тогда кричу ему, что никого дома нет, и натравливаю на него Муцика.
– Сголеть бы вам с вашими собаками! – ругается он и плюется.
Но последнее время отец и мама стали захаживать к нему, – нужда заставила. Чечевичка пронюхал секрет производства мыла. Он изготовляет его, а мама выменивает мыло на хлеб.
Мыло у Чечевички как сметана: жидкое, расползается, и сколько им ни три, все равно пены не будет. Чечевичка изготовляет его из перетопленного сала и каустика. Этот каустик может проесть даже железо. Сало Чечевичка добывает из разной падали. Теперь около нас задохнуться можно. Мама все время держит платок у носа, и глаза у нее слезятся. А я уж ничего не чувствую.
Но вот Муцику его мыловарня нравится. Чечевичка ей сала, понятно, не дает, а Муцик любит сало. Сало-то и погубило нашу собаку.
Ощенилась Муцик утром. Это был счастливый день. В то же утро окотилась и наша кошка. Отец сказал, что это хороший признак, что скоро придет вызволение нашему дому и мир всему миру.
Но в то же утро произошло и несчастье.
Я отправился в клуб сообщить ребятам, что у Муцика уже есть щенята. На душе у меня было так хорошо, что я даже удивился тому, что мама пришла от Ары заплаканная.
Голда вовсе не обрадовалась моему сообщению, а только обняла меня и, заглянув в глаза, сказала:
– Какой же ты еще ребенок, Ошерка!
Я выпросил на красноармейской кухне костей и притащил их домой.
– На-на, Муцик! – стал я кричать еще издали.
Но собака навстречу не выбежала. Не было ее и в сарае. Только три маленьких, еще не обсохших слепых щенка скулили и ползали в соломе друг через друга. Широкие светлые полосы солнца пробивались сквозь щели в стенах и в двери. В сарае было темновато и прохладно.
– Муцик! Мама, где Муцик?
Мама вышла ко мне взволнованная.
– В колодец бросил… Утащила кусочек сала, и Чечевичка утопил ее.
Мама обняла меня, принялась утешать. От слез у меня все в глазах двоится.
Я выскакиваю во двор и несусь к колодцу. Я и сам не знал до сих пор, как люблю Муцика. В темном квадрате воды вижу свое худое, испуганное лицо. В колодце зелень и мрак. Из стен выбивается вода и потихоньку ползет вниз. Пузырьки поднимаются со дна и лопаются на поверхности.
Отец втаскивает меня в дом и укладывает на кушетку. Я плачу, уткнувшись лицом в подушку.
– Ошерка, ведь ты совсем большой!.. И из-за чего? Из-за собачки!..
Сегодня пятница. Отец зажигает каганец. Мама не приоделась, выглядит не по-праздничному. На столе пусто, стол не накрыт. Мама протягивает здоровую руку и творит молитву над каганцом, но она нечаянно задевает его, и каганец тухнет.
– Если бог может подобное допустить, то он выжил из ума, – говорит мама.
Отец умоляет ее успокоиться. Мама плачет, но я знаю – она плачет из-за Ары, а не из-за Муцика.
Я зажигаю каганец. Отец даже не укоряет меня субботой. Он уходит в спальню. Не поев, мы ложимся спать.
Но я не могу уснуть: щенки в сарае скулят. Беру каганец и выхожу к ним, даю каждому по кусочку хлеба из отрубей и наливаю немного воды в блюдце. Тыкаю их мордочками в блюдце. Однако они пищат еще громче и не едят. Один щенок чуть жив.
Мне приходят замечательная мысль: у дяди Менаше была когда-то несушка. Под эту несушку подложили утиные яйца, и у курицы родились утята, хорошие, желтенькие, пушистые утята.
У нас несушки нет, у нас окотилась кошка. Котята тоже слепые и пищат. Если б они были чуть побольше, то походили бы на щенков.
Котята лежат в сите на печке. Влезаю со щенками на печь и кладу их к котятам. Ничего! Ползают друг через дружку, прижимаются и утихают. И нужно же было одному щенку навалиться на котенка. Какой тут визг пошел!
Откуда-то появилась наша кошка. Она вскочила на печь и сразу же – к ситу. А я уж дежурю здесь. Хочется поглядеть, как кошка начнет кормить щенков. Она обнюхала сито, тронула его лапкой и отпрянула, – хвост у нее трубой, спина изогнулась. И раньше, чем я успел ее удержать, она, ощетинившись, ухватила щенка. Я изо всех сил вцепился в нее, и она исцарапала мне лицо и руки. Вместе скатились мы с печки, и я выбросил ее за дверь.
Щенок уже мертв, на мордочке у него одна капля крови. Котята и щенки визжат. Кошка царапает дверь и громко мяукает.
– Что это там с кошкой? – кричит отец.
– Ничего, папа, спи! – отвечаю я и залезаю в постель.
На нас из окна падает лунный свет, и я прячусь под одеяло, чтобы отец не увидел мое исцарапанное лицо.
Однако мне не спится. Я знаю, что щенки умрут. Они будут умирать долго-долго. С голоду умирают медленно.
Не знаю почему, но здесь, под одеялом, около отца, мне вспомнился вдруг раненый красноармеец. От испуга я пододвинулся ближе к отцу и обнял его. Красноармеец лежал около ревкома. Он охранял ревком, и кто-то его тяжело ранил. Он хотел умереть и не мог. Его уже не могли спасти, и он просил товарищей, чтобы его пристрелили.
Приподымаю край одеяла и в испуге гляжу на белую круглую луну, уставившуюся в окно. В тишине слышно только повизгивание щенков.
– Утопить! – решаюсь я. – Утопить! Пусть лучше сразу умрут!
Проснулся я очень рано, вместе с ласточками. Старый, противный Чечевичка уже подметал двор. Я положил обоих щенков в подол рубашки и, выйдя во двор, разыскал камень, прицелился и запустил его в Чечевичку.
– Ой-ой! – услышал я крик уже позади себя.
Я бегу огородами вниз, к ставкам. Влажная трава сверкает от росы. С луга поднимается синий прохладный туман. Несколько испуганных водяных птиц взлетают из камышей. Тихий, неподвижный, лежит ставок, сплошь затянутый ряской. Только по пузырькам на поверхности да по кваканью лягушек можно догадаться, что здесь вода.
Я становлюсь спиной к пруду и вытаскиваю щенков из рубахи. Черные с белыми мордочками, как у Муцика, лежат они у меня на ладонях. На маленьких глазках у них еще пленка. Щенки водят мордочками и скулят. Лужок колышется, как в тумане, перед моими глазами. Сквозь слезы солнце сверкает мне красным, зеленым, желтым цветами.
Я закрываю глаза и вытягиваю руки. Мои ладони ощущают теплые, мягкие животики щенков. Я швыряю собачек сразу через голову и пускаюсь без оглядки бежать.
Посреди улицы меня останавливает Голда.
– Чего ты плачешь? Почему у тебя лицо в крови? – спрашивает она и обнимает меня.
Мне стыдно сказать, что это из-за щенков. Утирая обеими руками лицо, я рассказываю ей, что Ара очень болен и лежит в больнице. А вспомнив об Аре, я плачу еще сильней.
Голда тихонько гладит меня по голове, и я прижимаюсь к ней лицом.
– Ошерка, к Аре не приезжал вчера красноармеец? – спрашивает она, не глядя мне в глаза. – Никого у вас вчера не было?
– Какой красноармеец?
– Ну, тот, который тогда привез Ару. Помнишь, ты как-то мне рассказывал о нем.
– Магид?
– Ну да, Магид!
– Нет, я его уже давно не видел.
– Странно, – пожимает она плечами. – А мне сообщили, что он должен быть здесь… Эх, Ошер, Ошер!.. – Она закрывает лицо обеими руками, но тотчас спохватывается, выпрямляется и берет меня за руку. – Пойдем, Ошерка! Только будь веселее! Нехорошо плакать! Нехорошо!
И, постукивая каблучками своих желтых туфелек, она ведет меня к нам домой, к моей маме.








