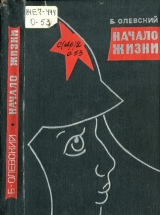
Текст книги "Начало жизни"
Автор книги: Борис Олевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)
Понатужившись, лошади трогают. Повозка теперь хромает. Добытое колесо выше остальных трех и все время визжит. Тихо шипит песок. Йося шагает сбоку. Одна пола у него подоткнута, кнут зажат под мышкой.
– Но, чтоб вам пропасть! – кричит он время от времени.
– Знаешь? – толкает меня Бечек и говорит, обращаясь, видимо, совсем не ко мне. – Я мог уже давно сгнить под каким-нибудь Гуляй-поле или Николаевом, и никто особенно не тосковал бы здесь по мне. Йося все так же погонял бы своих клячонок… А я вот хочу, чтоб тосковали… Чтобы болели, горевали по Бечеку!
Бечек кидает на меня такой взгляд, что мне становится жутко.
– Но ничего, Ошер! – Он подкладывает под голову свой вещевой мешок и закрывает глаза. – Мы еще покажем!..
И хоть я не пойму, почему он сейчас так рассвирепел и что собирается показать, я принимаюсь поглаживать его вещевой мешок, и мне очень хочется сказать ему, что я рад его приезду. Но почему-то я не могу сказать Бечеку, что он мне дорог. Как-то неудобно это.
– Помнишь тополи? – спрашиваю я его, хоть мне и нечего говорить об этих тополях.
– А? – не открывая глаз, переспрашивает Бечек. – Что?
– Тополи…
– Я страшно устал, Ошерка… Что ты говоришь? Тополи?
– Вырубили тополи.
И я принимаюсь ему рассказывать о тополях. Они росли по обеим сторонам дороги. Весной на них сидели вороны. Но выдалась холодная зима, и их вырубили. Потом я ему рассказываю всякие другие новости: о Велвеле Ходоркове, о Голде. Как Голда сделала меня председателем товарищеского суда и что я должен быть примерным и ни с кем не драться.
Слушает ли меня Бечек? Я говорю, а он все молчит, не перебивает. Я хочу ему рассказать об Исайке, лучшем друге Бечека. Скажу ему об этом по секрету, на ухо, чтобы не услышал Йося. И вдруг замечаю, что Бечек спит. Видно, уж очень он утомился.
Натянув до отказа постромки, лошади еле тащут повозку. «Провидец» шагает сбоку, – зажав под мышкой кнут, и все погоняет лошадок.
Уже показались первые домики. Издали, как видно из комсомольской ячейки, доносятся песни и какой-то веселый гам. Но здесь, на окраине местечка, только перекликаются собаки и квакают лягушки в прудах. Несколько запоздавших коров, поднимая пыль, с мычаньем возвращаются домой. Я швыряю в них палки, отгоняю подальше, чтобы они не разбудили Бечека.
У базарной площади, где обычно молодежь проводит свои вечера и где бывает очень весело, Бечек просыпается. Вздрогнув, точно от холода, он удивленно оглядывается, точно не верит своим глазам. Лавки открыты, шоссе освещено, и по нему расхаживают парочки, лузгая семечки и беспрерывно хихикая.
– Бечек, – говорю я, спрыгнув вместе с ним с повозки, – идем к нам ночевать! – Я знаю, что у Бечека никого в местечке нет.
– Нет, нет, иди! Не беспокойся! – отталкивает он меня и, отойдя чуть в сторону, прячется в тени.
Дойдя до своего дома, я оборачиваюсь и замечаю, что Бечек стоит все на том же месте. Вещевой мешок у него теперь за спиной. Бечек вертит головой из стороны в сторону, потом исчезает среди рундуков и базарных лавчонок.
ПРИЯТЕЛИ
Ну, чего бы тут, казалось, плакать, если вернулся с фронта Бечек? Но мама заливается слезами: много парней и девушек вернулось, но Ара уж не вернется никогда. Не может она себе представить, никак не умещается в голове, заявляет она, что ее Ара, которому теперь было бы восемнадцать лет, лежит в земле и не вернется.
С тех пор как он умер, мама мне покою не дает: она способна целый день бегать за мной со стаканом молока; в бешеную жару она обматывает мне шею пуховым платком. Стоит мне, однако, прикрикнуть, как она отступает. Я могу прийти хотя бы в полночь, родители не решаются и слова сказать мне. Впрочем, известно, что родители наши отстали и обязаны слушаться детей.
Даже отец относится ко мне почтительно. Он не прочь со мной и побеседовать, если я только расположен.
– Ах, Ошер, – сказал он мне как-то, когда мы лежали с ним в постели, – можешь ли ты понять такую радость: теперь совершенно некого бояться! Никакой сукин сын не плюнет тебе в лицо, не обидит!
И именно не со взрослыми, а со мной, с Зямой и даже с Булей любит он вести разговоры. Мама бранит его. Она хотела бы знать, что с ним такое стряслось. Понимает ли он, что он отец семейства?! Но отец называет ее бабой. И как только она уйдет из дому, опять и опять просит меня рассказать, что написано в моих книжках и что мы делаем в школе.
Школу открыли недавно. Когда над дверьми впервые прикрепляли вывеску, сбежалось все местечко. Голда выступила с речью, и мы кричали «ура». Наш сутулый учитель Муни даже всплакнул.
Голда теперь заведующая школой, она же и секретарь комсомольской ячейки. Голда говорит, что мы должны учиться, должны стать борцами и любить труд.
Мы подметаем шоссе, возим лес, месим глину для нашей школы, которую еще нужно достроить; выкармливаем кроликов, разбили при школе сад. Мы ставим спектакли и показываем, как Красная Армия разгромила белых и уничтожила контрреволюцию.
Недавно мы сочинили свою собственную, очень крепкую клятву: «Пусть я погибну, если свою жизнь поставлю выше жизни товарища». Каждый из нас дал такую клятву.
Работаем мы очень много – я всегда чем-то занят. Вставать приходится очень рано.
А сегодня я встал ради Бечека, когда было еще совсем темно.
Ночью лило как из ведра. В местечке по горло грязи. Мама заставляла меня надеть калоши, но я все же отправился в своих ботинках.
На базаре еще никого нет, лавки закрыты, крестьяне шествуют в церковь. К фонарю только что подошел бельмастый Юхим, он ждет первой милостыни.

На рундуке я увидел Бечека. Он весь извозился в пыли, на фуражке солома.
– Здравствуй, Бечек! – говорю я бодро.
Но Бечек чем-то обозлен. Он мычит в ответ и кивком показывает, чтобы я сел рядом.
– У вас здесь были пожары? – спрашивает он.
– Еще какие!
– Петлюра?
– Петлюра, – отвечаю я.
– Чтоб ему пропасть! – Бечек разглядывает пепелища, оставшиеся от двух рядов улиц, обводит глазами рундучки, ларьки, будки. – И опять лавки, Ошер?.. Нэпманы?! Ничего не переменилось!
– Нет, переменилось! – говорю я. Мне не нравится, что он так говорит о нашем местечке. – У нас есть профсоюз, есть комсомол! А наша школа? А Голда? А секретарь Ищенко?..
– Ах, так! – Он хлопает меня по плечу. – Ты прав! Надо зайти к ним. Голду я знаю. А Ищенко, видно, приезжий?
– Приезжий. Недавно прибыл.
– Хорошо! – говорит Бечек. Он, видимо, доволен. – Хорошо! – Но затем вновь хмурится. – Понимаешь? Не нравится мне, как разговаривают здесь со мной некоторые людишки. Встретят человека, который несколько лет провоевал на фронте, и говорят с ним так, как если бы он все эти годы орехи щелкал. Смотрят теми же глазами, какими глядели на него в день отъезда… Да и ты, Ошер, – говорит он неожиданно, – для меня все еще мальчик лет восьми, а тебе, наверно…
– Двенадцать, Бечек.
– Видишь?
– Бечек…
Я хочу ему объяснить, что к нему относятся подозрительно, потому что в свое время он дружил с Исайкой. А Исайка… Но я вовремя остановился.
– Что ты хотел сказать?
– Ничего… Насчет Исайки…
– Насчет Исайки? – Бечек оживляется. – Где он? Почему его не видно?
Не успел я, однако, и рта раскрыть, как Бечек спрыгнул с прилавка.
– Здоров, Бечек! – говорит ему вывернувшийся из-за домов Исайка.
– Как поживаем, друг? – отвечает Бечек.
Они обнимаются, хлопают друг друга по плечу и смеются так громко, что из окон начинают высовываться головы. Однако, увидев Исайку, люди тотчас прячутся. Некоторые даже спешат закрыть свои лавчонки.
И я собираюсь уйти. Мама вышла на порог дома и делает мне знаки глазами. У меня даже сердце в груди заколотилось. Исайка показывается в местечке очень редко. Его давно разыскивают. Он был приговорен к расстрелу за убийство кассира райисполкома и милиционера, но бежал. Раз он появился, значит, и его банда здесь, и сегодня обязательно что-нибудь случится.
Исайка всегда был какой-то странный малый. В одно время с Бечеком ушел он в Красную Армию, но держался почему-то поблизости от местечка. Бывало, ворвется, убьет нескольких петлюровцев или увезет их с собой, наложит «контрибуцию» на буржуев и исчезнет.
Уже с полгода, как Исайка вернулся с фронта. Он прискакал верхом, вооруженный с ног до головы, в шикарной шинели и в сапогах со скрипом. Заехал прямо к своему отцу.
Первые дни его вовсе не было видно. Потом он заявился в профсоюз, кричал, стучал револьвером об стол и требовал, чтобы ему дали хорошую работу.
Но что бы ему ни предлагали, он от всего отказывался. Ему предлагали место на мельнице, посылали на кожевенный завод, но он все кричал, что достаточно пролил крови и не хочет больше гнуть спину; требовал, чтобы ему дали работу «по финансовой части».
В конце концов Исайка вынужден был продать коня, стал пить, опустился, ходил оборванцем и, наконец, снова принялся извозчиковать вместе с отцом.
Его любимым занятием было шляться по ярмаркам. Свяжется ни с того ни с сего с каким-нибудь пьянчужкой там, искалечит его, изобьет до полусмерти. Или торгует птицу у крестьянки, долго ощупывает курицу, дует на перо, потом как-то искусно прижмет ее, и та обдаст бедную крестьянку пометом с ног до головы. Однажды он привязал к хвосту лошади начальника милиции дохлую кошку. Рябов чуть не свернул себе шею – ведь его лошадь страшно боится дохлых кошек.
В последнее время к Исайке примкнули еще несколько головорезов, и они стали заниматься грабежами. У них это называется «взыскивать контрибуцию». Наш фининспектор лежит из-за них в больнице. А председателя профсоюза Мейлаха Полевого, который закрыл пекарню Гдальи за то, что тот не платил рабочим, Исайка поймал ночью, надел ему на голову мешок и привязал к фонарному столбу посреди базара.
И никак этого Исайку не удается изловить. В местечко уже прибывали специальные отряды красноармейцев, но Исайка исчезал буквально из-под рук.
– Эй ты, – поддает он мне под подбородок, – что смотришь на меня, как собака на кошку?
– Я вовсе не смотрю, как собака на кошку, – отвечаю я.
Мне ужасно лестно, что со мной говорит такой великий бандит.
– Учишься? – Исайка выхватывает у меня учебники и принимается разглядывать географию. – Это у тебя грамматика? Хорошо! Замечательно! – И он усаживает меня рядом с собой. – Ученье – свет! Молодец, Ошер!
Я страшно рад. Мне бы хотелось, чтобы все видели, как я сижу, рядом с самим Исайкой. У него такой молодцеватый вид! Мне очень нравится, как он каждую минуту подтягивает за ушки свои сапоги гармошкой. На Исайке плисовые штаны, какие носят немецкие колонисты, коричневый вельветовый пиджак и плюшевая шапка, которую он постоянно заламывает набекрень так, что черный чуб вываливается наружу.
Бечек выглядит рядом с Исайкой довольно невзрачно. Особенно неприглядным делают Бечека его стоптанные солдатские башмаки и обмотки, выцветшая и залатанная красноармейская гимнастерка и измятая фуражка. Бечек, видно, чувствует это. Он долго вглядывается в своего приятеля и хмурится.
– Что ж ты ходишь таким оборванцем, Бечек? – спрашивает Исайка и вновь хлопает его по плечу.
– Хорошо, что голова цела! – усмехается Бечек и, пожав плечами, оглядывается по сторонам.
С рундука, где мы сидим, видна вся базарная площадь. Она все еще пуста. Только Юхим с бельмом играет на лире. Где-то визжат поросята в мешке. Появляются босые бабы с кошелками. Какой-то старичок в лаптях стоит посреди базара и предлагает купить шкуру.
– Не понимаю, почему здесь такой пустырь? Такая грязища! – оживляется внезапно Бечек. – Я лежал в госпитале в Николаеве. Что за город! Посмотрел бы, какие там «кладки», они называются там тротуарами. А скверы! Если б у нас были настоящие люди, и здесь так можно было бы сделать.
– Да что там Николаев! Вот Киев – это да! Киевский банк!.. Черта с два у нас будут когда-нибудь такие дома! И какие лестницы!
– Ты что же, работал в банке?
– Даже на почте… Я работаю теперь по финансовой части.
– Ого, добился все-таки!
– Конечно! – кричит Исайка. – Кровь проливать, а потом быть у них извозчиком?!
Он поднимает кулак и грозит кому-то. Я не могу оторвать глаз от его руки с короткими пальцами. Я даже вижу там грязь под ногтями. Вот этой рукой он убивает людей!.. Но так он, в общем, не страшный.
А Исайка снова начинает смеяться. В его карих глазах появляется веселая искорка. Вот он увидел старого крестьянина, который продает телячью шкуру, и кричит ему:
– Эй, дед, что ты там продаешь?
Крестьянин, шлепая лаптями по грязи, тихонько подходит к рундуку.
– Шкуру продаю, – отвечает крестьянин.
– Фу-у! – морщится Исайка и берет товар двумя пальцами. – Разве это шкура?
– Зачем она тебе? – смеется Бечек.
– Нужна! – отвечает Исайка и становится, как всегда, когда собирается выкинуть фортель, очень серьезным. – Только я не знаю, шкура ли это?
– Люди добрые! – начинает креститься старик. – Это же шкура моего рябого бычка!..
– Почему же она хрустит? – Исайка нахлобучивает старику шапку на лоб. – Почему она хрустит?
Исайка мнет шкуру и принимается колотить ею об стену.
– Ссохлась она… Это моего рябого бычка!..
Вокруг собирается народ. Подходят какие-то совершенно незнакомые люди. Они хохочут. Один кричит, что это не шкура; а пузырь, другой – что это рядно, а извозчик Зайвель клянется, что это шкурка, но только кроличья.
Все хохочут. Смеюсь и я. Меня вообще очень легко рассмешить.
Однако я смотрю на Бечека, и смех застревает у меня в горле. Он спрыгнул с рундука. У него раздулись ноздри.
Растерявшийся крестьянин хватается за голову, он уже потерял шапку. А Исайка кричит ему все громче:
– Замочи ее!
– Зачем?
– Чтоб намокла! – Исайка бросает шкуру в лужу и затаптывает ее ногами.
– Перестань! – пытается остановить его Бечек. – Перестань, Исайка! – И глаза его наливаются кровью. – Исайка!.. – повторяет он страшно тихо, но каким-то таким тоном, что все сразу перестают смеяться, и умолкают.
– Чего ему надо? – оборачивается к собравшимся Исайка. Он щупает рукою лоб Бечека. – У тебя жар? Чего тебе надо?
– Ничего мне не надо! – отталкивает он руку Исайки. – Над кем ты смеешься? – Затем он вытаскивает шкуру из лужи. Грязь заливает ему штаны, обмотки. – Над кем, я тебя спрашиваю?! – И лицо Бечека становится багровым.
Он подходит к Исайке так близко, что тот начинает пятиться, затем расстегивает пиджак и засовывает руки в карманы.
– На! – Он вынимает из кармана платочек и подает Бечеку. – На, оботрись!
Но все замечают у него на другой руке железный кистень, на который насажены гвозди.
– Драться?! – Бечек также засовывает руку в карман и усиленно ищет там что-то, а в другой руке он все еще держит набрякшую кожу.
Люди начинают отодвигаться подальше.
– Так, значит! – Бечек вытаскивает из кармана грязную тряпицу и обтирает ею мокрый лоб. – Хочешь драться?
– Да! – Исайка подходит к нему вплотную.
Кругом хохочут. В толпе начинают кричать, что Бечек струсил, что ему нужно переменить белье.
– Исайка, – говорит Бечек очень тихо, еле раскрывая рот. – Чего они раскудахтались? Заплати старику за шкуру, и давай лучше не будем ссориться!
– А я как раз хочу ссориться! – отвечает Исайка и заворачивает рукава. – И не помогайте мне никто! – расталкивает он сгрудившихся позади него местечковых поножовщиков.
– Значит, в самом деле драться!
– Дерись, падаль! – Сплюнув на руки, Исайка замахивается на Бечека кистенем.
Бечек ловко отскакивает в сторону, и Исайка попадает кистенем в стенку.
Тогда Бечек принимается вертеть тяжелой набрякшей кожей над головой и затем изо всей силы ударяет ею Исайку по лицу.
– Бейте его! – ревет вдруг Исайка, вытирая залепленные грязью глаза. – Насмерть бейте.
– Ратуйте! – закричал перепуганный базар.
– Пожар! – заорал кто-то.
И на пожарной каланче тотчас и в самом деле поднялась тревога. Густой медный звон колокола поплыл над местечком.
– Бей его!
Из толпы летит камень и разбивает стекло позади меня.
– Постойте! – молит Бечек. – Здесь ребенок!
Он отбивается от набросившихся на него дружков Исайки и заслоняет меня. После одного удара он начинает шататься, сползает вниз и вытягивается у моих ног.
Перед глазами у меня мелькают дреколья, головы, окровавленное лицо Бечека. Но мне уже теперь все нипочем. Я тоже машу руками, в кого-то швыряю комья грязи, потом лежу на земле и отбиваюсь ногами.
Кто-то прижал меня. Я вскрикиваю от боли и вижу: Бечек заслоняет меня своею грудью. Но я ору еще больше. И долгий пронзительный визг сразу же отвечает мне откуда-то с базара, визг такой высокий и страшный, что я вздрагиваю и обхватываю Бечека обеими руками.
Через опустевший базар, раскинув руки, летит ко мне мама, маленькая, худая, с распущенными волосами.
Не переставая визжать, она лишь одно мгновенье глядит на меня большими остановившимися глазами и вдруг кидается на Исайку, подпрыгивает, хватает его за волосы и царапает ему ногтями лицо.
Он сбивает ее с ног, но она вновь вскакивает и впивается ему зубами в подбородок. Исайка обливается кровью. А мама уже не кричит, а шипит и все норовит выцарапать ему глаза.
Разбежавшиеся было вновь начинают собираться вокруг нас. Прибыли и пожарные с бочками.
Дерущиеся барахтаются в грязи, и уже не понять: кто кого бьет. Свистят палки, мелькают кулаки, летят камни.
Кому-то удалось вытащить маму из этого побоища, но она все кричит:
– Пустите меня! Не смейте меня держать! Я всем глаза выцарапаю!
– Мама! – кричу я и плачу. – Мама!
Только услышав мой голос, она утихает. Ее длинные седые волосы мокры и всклокочены. Но меня она теперь не отпускает ни на шаг. Прихрамывая, я ухожу вместе с ней. Рядом шагает Бечек. Мы идем в милицию. А за нами плетется целый хвост галдящих женщин, переругивающихся мужчин. Непонятно только, куда девался Исайка. Он точно сквозь землю провалился.
А пожарные, сидя верхом на лошадях, трезвонят в свои колокола и кричат:
– Ра-азойдись!
Я ВЫСТУПАЮ С РЕЧЬЮ
В тот же день, спустя немного после побоища, Исайка стрелял в Бечека и ранил его. Я помчался в больницу, но, увидев Бечека, расплакался и убежал.
Должен сказать, что, с тех пор как я подрался с Исайкой, вся школа меня уважает. А Голда, хотя и не сказала мне о драке ни слова, предложила мне в день Октябрьского праздника выступить с речью.
Никак не дождусь уж этого дня. Еще целые сутки надо ждать.
Мы стараемся хоть как-нибудь украсить свою школу, потому что внутри она пока еще похожа на сарай: стены не штукатурены, вверху выпирают балки, окна не застеклены. Дело в том, что под школу нам отвели дом, который для себя строил и не достроил местный богач Лейба Троковичер.
Он теперь очень зол и, уж конечно, достраивать дом не собирается. Он кричит повсюду, что его ограбили. Голда пытается ему втолковать, что двух домов ему не нужно. Недалеко от школы у него стоит еще один дом, сарай, на крыше которого поселились аисты. Есть у Лейбы Троковичера еще коровник, сад, земля.
Троковичер очень богат. Целыми днями бродит он по своим владениям. Его узнаешь за версту: рыжий, высокий, он ходит точно в упряжке, – голова запрокинута, колени высоко подняты, как у лошади.
Первое время он все бегал по родителям и заклинал их не отдавать детей в школу. «Если отдадите, – говорил он, – то пусть их вынесут оттуда ногами вперед».
За это у него забрали двух коров и огород и передали школе. А так как Голде необходимо жить вблизи школы, то ее поселили у Лейбы в старом доме.
Теперь Лейба молчит, только покряхтывает. А мы сами достраиваем школу. Но так как она пока еще не закончена, мы маскируем к празднику все ее прорехи хвоей. Под потолком мы протянули шпагат и развесили на нем флажки, фонарики. Хотим, чтобы у нас в праздник было красиво.
Голда собрала всех нас и рассказала об Октябрьской революции. Всем это очень понравилось. Затем она велела мне идти домой, записать и выучить наизусть свою речь.
– И чтоб не получилось, как со стихотворением «Тираны и темницы», – напомнила она, – которое ты вдруг забыл!
Я забрался к дедушке на чердак и принялся писать речь.
Через некоторое время я отправился к Голде, чтобы прочитать ей написанное, но не застал ее на месте: она все бегает то к кустарям, то к профсоюзникам. Тогда я помчался в больницу к Бечеку. Мне хотелось, чтобы он знал: ведь я уже выступаю на митингах. Но здесь я застал Ицика Назимика. Этот парень замещает Голду по комсомолу. Они сидели вдвоем в больничном садике. У Бечека из марли выглядывали только кончик носа, губы и глаза.
При Ицике я всегда чувствую себя неловко, он меня как-то стесняет. Еще когда Ара учился и приезжал на каникулы, Ицик, бывало, заходил к нам домой. Но, насколько я помню, Ара не дружил с ним, хотя мой отец уважал Ицика, считал его примерным мальчиком.
Ицик учился тогда в городском училище и носил черный костюмчик с блестящими пуговицами. Подпоясанный широким поясом с медной пряжкой, он степенно шагал по улицам с книгой под мышкой. По субботам он ходил с отцом в синагогу ремесленников. Наш отец обычно упрашивал Ару сделать ему одолжение и идти в синагогу так же степенно, как Ицик.
Я стою в больничном садике, и Ицик беспрерывно повторяет:
– Скандал! Нехорошо! Совсем не знал, товарищ Каминер, что ты партийный.
Оказывается, фамилия Бечека – Каминер! А я никогда и не думал, что у Бечека есть фамилия!
– Ладно, все это глупости, – отвечает ему Бечек, и глаза его посмеиваются сквозь марлю.
– Нам вот как нужны люди! – говорит опять Ицик. – От интеллигенции и буржуазии ничего не добьешься. – И лицо Ицика становится сильно озабоченным.
Ицик сидит против Бечека, обхватив обеими руками колено. Из-под рубашки угловато выпирает костлявое тело. Голова у него торчком, черные с отливом волосы стоят дыбом, глаза на худощавом лице бегают, точно ищут чего-то, нос изогнут крючком, и кончик его почти достает верхнюю губу.
Голда все время ссорится с ним: она защищает от него и учеников и учителей. А сам он говорит, что к нему относятся здесь недоброжелательно. «Мелкая буржуазия» готова его съесть, и обо всем этом он напишет куда следует.
Мне и Зяме, «рабочим парням», он строго по секрету сообщает: «ваша» Голда о рабочих вовсе и не думает.
Однако при Голде он говорит совсем иное и рекомендует всем брать с нее пример.
– Так что там слышно у интеллигентиков? – спрашивает он меня. – Как готовятся к демонстрации?
– Ицик! – отвечаю я ему, а сам гляжу на Бечека. – Завтра я выступаю с речью.
– Вот как? С речыо?
– С речью. И я ее знаю наизусть. – Я встаю и, кашлянув, выставляю ногу. – Товарищи члены профсоюза и кустари!.. – кричу я и выкидываю руку вперед.
Бечек умоляет меня не кричать, так как здесь больница, а больным необходим покой.
Тогда я присаживаюсь на корточки и говорю почти шепотом. Я еще только в начале своей речи, а Ицик уже заявляет, что с него хватит и того, что он услышит меня завтра.
Поднявшись с земли, оскорбленный, я кидаюсь из больничного сада вон. Бечек что-то кричит мне вслед, но я не возвращаюсь.
Радость моя омрачена.
Домой я пробираюсь огородами, которые теперь совершенно разгромлены. Всюду лежат кучи вялой ботвы картофеля, мертвые плети арбузов, валяются обломанные кочерыжки капусты.
Вырываю огромный подсолнечник и хлещу им направо и налево по разворошенной земле, топчу разросшийся репей, который впивается в мои бумажные штаны.
Дома я себя вновь чувствую отлично. Вытянувшись на кушетке, принимаюсь повторять свою речь. Я должен ее выучить назубок, потому что у меня отнимается язык, когда я выступаю перед публикой. Так уже было однажды. На открытии школы я читал стихотворение «Тираны и темницы», но забыл несколько строк и удрал за кулисы. Голда вытолкала меня обратно на сцену, и я все же дочитал стихотворение до конца. Мне даже хлопали.
Однако завтра мне не стихи читать, а выступать с речью.
– Товарищи учащиеся, комсомольцы, члены профсоюза, кустари! Мы пролетариат… – Я повторяю эти слова до тех пор, пока не засыпаю.
Пробуждаюсь я утром. С улицы уже доносятся веселые песни и крики ребят.
Наскоро одевшись, становлюсь против нашего разбитого зеркала, где лицо иной раз кажется огромным бочонком, а иногда сморщится в лепешку, и принимаюсь причесывать волосы.

Как все взрослые, я не застегиваю воротничка у белой рубашки, и моя черная шея открыта. Не надеваю даже шапки. Пиджачок набрасываю на плечи и, сунув руки в карманы, направляюсь к зданию парткома: там у нас сборный пункт.
Собственно, я должен идти медленно, размеренным шагом, как подобает человеку, который идет на народное собрание, где он выступит с речью, но я пускаюсь бежать: слишком уж все празднично и необычно.
Наши ученики, комсомольцы, члены профсоюза уже выстроились по двое в ряд. И всюду красные знамена с золотым шитьем, кумач и лозунги: «Да здравствует Октябрьская революция!», «Профсоюзы – школа коммунизма».
Голда меня не замечает. Она и весела и озабоченна. Ее красная юбка полыхает то тут, то там. Вот она. на мгновенье остановилась и, довольная, вглядывается в развевающиеся знамена, в сияющие лица ребят, которые никак не устоят на месте.
– Не выходите из рядов! – кричит она. – Соблюдайте порядок!
Начальник милиции Рябов сегодня тоже выглядит по-особенному. Грудь у него колесом, на френче красный бант. Он сидит величественно на лошади, натянет повод – и лошадь выгнет шею, опустит голову. Она не идет, а танцует под ним.
– Можно? – подъезжает он к Голде и, привстав на стременах, прикладывает руку к козырьку. – Можно давать команду?
– Пожалуйста.
– Конечно! – поддакивает Назимик, у которого уже глаза на лоб лезут от бесконечного пения, однако он велит ребятам снова и снова петь.
Но нас нечего просить, мы и так поем изо всех сил. Жаль только, что нет музыкантов, если не считать барабанщика Наума. Он так бьет в свой барабан, что у Рябова лошадь шарахается в сторону.
Заметив меня среди ребят, Голда подбегает ко мне сердитая.
– Это что за штуки? – говорит она и выводит меня из рядов.
– Я пою, Голда.
– Я спрашиваю, почему ты не пришел прочитать свою речь?
– Был, Голда, но не застал вас.
– Ты хоть записал ее?
– Записал.
– Дай-ка сюда!
– Я могу наизусть.
– Показывай! – Выхватив у меня из рук листок, она читает, хмурится, затем, взглянув на меня удивленно, почему-то качает головой: – Ну, ладно!.. – Ей не дают дочитать, ее рвут на части, и она сразу куда-то исчезает.
Кругом шумно и весело. Зяма пришел с арбузом, который укрепил на длинном шесте. Из угольков он сделал в нем глаза и нос и кричит, что это буржуй.
– Я сегодня выступаю с речью, – говорю я ему на ухо.
Но он не слышит меня и поет. Прохожу мимо барабанщика, и мне кажется, я совсем оглох. Он дубасит изо всех сил, потому что мы уже на базарной площади.
Встав вокруг стола, с которого будут выступать, мы принимаемся петь еще усердней. Сначала поем тихо, потом все громче и громче. Мы поем так, как если бы от «Интернационала» зависела наша жизнь.
– «Никто не даст нам избавленья…» – кричу я.
– «Ни бог, ни царь и не герой…» – звенят высокие голоса.
Вдруг замечаю, что Голда взобралась на возвышение. Скоро и моя очередь. Я чувствую, что ноги у меня подкашиваются, и подумываю, как бы сбежать.
– Вековая темнота… – кричит Голда. – Голод и нужда… Цепи рабства…
В ушах у меня стучит, и я никак не пойму, что она такое говорит и почему Голды вдруг не стало.
Внезапно слышу, как выкрикивают мое имя. Я весь дрожу.
– Не бойся! Не смотри на людей, – шепчет мне на ухо откуда-то взявшаяся Голда. – Смотри вверх, вон туда, на красную крышу, и ты не растеряешься.
– Нет… я… я не боюсь… – отвечаю я и взбираюсь на стол.
Задираю голову и смотрю на красную крышу, а там полно мальчишек. Тогда я поднимаю голову еще выше, к самому небу, и вижу там трубу и сизоватое облако.
Кто-то начинает смеяться. Слышу крики: «Тише!»
Вероятно, я молчу слишком долго. Невольно бросаю взгляд на море голов. Вижу – Зяма хмурится, Буля посмеивается.
Голда показывает мне на рот: мол, говори! Что ты, онемел?
Собравшись с духом, выхватываю из кармана бумагу, где записана моя речь, и вскрикиваю так, что Назимик и Рябов отступают от меня на шаг.
– Товарищи учащиеся, комсомольцы, члены профсоюза и кустари! Мы… – Я рывком расстегиваю ворот у рубашки, как это делал Велвел Ходорков. – Мы, учащиеся, мы, комсомольцы и кустари, боремся и строим новую жизнь на нашей красной пролетарской земле… Так пусть, товарищи, живут и здравствуют пролетарии всех стран!.. Пусть, товарищи, буржуи…
– Ура-а!.. – кричит Буля, которому показалось, что я уже кончил.
– Ура! – кричат все.
– Да здравствует, товарищи… – хочу я продолжать, потому что еще не кончил читать свою бумажку. Но люди уже поют с непокрытыми головами: «Вставай, проклятьем заклейменный…»
– Голда! – молю я. – Еще не…
Но Голда тянет меня за рубаху:
– Довольно, Ошерка, пой!
Но я не пою – я охрип. Я стою на возвышении и вижу знамена. Все смотрят на меня. И Голда тоже. Она грозит мне пальцем и почему-то улыбается.








