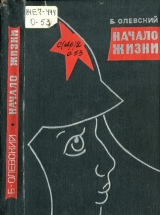
Текст книги "Начало жизни"
Автор книги: Борис Олевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
Но Магид уже не слушает нас. Он приподнимается, оглядывается. Сквозь редкие листья вербы виден семафор и железнодорожный мост. По мосту взад и вперед ходит солдат. Слышно, как на станции погромыхивают вагоны, свистит паровоз. Этот свист медленно замирает в тихом летнем воздухе.
Магид вздрагивает. Он отгибает рукав, поглядывает на часы. Затем он подползает к лошади, отвязывает ее, снова привязывает и опять смотрит на часы. Сорвав прутик, он пристально глядит на нас и, сам не замечая, ломает его на мелкие кусочки.
– Что же вы сидите? Почему не идете домой? – внезапно спрашивает он нас. Потом приставляет ладонь к уху и прислушивается.
– А мы не домой идем. Нам нужно на речку, под мост.
– Нет! – Он берет меня за руку и говорит строго: – Не нужно!.. Нельзя под мост!.. Нехорошо сейчас ловить рыбу!..
– А я пойду! – Буля встает, схватывает сито и готов бежать.
– Эй, парень! – Магид приходит в волнение. Складка ложится у него между бровями, и пальцы сжимаются. – Сиди! – приказывает он.
Буля садится и поглядывает искоса на Магида. Я знаю, он готов каждую минуту убежать. Я тоже отодвигаюсь подальше от Магида.
– Какие вы, однако, озорники! – говорит Магид. Чуть заметная усмешка появляется на его сосредоточенном лице. – Вы боитесь меня?
– Нет, – отвечаю я и отодвигаюсь еще дальше.
– Ну что ж… Мне пора ехать, – говорит Магид. Он срывает прутик и хлещет им в воздухе. – Трудно только подгонять лошадь хворостинкой. Если б мне плетку раздобыть или хлыст! Слушай, Ошер, ты, кажется, умеешь делать хлысты из телефонного провода?
Не понимаю, при чем здесь телефонный провод? Мы ведь говорили о рыбе. И еще удивляюсь я Магиду: разве можно добыть телефонный провод у немцев?
– Как, – восклицает Магид, – у вас нет телефонного провода?! Эх вы, а еще спартаковцы! Провода можно раздобыть сколько угодно.
Заслышав о телефонном проводе, мы с Булей не знаем, куда деться от радости. Провод, солдатские фуражки, звездочки, пули, гильзы, противогазы, штыки, шрапнельные осколки – все, все, с чем возятся на войне, приводит нас в восторг, мы без ума от этого.
Но Магид выматывает из нас душу. Он долго смотрит на нас. Лицо его постепенно веселеет. А может быть, это нам так кажется?
– Только не спешить, ребята! – говорит он. – Провода вам хватит… Скажите, речку у моста вы знаете?
Это прямо-таки смешно: чтобы мы да не знали речки! Буля даже закатывается.
– Понятно, – говорю я, – знаем.
– Ну, очень хорошо, – отвечает Магид. – Только не спешить, ребята!.. Вербу знаете, что влево от моста? Старую вербу с дуплом, у которой корни торчат из воды. Значит, знаете, какая?
– Ну да, – говорю я, – из нее еще две вербы растут.
– Далеко только это от моста, – замечает Буля.
Зашевелились листья, зашуршали вокруг колосья. Лошадь встряхнула головой, зазвенела уздечкой.
– Ничего, ребята, там тоже рыба есть.
Магид берет лошадь за морду и придерживает ее.
– Так вот, там как раз возле вербы лежит провод… Много его… Только… вы видели: красноармейцы, когда им нужно собрать провод, наматывают его на катушку…
– Да, – говорю я, – они вертят ручку.
– Правильно! Ты, оказывается, знаешь. Так вот, в дупле там лежит катушка. И нужно провод намотать на катушку. Но это нужно делать тихо. Слышите, ребята? Очень тихо. Немцы злые, они ходят по мосту… Только руками не тянуть. Понятно? Ну, давайте, ребята!
Мы с Булей поднимаемся и хотим идти. Но Магид задерживает нас. Он смотрит мне прямо в глаза. Я еще никогда не видел, какие они глубокие и грустные у него. Он притягивает к себе Булю. Обнимает нас обоих. Я ощущаю на своей щеке его колючее, небритое лицо. Он, кажется, поцеловал меня.
– Ничего, – говорит он, – ничего! Мы еще с ними поквитаемся! Идите, ребята! Я вас буду ждать.
После этого он поворачивается и скрывается в кустах.
Я едва сдерживаю себя, чтобы не пуститься бегом. Очень уж мне хочется поскорей увидеть провод, и еще потому, что мне очень хорошо и я люблю Магида.
Ближе к мосту растет густая трава, лопухи, поросль вербы, клена. Мы тонем по горло в траве. Мягкая, влажная земля выжимается между пальцами ног и повизгивает. Вот мы испугали лягушку, и она прыгнула в воду. Пошли большие круги. Широкие листья на длинных толстых стеблях закачались на воде. Затем вновь тишина. А когда становится совсем спокойно, мы видим, как деревья, небо, насыпь отражаются в реке. И все вверх ногами – даже я и Буля, даже мост. Два больших гранитных быка стоят в воде и кажутся вдвое больше. Видны шпалы, перила моста. Даже немецкий солдат ходит в воде вниз головой.
Сквозь листву нам очень хорошо виден этот солдат. Он похаживает в своих тяжелых подкованных башмаках, держа под мышкой винтовку, и все смотрит, смотрит. Но нас он не замечает. Трава очень высока и закрывает нас. А та старая верба, о которой говорил Магид, растет совсем не возле моста, а довольно далеко от него.
Но вот мы добираемся до нее. Я и сам не знаю, почему мы шагаем так осторожно. Мне все время кажется, что Магид идет следом за нами. Вот только что шевельнулся куст. Но Магида нет.
Наконец-то мы у вербы. Осторожно раздвигаем руками траву, молодую поросль вербы. Нет провода. Ага, мы его обнаружили. Он, оказывается, лежит среди коряг на дне реки и тянется куда-то вправо.
– Гляди, он идет к мосту, – показывает Буля.
Буля подворачивает штаны и спускается в реку. Вода сразу мутнеет. Провода уже не видно. Но если бы даже вода не замутилась, я бы все равно не дал ему тащить провод. Ведь Магид велел наматывать провод на катушку.
Пока Буля торчит в воде, я подхожу к дереву. Внизу у корней дупло, оно идет до самого верха. Заглядываю внутрь, но там ничего нет. Оттуда выползает гусеница; она ворочает головой и, сжимаясь и разжимаясь, потихоньку перебирается на листок. Я засовываю поглубже руку в дупло, разгребаю накиданную там траву, веточки и вытаскиваю какую-то странную машинку. Никогда еще не видал, чтобы красноармейцы наматывали провод на такую катушку.
– Буля! – шепчу я.
Буля подбегает и раскрывает рот.
Машинка состоит из двух стальных подковок. Они покрыты черным лаком. Внутри медь, которая блестит, как золото. Посредине железный стерженек, и на него намотана тоненькая медная проволока. А ручка белая, никелированная. Провод прикреплен к катушке двумя винтиками. Потихоньку начинаю вертеть ручку. Внутри тоже что-то вертится, но провод не наматывается. Буля вырывает машинку у меня из рук, он тоже хочет покрутить. Буля говорит, что крутить нужно быстрее, тогда намотается.
Мы чуть было не подрались. Но тут раздался гудок паровоза. Мы даже подскочили от неожиданности. Справа от вокзала, пуская клубы дыма, несся паровоз, а за ним бежало много-много вагонов.
И тут нас заметил солдат на мосту. Он начал что-то кричать и помчался по насыпи, прижимая винтовку к плечу. Вот он все ближе, ближе. Буля юркнул в траву, а я не успел.
Внезапно из-за куста высунулось дуло винтовки. Я увидел страшную черную дырочку. Незаметно раздвинулись ветки, зашелестели листья, и около меня оказался не кто иной, как Магид. Винтовка прижата к щеке, левый глаз у него прищурен, правый открыт и смотрит на мушку. Солдат бежит по насыпи, вот он уже близко… И тут меня оглушило. Солдат остановился на мгновенье, покачнулся – и давай кувыркаться с насыпи, а потом – бултых в воду. Только круги пошли.
Паровоз несется вперед, и выстрела не слышно. В глазах рябит от мчащихся вагонов. Их четырехугольные тени несутся друг за другом. Бегут вагоны, платформы, пушки, пулеметы, мелькают лица, френчи, поблескивают, каски. Черный густой дым стелется над рекой. Сейчас паровоз пойдет по мосту.
Слышу, Магид зовет меня:
– Ошерка! Ося!
Он прикрывает одной рукой рот, а другой вертит в воздухе, как бы приказывая: «Верти катушку!»
Верчу изо всех сил. Поскорей бы уж намотать этот провод и убежать! Что-то, кажется, сверкнуло у меня в машинке. Паровоз, слышу, уже на мосту. Колеса стучат сильней, чем на насыпи.
Верчу катушку, верчу все быстрей, быстрей. И вдруг меня как подбросит! Дрожит земля. В желтых коричневых клубах дыма рвется, лязгает, взрывается мост. Прыгают вагоны. Перевернутый паровоз вращает в воздухе колесами.
Но тут чувствую, кто-то тянет меня за руку. Это, кажется, Магид.
– Бросай динамик!
– Какой динамик?
– Ошерка, беги домой! – обнимает он меня. – Не бойся, беги!
Я пускаюсь бегом за ним, но Магид уже далеко. Он скачет верхом, оборачивается и машет мне рукой. Вот он уже в хлебах. Покажется на мгновенье и вновь пропадет. Потом я его вижу еще раз. Черным шариком выглядит он в поле и сразу пропадает у горизонта.
У Були только пятки сверкают. Он бежит, а я за ним. Над тополями черно от ворон. Вороны перепуганы. Позади нас не перестает тарахтеть, вагоны горят и взрываются.
Уж не помню, как я добежал до дома, как ввалился в комнату.
Мама обнимает меня, что-то говорит, но я ничего не вижу, ничего не слышу и только кричу:
– Вертел!.. Взрывается!.. Вертел!.. Взрывается!..
Мама кричит: у нее было шестеро детей, остался только я один.
– Ошерка! – повторяет она беспрерывно. – Ошерка!
Но я уж ничего больше не слышу.
КАК ЗАКАТИЛОСЬ ДЕТСТВО
Я лежу у дедушки на широком топчане. У меня тиф. Мне жарко. Хочу сбросить с себя красное ватное одеяло – и не могу. Два низеньких окошка занавешены, в комнате полумрак. От зеркала, что стоит в углу, на стене зайчики, и я не могу от них глаз оторвать. Меня это мучает. Знаю, что это в бреду, и ничего не могу поделать.
– Узнаешь меня, Ошерка?
На меня неподвижно смотрят мамины глаза.
– Мама! – отвечаю я.
Мама плачет. Дедушка выводит ее из комнаты.
Сквозь полуопущенные веки вижу, как отец шагает из угла в угол. Однообразно скрипят под его ногами половицы.
– Скверно, – говорит дедушка. – Ребенок весь горит.
Хочу возразить, сказать, что это неправда, но не могу.
На меня надвигается прозрачная белая гора. Она спускается с потолка и становится все больше, все страшнее. Я хочу спрятаться, убежать, закрываю лицо руками. Хочу, чтобы отец удержал гору, и кричу. Потом все проваливается куда-то, и меня нету.
Временами я прихожу в себя, но никак не соображу, что со мной. То ли все это мне кажется, то ли это явь. Моя затуманенная голова полна выстрелов, взрывов, опрокинутых вагонов.
Однажды, открыв глаза, я уловил далекое буханье орудий и снова подумал, что это бред.
– Стреляют? – спрашиваю я.
Никто не отвечает. Кажется, мамина маленькая рука лежит у меня на лбу.
Где это я, однако, нахожусь? Не видно занавешенных окон, нет зайчиков на стене. Это не комната. Почему здесь сосны?
– Это лес, мама?
– Лес.
– Это большевики стреляют?
– Большевики, Ошерка… Немцы бегут!..
Хочу подняться, спросить, но мне вливают что-то горькое в рот. Приподнимаюсь, чтобы выплюнуть. Внизу – черные и рыжие узловатые корни, а вверху – светлый простор, стройные сосны. Меж деревьями лежат люди. И дедушка сидит здесь, опершись о ствол.
Чувствую, как меня поднимают и несут. Возле меня шагает мама. По дороге бегут и кричат: «Большевики! Наши пришли!» Отец велит маме раздвигать ветки. Листья скользят у меня по лицу. Отец наклоняется, и меня щекочет его борода. Открываю глаза и узнаю наше местечко. В небе плывет круглая луна, стучат колеса, цокают подковы, кто-то кричит «ура».
Опять на меня надвигается гора. Слышу, как меня зовет мама, как она плачет, но ничего не могу ей ответить.
Мне очень нравится быть больным. Никогда со мной так хорошо не обращаются, как во время болезни. Я лежу на чистой простыне, мама, папа, соседи сидят вокруг. Мне тогда очень хорошо, и я всех люблю. Но сейчас мне хочется поскорей выздороветь и встать: меня тянет на улицу.
Я лежу в нашей больнице. Вечер. Далеко где-то слышен сильный топот, видимо, идут войска, а может быть, это демонстрация. Плывут и дрожат в тишине знакомые песни. Я не могу больше лежать, мне хочется усесться на каменные ступеньки больницы и хоть издали смотреть, как проходит Красная Армия, как тянутся ее обозы, провожать их глазами и махать красноармейцам рукой.
Сбрасываю с себя одеяло, сажусь. В больнице тихо. Тру глаза обеими руками. На белом столике у кровати полно пузырьков, сбоку лежит несколько яблок и булочка.
У окна в белом халате дремлет мама. Она сидит ко мне спиной, уткнувшись лицом в руки. Если б я не знал, что это мама, я бы подумал, что это маленькая, худенькая девочка.
Я спускаю ноги с кровати, стою на полу в длинной рубахе с черным армейским клеймом. Мне хочется подойти к окну. Там, за стеклом, мне кланяется какое-то дерево. Но я не могу двинуться с места. У меня кружится голова, темнеет в глазах, и я валюсь на подушку.
Мама сразу просыпается.
– Ошерка, бедный ты мой сыночек! – Перепуганная, она обнимает меня. – На кого ты стал похож! – А глаза у нее и плачут и смеются.
– Мама, давно? – Я показываю на окно, откуда плывет песня.
– Ого! – отвечает мама и зажигает свечу. Она поправляет подушку и принимается кормить меня с ложечки. – Всех прогнали! И следа не осталось. Ох, и бежали они! Ох, и удирали! – Мама смеется, и что-то уверенное, спокойное слышу я в ее смехе. – И Магид был здесь. Видел бы ты Магида, дай ему бог здоровья!
– Ма-агид! – Я отталкиваю мамину руку. Мне хочется плакать: почему же меня не разбудили, когда приходил Магид?
– Да ведь ты был болен! Ему нельзя было говорить с тобой!

И мама рассказала, как Магид подъехал к больнице. С ним было много верховых. Но доктор не позволил ему войти, так что Магид только посмотрел на меня в окно и оставил для меня булочку и несколько яблок.
– Он велел тебе, Ошерка, передать привет, когда выздоровеешь. Потом помахал мне шапкой и уехал на фронт. Я ему тоже помахала рукой.
Мама говорит тихо. В глазах у нее то затеплятся, то погаснут огоньки. Вот она радостная, затем снова грустная. И все говорит, говорит о Магиде.
Я закрываю глаза и вижу перед собой его узкое, небритое лицо, его фуражку с растрескавшимся козырьком; вижу всадников, красное знамя, ремни на плечах; и как Магид покачивается в седле. Мне тоже хочется с ним попрощаться. Я машу ему рукой.
– Мама, – говорю я, – перед смертью Ара помахал ему рукой и пожелал успеха.
Не знаю, зачем мне нужно было напомнить об Аре. У мамы дергаются губы, она изо всех сил старается не заплакать и все-таки плачет.
– Пусть Магид живет долгие годы!.. – Она утирает глаза уголком платка и отходит к окну.
За окном зашуршала ветка. Кто-то забрался на завалинку.
– Так, Ошерка, так! Хорошо! – В окне появляется отец. Он долго разглядывает меня, и у него веселеют глаза. – Ну ты совсем молодец! – говорит он и сообщает, что видел Булю и Зяму, они уж не дождутся меня.
– А его видел, папа?
– Кого?
– Магида.
– Еще бы! – говорит отец. – Еще бы!.. Пусть ему бог поможет! Вот это человек! Дай бог им всем здоровья! – Он глядит мне в глаза и кивает головой. – Чтоб вы все здоровы были!..
Вдруг он начинает говорить тише, глаза делаются задумчивыми. Затем он заявляет, что я, с божьей помощью, стану человеком. Отец беседует со мной, совсем как со взрослым. Никогда раньше этого не бывало.
– Папа! – Я поднимаю на него глаза. – Какой мне год пошел?
– Десятый, сынок.
– А до какого года человек считается ребенком?
Он пожимает плечами, а мама, ни с того ни с сего, начинает плакать. Ей хотелось бы, говорит мама, хоть от меня дождаться какой-то радости. У нее было шестеро детей, и вот…
Отец сердито покашливает.
– Ох, эти бабы! – грозит он ей пальцем. – Обязательно надо расстроить!
Отец хочет сказать маме еще что-то неприятное, но тут открывается дверь и входит сестра. У нее крест на халате, и она очень строгая. Она велит отцу уходить и не расстраивать больного.
Отец желает мне покойной ночи и удаляется.
Мама поправляет мою постель.
– Кто плачет? – спрашивает она. – Разве я плачу? – и незаметно утирает глаза уголком платка.
Утром меня должны выписать из больницы. Поскорей бы! Никак не могу уснуть. Долго ворочаюсь под одеялом, наконец, не выдержав, подхожу к окну.
Еще ночь. Черные деревья больничного сада заслонили небо. С бьющимся сердцем ловлю цокот копыт и грохот повозок. Все еще идет Красная Армия.
Отец явился, едва занялась заря. Я ждал его уже одетый.
Одежда стала мне велика. В коридоре, в зеркале, я увидел себя. Меня постригли, и шапка падает мне на глаза; щеки ввалились, кожа стала тонкой, бледной, и голубая жилка, точно веточка, бьется у меня на виске.
– Пустяки, Ошерка! – говорит отец. – Лишь бы живым остался!
Он берет меня под руку, и мы спускаемся по каменным ступенькам в больничный двор. Заложив руки в рукава, мирно спит на скамье больничный сторож. Мы не хотим его будить. Тихонько открываем калитку и темной предрассветной улочкой идем к местечку. В маленьких оконцах соломенных мазанок зажигаются огоньки. Там встают на работу.
Где-то скрипнула дверь. Со двора выходят корова и телок. И вот уже пестрое стадо чернух, пеструх и буренок бредет на пастбище, покачивая головами и мыча.
Рассветное небо еще даже не заалелось, оно налито серебром, точно река под луной. Прохладно. Легкая дрожь пробегает по моему телу.
– Холодно, Ошерка?
– Нет, – говорю я и тяну его поскорей к шоссе.
Однако идти быстро я не могу. И мне это теперь по душе после болезни. Не знаю почему, но я чувствую себя как-то увереннее, старше. Я даже говорю теперь тише и не тороплюсь, как бывало раньше.
– Значит, ни одного петлюровца, ни одного немца не осталось?
– Прогнали ко всем чертям!.. Как они удирали! Убить, ограбить – на это они мастера… Ах, что тут творилось, Ошерка! – Отец хмурится, и его белая борода, как комок снега, рассыпается по черному сюртуку. – Это никогда не забудется. Никогда! И ты, сынок, запомни это! Горе наше запомни! Убитых запомни! И не прощай!
Я вздрагиваю от последних его слов. Мне вспоминается вечер после прихода петлюровцев. Магид обнял меня тогда и наказал: «Плач запомни! Убитых запомни! Запомни все!»
Я останавливаюсь и смотрю на отца. Он идет медленно, сутулится. На лице его какое-то новое, необычайное выражение. Никогда еще он не говорил так со мной. Чувствую, что в моей жизни произошло что-то важное.
– А теперь конец им пришел! – говорит он.
– Конец! – отвечаю я и догоняю отца.
Держась за руки, мы входим этим ранним утром в местечко.
Только что пробудившиеся воробьи возятся в конском навозе. Красноармеец с плаката смотрит на меня и зовет с собой. Из-за искалеченных деревьев выглядывает дом с сорванной крышей и обгорелой трубой. Кругом тишина, как после бури.
Медленно шагаем мы мимо домов. Там, за пожарной каланчой, небо все больше разгорается, все ярче пламенеет. Уже солнце встает над крышами.
– Какое утро, папа! – Зажмурившись, я показываю отцу на крыши, на шлях, который убегает куда-то вдаль.
– Да, Ошерка, замечательное утро!
Небо становится огненным, кровавым, потом оно сразу светлеет, и вдруг чем-то сверкающим наполняется воздух. Я даже не замечаю, как приходит день.
Не раз я, бывало, вскакивал ночью, становился у окна и все искал полоску, отделяющую ночь от дня. Никогда, однако, я этой грани не находил.
В последний раз оглядываюсь назад.
Где-то по ту сторону бури кончилось мое детство.
ЧАСТЬ II
Я СТАНОВЛЮСЬ ВЗРОСЛЫМ

С ФРОНТА

Мы сидим с Йосей на обочине дороги, ведущей в наше местечко. Вдали виден тонущий в песке фаэтон. Он с трудом взбирается на гору и исчезает в облаках пыли меж далекими, уже сливающимися дубами.
В фаэтоне сидят Голда Ходоркова, начальник милиции Рябов и наш новый секретарь парткома Ищенко. До этого мимо нас проскакал отряд кавалеристов. Все они спешат в соседнюю деревню: вчера там убили председателя райисполкома и нескольких красноармейцев.
Увидев меня, Голда вышла из фаэтона.
– Ошер, – сказала она строго, – сейчас же отправляйся домой!
– Отправился бы, товарищ Голда, да колесо сломалось.
– Йося, что это значит! – закричала она. – Вы издеваетесь над нами?

Но Йося вовсе не издевается. Он даже побаивается Голды. Йося стоит, беспомощно раскинув руки и переминаясь с ноги на ногу.
– Да ведь нынешний материал!.. – оправдывается он. – Слепят как-нибудь. Сгореть бы этим колесникам!
– Ничего не хочу знать! Хоть из-под земли добудьте колесо и отвезите ребенка!
Вот тебе на! Я уж стал у нее ребенком! Что такое? То она обзовет меня дылдой, то я превращаюсь у нее в младенца.
Но я уже не младенец, я председатель товарищеского суда и даже не боюсь сидеть один у околицы местечка, хотя вечереет и вот-вот закатится солнце.
Как только мы добрались до дороги, у возчика Йоси сломалось колесо. Я чуть не разревелся. Но Йося-провидец, как его зовут, почесал в затылке и спокойно заявил, что поспешность хороша при ловле блох.
И он действительно не спешил весь этот субботник. Все возы с лесом уже давно в местечке, а Йося, взвалив на повозку бревно, каждый раз садился отдыхать, все чинил свое снаряжение и с полдня искал лошадей.
Голда, однако, заставила его пошевеливаться.
– Чтоб вам пропасть со всеми вашими школами! – ругается Йося и принимается сбрасывать с повозки валежник, щепу, а затем и бревна.
Я еще в лесу сказал ему, что нам не нужен валежник; мы строим школу, и нам требуется кругляк. А он мне тут же отрезал – чтоб я ему не дерзил, что он не обязан грузить бревна и вообще он хотел бы знать: кто из нас старше.
Йося достаточно стар, но его всклокоченная борода, растущая из носа, из ушей, и даже из-под самых глаз, еще даже не седа. Этот возчик достаточно крепок, и в местечке его боятся. Собственно, боятся не его, а сынка Исайку, ставшего настоящим бандитом. Сам Йося ни с того ни с сего заделался провидцем. За деньги он может указать, где находится украденная лошадь, где на дороге лежит убитый; может даже предсказать заранее, где и у кого будет произведен поджог.
– Да провалитесь вы ко всем чертям! – кричит Йося.
Мгновенно уставший, он садится снова на землю и кутается в свои ватные одежки, которые усыпаны репьем и колючками, оттого что он целый день валялся там, в лесу. Лазая по куче валежника, я многозначительно покашливаю: боюсь, как бы мой возчик вновь не уснул.
Его две клячонки свесили головы и уже давно спят. Изредка они проснутся, звякнут уздечками, отгоняя комаров, которые с плачем носятся в вырубленном лесу, и снова засыпают.
Начинает заходить солнце. Широкие, косые слепящие полосы падают сверху, искрятся в песчинках на дороге, просвечивают насквозь оставшиеся на полянке считанные деревья, которые уже становятся бурыми, желтеют.
Деревьев осталось совсем мало. За зиму весь лес вдоль дороги повырубили. Везде торчат пни, которые уже успели почернеть. Между пнями растет новый лес. Молодые сосенки и побеги дуба за лето обогнали высокий папоротник.
Я, конечно, давно уже мог уехать с какой-нибудь подводой, везущей лес, но мне хотелось, чтобы все видели, что я не боюсь здесь остаться. Мы доберемся до школы, наверное, только к ночи.
По правде говоря, чем ближе к ночи, тем мне становится страшней. Но если б меня резали на куски, я и тогда не признался бы в этом. Наоборот, засунув руки в карманы, сплюнул бы и заявил, что никого и ничего не боюсь; помер бы от страха, но все же остался бы здесь ночевать, чтобы доказать, что я не трус.
В мучительном и сладком волнении сижу я у дороги, на которую ни один человек в местечке не осмелится выйти к ночи.
Правда, банд уже нет, но отдельные грабители пошаливают. Еще гуляет Богдан-прасол, прячущийся по лесам; Исайка, сын Йоси, и его компания еще нападают на запоздалых прохожих! грабят и даже убивают. Однако Исайки я не боюсь. Я с ним знаком, да и папаша его сидит рядом.
Но вот Йося начинает почесываться. То ли ему захотелось чаю, то ли его поднял расплакавшийся сыч, но он встает, подтыкает полы своей одежки и медленно шагает в гору по песчаной дороге.
– Иду за колесом в деревню. Колесовали бы всех вас! – бурчит он. – Нашли богача!.. Обеспечь их колесами!..
Я остался один-одинешенек. Пододвигаюсь поближе к лошадям. С лошадьми все-таки не так страшно. Хоронюсь в папоротнике и с удовольствием думаю о том, как завтра буду рассказывать свои приключения: остался один в лесу, наткнулся на убитого, видел самого Богдана.
Но от этих выдумок мне становится страшно. Оглядываюсь по сторонам. Вообще-то я не трус, но со времени петлюровцев всегда на всякий случай примечаю, где бы мне можно было укрыться от нападения.
От солнца уже осталась половинка. Над дорогой висит кусок оторвавшегося прозрачного облака с окровавленными концами. Вот ворон, каркая, пролетел в чащу. Вслед ему с криком пронесся другой, третий.
Высовываю из папоротника голову. Хоть бы кто-нибудь был поблизости. Поговаривают, что по вечерам здесь куролесит Богдан. Ну да, вот он, кажется, идет! Волосы, как булавки, колют мне кожу на голове. Нет, Богдан высокий, толстый, а этот… Нет, это не Богдан!
На дороге, которая упирается прямо в заходящее солнце, появился человек. Его очень хорошо видно. Он расколол солнечное колесо и точно весь тонет в огне. Я задал бы деру, да не смею бросить лошадей, которых Йося препоручил мне.
А человек все ближе и ближе. Он уже шагает не по дороге, а обочиной, где меньше пыли. Я даже вижу, что у человека мешочек за плечами, вижу, как он утирает рукою пот со лба и сворачивает ко мне.
Испуганный, нисколько не размышляя, а может быть, надеясь, что человек этот не посмеет подойти, если услышит, что со мной тут люди, я принимаюсь кричать изо всех сил:
– Йос-я! Голда Ходорко-ова! Зяма-а! Исайка, скорей сюда!
А голос у меня звонкий, и со всех сторон, точно передразнивая, отвечает мне оглушительное эхо: «Сюда!»
Даже тщедушные клячи, похожие на облезлых кошек в упряжке, всполошились и навострили уши.
Но, как назло, чем громче я кричу, тем веселее шагает человек.
Больше кричать я не могу. Кидаюсь под повозку и зарываюсь с головой в хворост. Зажав рот рукой, чтобы не слышно было даже моего дыхания, я чуть-чуть высовываю голову между спиц колеса и гляжу на дорогу. Но человека мне не видно.
Наконец две ноги в обмотках и запыленных солдатских башмаках останавливаются подле лошадей. Некоторое время они стоят неподвижно, затем, потоптавшись на месте, начинают тихонько поворачиваться. Видно, человек оглядывается по сторонам.
– Что за черт? – слышу я, как он говорит сам с собой. – М-да… Йося!.. Йо-о-ся! – кричит он во весь голос. – Исайка-а! Ходорко-ов!
Заслышав, что человек зовет тех же людей, я чуть дальше просовываю голову.
Вот подле меня шлепнулась фуражка. Потом на землю упал вещевой мешок. Лошади, видимо, перепугавшись, потянули повозку, и колесо чуть не свернуло мне шею.
– Ой! – кричу я и выскакиваю сам не свой из-под повозки.
– Что такое? – вскрикивает тоже, видимо, перепугавшийся человек.
– Ой-ой! – ору я, ухватившись за шею, которая страшно болит.
– Чего ойкаешь? И почему ползаешь под повозкой? – Меня оглядывают с ног до головы черные хмурые глаза.
– Спа-ал, – говорю я, заикаясь, и, не спуская с человека глаз, отодвигаюсь от него подальше.
Передо мной стоит невысокого роста парень. Фуражка его с красной звездочкой лежит на земле. Его бритая голова значительно белей загорелого лица. Он снова и снова утирает лоб рукавом измазанной, мокрой от пота рубашки.
– Чудной парень! – говорит он. – Разве можно там спать?! – и пожимает плечами. – А где Исайка, Йося?
– Какой Исайка?
– То есть, как какой?
– Нет здесь никакого Исайки.
– Но ведь кто-то кричал.
– Не знаю.
– А где Голда?
– Я здесь один, – отвечаю. – Сломалось колесо, и Йося пошел добывать другое.
– Ладно. Пусть будет так. Видно, я на старости оглох. – И он устраивается в придорожной канаве.
Размотав обмотки и сбросив ботинки, человек вытягивается во всю свою длину. Красные разопревшие ноги с торчащими у больших пальцев косточками сейчас выше его головы.
– Ну и находился же я! – Человек разглядывает меня. – Ты чей?
– Леи, что замужем за Элей.
– Как тебя звать?
– Ошер.
– Мать моя! – кричит он радостно. – Ошер, клади свою лапку. – И он сует мне руку. – Как же ты, однако, вырос! А меня не узнаешь?
– Нет! – отвечаю я. – Я вас не знаю.
– Неужели я так состарился? – спрашивает он и, прищурив один глаз, весело сплевывает сквозь зубы.
– Бечек! – кричу я. – Ты Бечек?
– А кто же? Конечно, Бечек.
И точно, как в те времена, когда я умолял извозчика Бечека разрешить мне подержать вожжи или напоить лошадей, завидовал его искусству плевать сквозь зубы, я теперь пододвигаюсь к нему поближе, гляжу ему в глаза и смущенно улыбаюсь.
Но пусть он не думает, что я мальчишка. Я тут же рассказываю ему, что учусь в школе, являюсь председателем товарищеского суда.
– Что такое?
– Я – судья, судья! – поясняю я ему. – Председатель. Если, например, Буля побил Рахиль или Сролик отказался нарвать ботвы для кроликов, – мы их судим.
– Почему для кроликов?
– Потому что в школе у нас кролики… и корова… и лошадь. Мы строим теперь дом для школы. А я председатель товарищеского суда.
Выслушав меня, Бечек переводит глаза сначала на мои волосы, которые я тут же принимаюсь приглаживать, чтобы пробор получился посередине, затем на мои заскорузлые штаны.
– А я, Ошерка, воевал.
– С фронта? – пододвигаюсь я к нему ближе. – Идешь с фронта?
– Откуда же мне идти? Вот двигаюсь из Гуляй-поля. Был даже в Екатеринославе. Поглядел бы ты – кругом степи, степи! Таких мест, как у нас, там нету.
Бечек говорит все тише и уж не глядит на меня. Его загорелое лицо вытянулось, черные горящие глаза ввалились. На лице торчат редкие белесые волосики.
– Да придет наконец твой Йося? – вскакивает он вдруг. – До каких же пор мы здесь будем сидеть?
Но лишь когда в небе загорелись первые звезды и сверкнули огоньки далекой деревни, появился Йося: он неспешно катил перед собой колесо.
– Как он ползет, черт бы его побрал! – ругается Бечек и принимается наворачивать портянки на ноги.
Надев ботинки, он ставит ногу на колесо и закручивает обмотки; после этого, поплевав на руки, принимается чистить брюки и надевает фуражку с пригнутым лакированным козырьком. Все нынче так ходят – пригибают козырьки, чтобы они прилипали ко лбу.
– Реб Йося, быстрей! Я уж тут скоро подохну на дороге.
– Кто это? – спрашивает, приближаясь, Йося и валит на землю колесо.
– Пассажир.
– Еще и пассажиры на мою голову! – ворчит он, даже не взглянув на Бечека и не узнав, с кем говорит.
– Эх ты, старичина, это так-то встречают Бечека?!
– Ты Бечек?
– А кто же?
– Откуда же ты? – спрашивает Йося, приподнимая бревном ось, чтобы надеть на нее колесо. – Ведь говорили, что тебя уже давно черви съели.
– А ты хоть всплакнул по мне?
– Ну да! Меньше будет одним воришкой, – отвечает Йося и вскидывает на Бечека свои маленькие глаза. – Чего это я вдруг стану плакать?
Нахмурившийся Бечек зло поглядывает, как Йося надевает колесо.
– А Исайка где? Он уже вернулся?
Но ответа он так и не дождался. Сплюнув, Бечек изо всех сил швыряет в повозку вещевой мешок. Вслед за Бечеком на гору хвороста взбираюсь и я.








