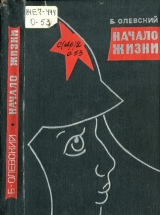
Текст книги "Начало жизни"
Автор книги: Борис Олевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)
– Эх, ребята! – говорит задумчиво Голда и спрашивает вдруг, хорошо ли нам.
Я отвечаю, что нам хорошо. И это правда. Не знаю, как это назвать, но у меня такое настроение, что, кажется, и мухи не тронул бы сейчас; даже за чужое горе больно. И может быть, поэтому я начинаю сердиться на кошку, которая уже подобралась к гнезду.
– Брысь! – кричу я и, схватив комок земли, швыряю в кошку. – Брысь!
– Господи! – говорит Голда и усаживает меня подле себя. – Ведь ты можешь душу вымотать! Троковичера разбудишь!
Даже Сролик улыбается. И мне становится не по себе. Мне не хочется, чтобы она думала, что у меня только аисты на уме.
– Терпеть не могу кошек! – говорю я.
– Петушок ты еще, Ошер. И ты говоришь, тебе уже тринадцать?
– Тринадцать.
– А тебе, Сролик?
– Тоже тринадцать.
– Да, петушок ты, Ошер! А ты, Сролик, настоящий петух. И какой-то обозленный. Не хмурься! – грозит она ему пальцем. – Не надо.
– С чего же мне радоваться? – говорит Сролик тихо, надорванным голосом. – А если бы вас оскорбили, если бы вас назвали спекулянткой, вы бы радовались?
– Вот что я хочу сказать… – отвечает Голда. – Еще очень трудно. Все еще разрушено. Мы еще только-только становимся на ноги…
– Да я не о хлебе говорю, – прерывает ее Сролик. – Я хочу только, чтобы меня не унижали. Ни отец, ни мать не сделали ничего такого, за что меня нужно оскорблять.
– Не то, – говорит она, не сердясь. – Никто ничего не имеет к твоему отцу. Несчастье в том, что еще слишком много у нас всяких лавочников, которые не трудятся и не могут отвыкнуть от безделья… Даже ты, Сролик… Тебе ведь не по душе занятие твоего отца?
– Да, – выдавливает Сролик.
– Ну, вот видишь. Не потому, что ты его не любишь, а потому, что не хочешь идти его дорогой. Все мы хотим быть лучше наших отцов.
– Но ведь не пускают…
– Дело не в этом. Мы еще бедны. А нэпманы оживают. Раскрой сейчас двери – и их дети все заполонят. А вы знаете… – Она начинает почему-то оглядываться. Мы даже не заметили, как луна стала больше, красней и уже спускается за сарай. – Это было три года назад, – продолжает Голда. – Вам было лет десять – одиннадцать, а мне двадцать. Ленин тогда сказал, что лет через десять – двадцать мы доживем до социализма. Это, значит, случится примерно в тридцатых – сороковых годах… Но пока… – И, как часто в последнее время, Голда вновь хмурится, говорит отрывисто, как бы про себя; скажет слово, и потом долго приходится ее ждать. – А пока… Надо драться за это. Будут еще трудности и беды. И я бы очень хотела, чтобы вы запомнили… Это, может быть, самое трудное и самое важное… Мне бы очень хотелось, чтобы встретившееся на вашем пути горе не заслонило от вас всего света, не бросило бы тени на ту большую работу, которую нам предстоит проделать… Вы знаете, – она несколько отодвигается от нас, – я говорю это потому, что постоянно может что-нибудь стрястись… Иной раз доверишься человеку… Не обдумаешь… Негодяй и подведет… Отдашься всей душой… А кончится тем, что он загадит и затопчет все в тебе…
Голос ее становится слабей. Она утихает, бледнеет и просит вдруг глоток воды.
Я бегу к колодцу. Сролик мчится вслед за мной. Но когда я опускаю ведро вниз, замечаю, что Голда приподнялась и держится рукой за перильце.
– Нет, не надо. Идите домой! – говорит она и машет нам издали.
Взойдя по ступенькам, она уходит к себе в комнату.
В ГРОЗУ
По мне сразу можно узнать, какое у меня настроение – грустно мне или весело. А вот у Сролика ничего не поймешь. Кто его знает, рад он или не рад тому, что Назимика исключили из комсомола. Одно лишь я знаю: Сролик стал приветливей и дружелюбней со всеми.
Собрание длилось три вечера. Вела его Голда. Назимик почернел, как земля. Первый вечер он бил себя в грудь и кричал, что не будет молчать. Но на третье собрание пришел секретарь партийной организации Ищенко. Он говорил совсем тихо, и вовсе не о Назимике. Речь шла о Голде: почему она допустила все это, почему молчала об отношении Назимика к ученикам и преподавателям? На этом же собрании Зяму выбрали заместителем секретаря комсомольской ячейки, так как он рабочий и на полтора года старше меня.
Его выбрали позавчера. А сегодня у нас снова собрание. Но я не смогу пойти. Вот уже несколько дней дедушка чувствует себя плохо, а нынешнюю ночь его еле отходили.
Сегодня утром он позвал меня прощаться. Я зашел к нему перед уходом в школу. Дедушка сидел, опершись на большую подушку.
– Это, кажется, Ошер? – спросил он и вытащил из-под одеяла две костлявые почерневшие руки с синими вздувшимися венами. Проведя ими по усам, он отер затем свою поредевшую белую бороду. – Убери это! – оттолкнул он ложечку, которой его мать кормила.
– Отец!.. – стала упрашивать его мама.
– Ешь! – прикрикнул на него я.
Но дедушка не слушался. Он безразлично смотрел в низкий деревянный потолок.
Полоса солнечного света пробивалась через занавешенное окно. Дедушка пробовал зажмуриться, но это ему не удавалось. Нижние веки у него отвисли и открыли красные прожилки на белках, а глаза стали большими, страшными. И нижняя губа у него опустилась.
– Ох, Лея, Лея! – вздохнул дедушка, и дряблая кожа на лице у него пошла бороздками. – Хочется чего-нибудь солененького… Если бы ты дала мне кусочек тарани, как когда-то твоя мать, царство ей небесное… Или селедки с луком… Ах, Лея, какая у тебя была мать! Святая душа. – И дедушка вдруг начинает плакать из-за того, что лет тридцать тому назад умерла бабушка. – Праведница была. – И слезы градом катятся по его щекам.
Терпеть не могу, когда плачут; выхожу поспешно из дому и направляюсь в школу.
Но в школе уже давно идут занятия. Скоро каникулы, опаздывать совсем не следовало бы. Хорошо хоть, что у меня есть причина. Пристраиваюсь пока под деревом. Однако обидно, что все учатся, а я вынужден валяться на траве.
Во время перемены я вхожу в класс. Здесь одна только Рахиль. Надутый, усаживаюсь за парту и раскрываю учебник.
– Ошер, – говорит она, – тебя учитель вызывал.
Я молчу, положил голову на парту и прикрыл лицо руками.
– Ты что, спать устроился? – звонко смеясь, спрашивает Рахиль.
Мне нравится ее смех, но сейчас он меня раздражает.
– Смеешься? – со злостью говорю я. – У меня дедушка умирает, а ты смеешься?!
Ей неловко, она отходит в сторону. Ее курносый носик еще выше подтягивает к себе верхнюю губку. Она скручивает и раскручивает передник и вдруг начинает рыться в своей сумке.
– Ошер, хочешь хлеба с маслом? – спрашивает она и подает мне бутерброд, точно просит извинения.
– Уйди! Оставь меня!
Рахиль уходит. Слышу, как за дверью перестали прыгать и смеяться. Я даже слышу, как там шушукаются, и знаю, что это обо мне. Каждый, кто входит теперь в класс, ступает тихо, говорит негромко и поглядывает в мою сторону, готовый сделать для меня что-нибудь доброе. Я чувствую себя совсем хорошо.
Но вскоре мне становится неловко от собственной выдумки. Ведь дедушка вовсе не умирает, ему просто захотелось тарани и селедки с луком.
Но наш старенький учитель, который угадывает по глазам, знаю ли я алгебру, сегодня вызвал Булю, а меня не тронул.
Однако как это возможно ходить хмурым целый день? Я, например, не умею. Мне уже давно весело, а я обязан сдерживаться. И вдруг появляется Голда. Она, видимо, только что из города. Завидев ее, я моментально прячу лицо в ладони и разглядываю пол.
– Товарищ Голда! – Я слышу, как Рахиль отзывает вошедшую и тихо говорит ей: – Ошеру плохо, у него дедушка при смерти.
Затем вижу краем глаза, как Голда прижала палец к губам и мигнула Рахили.
– Ошер! – зовет она меня. – Чего это ты так сидишь? Поди-ка сюда! – Мы выходим с ней во двор. – Пойдем ко мне, закусим! – Она кладет мне руку на плечо. – Брось, Ошер, дедушка уже здоров!
Мне хочется ей сказать, что я и сам это знаю. Но умалчиваю. Наоборот, продолжаю еще сильней гримасничать.
– А знаешь, Ошер! – пытается она меня отвлечь. – Для тебя есть новость.
Тут уж я больше притворяться не могу. Мне хочется поскорей узнать, что за новость.
– Нет, это тебе скажет Ищенко, – отвечает она на мой вопрос.
– Ищенко? – удивляюсь я. – Я с ним никогда дела не имел.
– Да, Ищенко. Он был в Харькове на партийной конференции и привез тебе привет.
– Мне?
– Тебе.
– И велел мне прийти?!
– Сегодня же.
Но после занятий, когда я собрался было бежать к Ищенко, Голда остановила меня, заявив, что партком уже все равно закрыт, и попросила меня задержаться в школе.
– Что ты там будешь делать, дома? Дедушка болен… – говорит она.
– Не болен, – отвечаю я. – Ему только хочется тарани и он плачет по умершей бабушке.
– Что ты такое болтаешь, – говорит она и глядит сначала на мои запыленные ботинки, потом на штаны, на рубаху. И вот уже она глядит мне в глаза. – Что ты болтаешь?
Пришлось согласиться на предложение Голды и задержаться. Она попросила меня помочь ей перекладывать книги в учительской. А когда мы сложили их, ей вдруг вздумалось нарвать цветов. Домой я поэтому отправился, когда стало темнеть. Верней, я просто сбежал от Голды.
Никогда не шел я домой таким веселым. За тесьму фуражки я насовал сирени, в руках у меня была настурция. Меня не смущало даже нахмурившееся небо. Белые курчавые облака там сгустились, стали темно-бурыми и наполнили воздух какой-то гнетущей тишиной. Две запоздалые коровы, поднимая пыль, медленно плелись песчаной дорогой; они тоскливо мычали, вытягивая шеи и поднимая кверху морды.
Но мне было весело. Я прижимал пальцами глазное яблоко и наблюдал за тем, как первые огни в домах бьют пучками красных нитей из окон. А когда заболели глаза, я принялся свистеть.
Однако не успел я показаться на нашей улице, как все уставились на меня. Откуда-то появился мой длинноногий дядя Менаше, у которого полтора волоса в бороде. Он вытаращил на меня глаза и остановился.
– Бездельник! Чтоб ты пропал! – крикнул он и смачно плюнул мне вслед.
«Это, видно, оттого, что у меня на фуражке сирень и я свищу», – подумал я и стал свистеть еще громче. Но чем сильней я свистел, тем больше глазели на меня.
А возле нашего дома я увидел старую Хаю-Сору. Было душно, а она напялила на себя толстую шерстяную шаль.
– Боже мой! – всплеснула она руками. – Такой праведник!.. И умирает! Твой дедушка умирает!
Я швырнул наземь цветы и кинулся к дому. Предо мной расступились, даже открыли мне двери.
В комнате у нас полутьма. Стекло, видно, разбили, и лампа мигает и чадит. Мама лежит, уткнувшись лицом в подушки. Вокруг нее сидят женщины. Время от времени она поднимает голову и спрашивает:
– За что? Почему смерть не обошла моего дома?
На цыпочках подхожу к двери дедушкиной комнаты. У порога сидит Ейна, служка ремесленной синагоги. Бенця из погребального братства тоже здесь. Он стоит на своих кривых ногах и пощипывает бородку, такую облезлую, точно ею долго подметали шоссе.
– Ах-ах-ах! – зевает он. – С утра мучается, никак умереть не может, – и подводит меня к дедушке.
От испуга и неожиданности я цепляюсь за спинку кровати.
На кровати уже будто лежит не дедушка: белки у него выкатились, глаза без зрачков уставились в потолок. Вижу, как он страшно корчится под одеялом, как надуваются его посиневшие щеки. А когда они опадают, у него заостряется нос. Он вскидывается и вновь застывает. Несколько мгновений его натруженные жилистые руки спокойно лежат на красном одеяле, а потом он снова начинает кидаться.
Отец, поскрипывая сапогами, бегает из угла в угол. Отстукивают ходики – тик-так, тик-так.
Каждую минуту кто-нибудь со двора отворачивает простыню на окне и заглядывает в комнату. Вот морщинистое лицо Чечевички. Вот заглянула Рахиль. Но погребалыцик Бенця гонит всех прочь.
Вдруг Ейна заявляет, что следовало бы помочь дедушке умереть, и велит мне принести топор.
Гляжу дедушке в лицо и вижу, что он умирает. И все же мне не плачется. Сунув руки в карманы, начинаю щипать себя, кусаю губы, пытаюсь вспомнить что-нибудь очень грустное, чтобы расплакаться. Но ничего на ум не приходит. И мне стыдно. Заворачиваюсь в дедушкино пальто, что висит у кровати, закрываю лицо руками и выглядываю оттуда. Я еще ни разу не видел, как приходит ангел смерти. Какой он из себя?
Но худенький, маленький служка подбегает ко мне и, погрозив пальцем, наказывает принести топор.
– Реб Эля, – кричит он отцу, – достаньте топор!.. Надо помочь умирающему!
Когда долго продолжается кончина, у нас прорубают дыру в потолке, чтобы ангел смерти мог поскорее явиться за душой.
Отец таращит глаза и не понимает, чего они от него хотят. Но Бенця уже сам достал где-то топор и зовет с собой служку.
Какой-то сосед снял лампу с крючка и, встав у порога, светит им. Слышно, как служка и погребальщик стучат сапогами по чердаку.
Вскоре на потолке, как раз над дедушкой, с треском разлетается штукатурка, и куски ее падают на кровать; белая пыль сыплется дедушке в глаза, в раскрытый рот.
– Перестаньте! – кричу я в беспамятстве.
Отец, как видно, только теперь заметил меня и приказывает выйти. Я не сержусь на него и не сопротивляюсь. Мне только странно и страшно. С бьющимся сердцем я выбегаю во двор.
– Ошер! – зовет меня кто-то, и чьи-то руки ложатся мне на плечи.
От неожиданности отскакиваю в сторону.
– Это я, – говорит Рахиль.
Из соседского окна на нее ложится красноватая полоска света. Она стоит потупившись и, не переставая, мнет свою белую юбочку.
– Я жду тебя. Голда сказала, чтобы ты шел к ней, чтобы не ночевал дома.
Она оглядывается на соседские окна, потом в одну, в другую сторону улочки и подходит ко мне ближе.
– Ты плачешь? – спрашивает она.
Нет, я не плачу и ни капельки даже не хочется плакать. Но она напомнила мне, и на душе сразу стало тоскливо. К горлу подкатывается большущий комок, так что я не могу рта раскрыть, чтобы ей ответить. Так, не вымолвив ни слова, я выхожу со двора.
Уже поздно. На базарной площади под круглым стеклянным колпаком одиноко стоит деревянный фонарь. Время от времени кто-нибудь пересекает трепещущий светлый круг. Гуляющих уже не видно. Только под окнами у дедушки да возле наших дверей стоят кучками или сидят на завалинке соседи, пришедшие утешить родителей. Они оглядываются на меня и на Рахиль. Соседка Хая-Сора даже подходит и заглядывает нам в лица.
В другой раз мне было бы неловко. Я краснею, когда меня видят с Рахилью, и боюсь оставаться с ней наедине – мне нечего ей сказать. А я чувствую себя очень неважно, когда выгляжу дурачком. Но теперь меня не волнует то, что Хая-Сора видит меня с ней и что соседи глядят на нас. Мне даже безразлично, тут ли Рахиль или нет. Иду просто так, куда глаза глядят. И вовсе не к школе и не к Голде, а по шоссе, которое ведет на вокзал, к деревянному мосту через нашу речку.
Темная ночь – ни зги не видно. В небе ни звезды – все заволокло тучами. Душно. И, как всегда в знойную ночь, далекие зарницы время от времени полыхают на небе и на мгновенье освещают церковь, шоссе, заросшие канавы у обочин, ясени и акации, застывшие по бокам дороги.
– Ошер! – тихо зовет меня Рахиль.
Я не отзываюсь и не оборачиваюсь. Слышу лишь ее шаги позади да шуршанье тонкой белой юбочки.
Она что-то говорит, утешает, и мне становится хорошо от ее лепета.
Какая-то сладостная дрожь проходит у меня по телу, когда она прикасается ко мне рукой, задевает плечом и спрашивает:
– Правда ведь, ты уже не огорчаешься?
Я вслушиваюсь в ее певучий умоляющий голосок. Мне кажется, что, если бы я сделал ей больно, она еще больше жалела бы меня. Поэтому-то я принимаюсь шагать еще быстрей, точно мне безразлично, идет она за мной или нет.
Местечко уже кончилось. Во время зарниц теперь выплывают белые стены и соломенные крыши крестьянских мазанок. Рахили уже, видимо, становится жутко. Чем дальше мы удаляемся от местечка, тем больше она старается не отставать от меня. Она даже схватила меня за руку.
– Ошер, – спрашивает она, – ты стоял возле него?
– Стоял.
– И умирать действительно страшно? – говорит она, вся дрожа. – Он кидается!
– Нет, – отвечаю я и прижимаю локтем ее руку, – не страшно. Я не буду кидаться. Я умру, как Ара и Велвел.
– Давай вернемся! Я боюсь!
– Нет, Рахиль, не надо бояться!
Я чувствую, как слезы наворачиваются у меня на глаза. Мне сейчас очень хорошо. Хорошо, что темно, что Рахиль не видит моего лица, и я ее не боюсь. Все хорошо! Меня до слез умиляет мычание коровы, трель соловья, кваканье лягушек.
Соловьи поют теперь круглые сутки. Их песни сливаются с шумом реки, которая катится меж камней и заросла осокой и лопухами, с лаем собак, с шуршанием верб, со всеми таинственными звуками ночи.
Мы уже на мосту. Темно, хоть глаз выколи, но я так хорошо знаю эти места, что даже в темноте вижу подмытые вербы и осины, меж которых еле-еле движется река, и кленовую рощу, где когда-то расстреляли нашего комиссара Велвела Ходоркова.
– Там, – показываю я рукой в темноту, – там погиб Велвел.
– Ошер… Я боюсь… Не надо говорить о покойниках…
– Ладно, не буду.
Я сажусь на перила моста, спиной к реке. Мне страшно, можно в темноте опрокинуться и упасть в воду. Но здесь Рахиль, – и я хочу выглядеть героем.
Рахиль стоит недалеко. Когда сверкнет молния, я вижу, как она держится за перила, покусывает свою косичку.
Где-то защелкал соловей. Издали отозвался другой. Их трели скользят, кружатся, катятся, как серебряные кольца, и расходятся в ночной темени, точно круги по воде. Я вижу, что Рахиль встревожена этим пением.
Она подходит ко мне близко-близко и говорит почти шепотом, что ей холодно, и внезапно, схватив мои руки, кладет их себе на голову.
– Так, Ошерка!
Она впервые называет меня Ошеркой, гладит моими руками свои волосы и говорит, что очень любит, когда ей кладут руки на голову. Я дрожу и, еле касаясь, глажу ее мягкие косички и шелковую ленточку, вплетенную в волосы. Я боюсь даже пошевельнуться и слышу, как стучит у меня в висках.
– Рахилечка, – говорю я, – если хочешь, я тебе покажу соловьев.
Я обещаю прийти с ней сюда снова, рассказываю ей, что соловьи прячутся глубоко в ветвях и к ним нужно осторожно подкрадываться; что соловей – маленький, серенький, поет, вытянув шейку, подняв клювик, и в горле у него тогда быстро-быстро булькает что-то.
Она не отвечает мне, пойдет ли снова со мной сюда, но вдруг ни с того ни с сего начинает руками нащупывать мое лицо.
– Ошерка! – говорит она слабеньким умоляющим голоском. – Почему ты такой злой? Почему ты постоянно сердишься?.. А я не хочу, Ошерка!..
Я хочу сказать ей, что это неправда, но не говорю. Я тоже беру ее лицо в свои ладони. Я уже забыл про дедушку. И ничего теперь мне не нужно, ничего я не слышу. Не слышу даже, как смолкли соловушки, как притихли лягушки.
– Ой! – вздрогнув, шепчет Рахиль. – Кажется, дождь.
Но никакого дождя нет. Просто капля упала на лоб. Однако мрак стал гуще, кругом как-то беспокойней. Вербы у моста сильней застучали листьями. Поднялся ветер. Откуда-то издалека, точно телега проехала по мосту, прокатился легкий гром, потом он приблизился, поднялся выше и вдруг рассыпался на множество-множество падающих кусочков.
В ужасе прислушиваюсь, как гром закатывается куда-то вдаль, но не хочу, чтобы Рахиль думала, что я испугался. Поэтому очень медленно, как бы нехотя, начинаю сползать с перил и разговариваю громко, весело. Я говорю, что все это чепуха, что мы еще успеем дойти до дому.
Однако не успел я договорить это, как над самым мостом сверкнула кривая молния. Я заметил трепещущий белый рукав Рахили на моей черной рубашке. Волосы ее вдруг взметнулись и хлестнули меня по лицу.
Я еще не пришел в себя от молнии, еще глаза были полны огненных кругов, как прогрохотал гром. Он становился все громче, расходился все шире и охватил уже всю бесконечную темень. От силы и неожиданности раската я чуть не свалился в реку. Скрыть своего испуга от Рахили я уже не мог и, вскрикнув, присел к земле.
Гром точно взломал нависшую над нами тучу, капли дождя стали падать все чаще и крупней, и вот уже вовсю пошел шумный ливень.
Бежать домой уже невозможно. Не размышляя, я тащу Рахиль за собой и, стараясь перекричать ливень и гром, приказываю:
– Под мост!
Быстро спускаемся к реке. Скользим, падаем, поднимаемся. Озаряемые огненными сполохами, ползем на четвереньках меж осокой и огромными лопухами. Рахиль держится за меня. Ежесекундно при блеске молнии вырисовывается и вновь пропадает река, камни у берега и обомшелые подгнившие подпоры моста.
Под ногами уже булькает вода, – так мы увязнем! Но, нащупав ногою камень и ухватившись одной рукой за мокрый, скользкий столб, я поддерживаю Рахиль.
Над головою по настилу барабанит отчаянный ливень. Каждое мгновение ярчайшие молнии, сопровождаемые сумасшедшим громом, освещают густые нити падающей воды, зеленую стену верб, среди которых несется разбушевавшаяся река. Все подмостье в огне: вот я даже заметил большую зеленую жабу, забравшуюся наверх, под самый настил.
– Ошер!.. – Рахиль дрожит и крепко прижимается ко мне каждый раз, как прокатится гром или молния полоснет темноту.
Мне хочется, чтобы Рахиль не боялась, вероятно, поэтому мне самому становится не страшно. Я говорю ей, что сейчас все пройдет и что я люблю грозу с громом и молнией.
– Хорошо! – кричу я ей в ухо и начинаю шлепать ногою по воде.
– Нет, Ошерка, боюсь!.. Нет-нет… не боюсь… – говорит она еле слышно, и глаза у нее полуоткрыты, и она, кажется, улыбается.

Но раз она такая слабенькая и ищет у меня защиты, я готов для нее на все. Я хочу, чтобы гроза длилась бесконечно. Я укрываю еще сильней ее головку, чтобы на нее не падали капли, пробирающиеся сквозь настил.
– Рахилечка! – пытаюсь я перекричать шум ливня и грохот грома. – Рахилечка! – умоляю я ее и показываю на молнию: – Где сейчас лучше, здесь или дома?
Но она, видно, не расслышала меня из-за грома, прокатившегося из конца в конец и точно камешками рассыпавшегося по железной крыше.
– Что, Ошерка?
Но я не хочу ее переспрашивать.
Дождь вдруг становится тише и вскоре совсем прекращается. Где-то далеко-далеко еще прокатывается последний гром. Гроза внезапно налетела и внезапно прекратилась. Лишь скопившаяся на мосту вода все еще льется сквозь щели настила. Тучи уже, по-видимому, расходятся. Видны мокрые подпоры моста и слившиеся в сплошную массу вербы. Сердце начинает вдруг безумно колотиться, дрожь охватывает всего, когда я замечаю рядом выступившую из темноты белую березку.
– Ошер! – вскрикивает Рахиль. – Ошер! – Ее глаза полуоткрыты и, кажется, в них стоят слезы. – Соловьи поют! – говорит она. – Ты слышишь, соловьи!
Рассыпаяеь серебряными коленками, заливисто свищут соловьи. Теперь их много. Заквакали и лягушки – сначала одна, другая, потом они уже слышны повсюду.
Я прижимаюсь изо всех сил к холодному замшелому столбу. Уже светло. Рахиль может разглядеть мое лицо. А мне не хочется, чтобы она прочитала на нем страх.
– Идем! – говорю я и, подав ей руку, помогаю выбраться на шоссе.
А на дороге мы оба начинаем хохотать. Мы насквозь промокли, вода течет с нас ручьем. Рахиль начинает весело повизгивать и вертеться. Ей не хочется, чтобы я видел, как она отдирает свою коротенькую белую юбочку, которая прилипла к ее тоненькому телу.
От этого мне становится и сладко и страшно. Принимаюсь разглядывать разорванные тучки, куски очистившегося голубого неба. У самого края его висит продолговатое белое облако с пламенеющими нежными краями.
– Ошерка, – зовет меня Рахиль, – мне холодно! – И лицо ее розовеет от этого облачка.
– Тогда побежим! – Сбросив башмаки и закатав штаны, я жду ее. – Бежим, станет теплее!
Рахиль тоже разулась. Она бежит и все старается отодрать прилипшую юбку. Ее распустившиеся волосы хлещут меня по лицу. Мне весело, я разбрызгиваю вокруг себя жидкую грязь. Я весь измазан, а ее белое платье стало рябым.
Добежав до местечка и еле отдышавшись, мы берем друг друга за руки. Здесь бежать неудобно, могут увидеть. Правда, местечко еще спит. Только на базаре горит фонарь, больше нигде не видно света.
Останавливаюсь у нашего дома. Рахиль говорит, что ей страшно одной идти дальше, хотя она живет совсем по соседству.
– Зови меня!.. Кричи «Рахиль»! И я не буду бояться.
– Рахиль! – кричу я. – Не бойся!
– Еще нет! – доносится до меня тонкий голосок.
– Рахиль! – кричу я снова, приложив рупором руки ко рту.
– Уже скоро! – отвечает она.
Внезапно раскрывается окошко, и я в испуге отскакиваю в сторону.
– Ошер! – говорит охрипшим голосом мама. Волосы у нее всклокочены. Она некоторое время смотрит на меня и вдруг начинает плакать.
Я встаю на завалинку и смотрю в комнату. Там на полу, вытянувшись во всю длину, лежит дедушка. Он покрыт простыней. Подбородок его подвязан красным платком, и узлы торчат на голове, как два рожка.
У его изголовья горят свечи. Пламя колеблется. Вместе с тенями покачивается и маленький худой служка. Он жалостливым голосом читает молитву.
Меня кидает в дрожь, но не от его причитаний и не от горящих свечей: залатанные дедушкины сапоги, как всегда, стоят у него под кроватью, начищенные до блеска.








