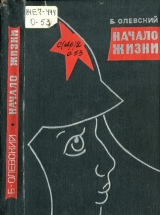
Текст книги "Начало жизни"
Автор книги: Борис Олевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
Наш председатель Совета Бечек Каминер не любит трусишек. Ему очень понравилось, что я скакал на коне и не свалился.
– Человеком становишься! – сказал он и хлопнул меня по плечу так, что я присел. – Смотри у меня! Не будь нюней!
Я начал было говорить, что могу спуститься даже в колодец, но он прервал меня и заявил, что пора уж мне перестать болтать глупости, и отправил созывать членов Совета.
Местечковый Совет отнимает у меня уйму времени. Я начинаю забывать даже о Рахили.
– Наше местечко, – заявил недавно на митинге Бечек, – должно переменить лицо.
Но, как он пояснил, члены профсоюза и кустари останутся как были, а вот лавочникам придется менять лицо.
После этого мой сердитый дядя Менаше прибежал к нам в дом и стал уверять отца, что всех лавочников заставят стричь бороды. Но я попросил его уйти: когда я дома, никто не смеет болтать чепуху о Советской власти.
Несколько дней назад Бечек накричал на меня и указал на дверь – нечего, мол, лазить через окно. Он велел мне зачем-то зайти в Совет, а мне вздумалось сначала заглянуть к нему в окно: один ли он там? Однако окна в Совете очень высоко от земли, а завалинка вся в репье, да еще вокруг разрослась бузина. Я с трудом разобрал ветки и, ухватившись за раму, взобрался на подоконник. Тут Бечек подскочил к окну и так раскричался, что я с испугу чуть не скатился вниз.
– Это что за шутки! – шипел он и ухватил меня за воротник. Потом он так хватил револьвером по столу, что чернильница подпрыгнула.
Бушует он потому, что однажды в него уже стреляли через это окно. Кулаки теперь часто убивают председателей Советов. Исайка, например, поклялся, что Бечеку все равно не жить, разве только его самого раньше прикончат. Да и не только Исайка, все местечковые богачи очень злы на Бечека. Они вопят, что из-за него они скоро пойдут побираться. Кто-то даже настрочил на него донос, будто он взяточник. Но все это, конечно, ложь. Они рвут и мечут из-за налогов, из-за домов, которые он поотбирал у них.
Я очень обрадовался, когда мама сказала, что Бечек велел мне зайти вечером в Совет.
Наш Совет помещается на горе в здании бывшей тюрьмы, где когда-то был наш клуб. Даже сейчас, в сумерках, издали хорошо видны его белые стены, высокие окна и цинковая крыша.
Пр тропинке с горы навстречу мне спускались председатель профсоюза Мейлах Полевой, кожевник Фроим и еще другие члены Совета. По-видимому, они возвращались с какого-то заседания.
Проходя мимо меня, Фроим сказал: «Наверно, будет буча», – а Мейлах тут же заметил, что члены профсоюза не должны болтать глупостей.
Значит, ожидается какой-то скандал! Это очень интересно, и надо повидать Бечека.
– Вот и я, Бечек! – влетаю я с криком к председателю Совета, но тут же прикусываю язык: он не один – у него Голда и Ицик Назимик.
Они ругаются и не слышат меня. Бечек даже не обернулся, когда я вошел. Видно, только что кончилось заседание – кругом беспорядок, на полу и на столе окурки, валяются коробки из-под папирос.
Бечек говорит о каком-то кирпичном заводе и о земле, а Ицик вопит, что ни к чему заботиться о каких-то лавочниках.
– А я говорю, мы обязаны! – отвечает Бечек.
Голда тоже зло глядит на Ицика. А тот сидит на подоконнике и стучит ногой о стену так, что штукатурка отваливается.
– Я этого не допущу! – кричит Голда. – Я не меньше твоего хочу, чтобы у нас не было лавочников. Но надо действовать разумно. – Она хватает пачку бумаг. – На, смотри, сколько лавочников просят, чтобы им дали землю! Они хотят заниматься земледелием.
– А почему они раньше не брали земли? – ехидно спрашивает Ицик.
– Ишь ты, какой герой! – возражает Бечек. – Не помнишь, что здесь творили петлюровцы! Евреи не смели и носа высунуть за околицу.
– А я говорю – шкуру с них надо драть! Это ведь спекулянты! И не люблю я эти интеллигентские штучки!
– Люблю я твою горячность, Ицик, – говорит уже спокойно Голда, – но если не прибрать тебя к рукам, ты такое натворишь, что шкуру придется драть с тебя, а не с них!
– Что ты сказала?
– То, что слышал, – отвечает Голда и накидывает на плечи пальто.
– Не хочу и слышать! – кричит Ицик и, хлопнув дверью, выскакивает на улицу.
– Ну, я ухожу, Бечек. Думаю, что с Ициком надо все же покончить.
Лишь когда Голда уходит, Бечек садится за стол, сбрасывает с себя пиджак.

– Ну, Ошер, – говорит он, засовывая руки в карманы, – слыхал?
– Слыхал.
– Это мы начинаем…
– Изменять лица?
– Какие лица?
– Да ведь ты сказал на митинге.
– Не понимаю, что ты болтаешь, – морщится он и разглядывает меня, силясь что-то припомнить. – Что это тебя не видно? – спрашивает он вдруг.
– Учусь, – отвечаю я. Не стану же я говорить ему, что не прихожу из-за того, что он прогнал меня.
Стряхнув с красной материи все лишнее, он говорит мне:
– Ты должен мне сегодня сделать одну работу.
– Какую?
– Перепиши вот это. – И он протягивает мне какие-то бумаги. – А потом подсчитай!
Я пододвигаю скамейку и, расчистив место на столе, беру лист чистой бумаги и принимаюсь его линовать. Одна клетка у меня для номеров, другая – для фамилий, третья для цифр. Бечеку, видно, моя работа нравится. Осторожно выписываю четким почерком фамилии, которые Бечек диктует.
– Пиши! – говорит Бечек. – Пекер Хая Гдальевна. Первый разряд. Двадцать пять.
Мне смешно: ведь у нас не называют людей по фамилии.
– Бечек… – покатываюсь я. Мне не верится, чтобы председатель связывался с какой-то бабой.
– Чего ты заливаешься?
– Это ты о Хаечке?
– О Хаечке. Пиши дальше! Толчин Меер Берович. Второй разряд. Тридцать девять.
– Это тот Меер Берович, у которого лавка на базаре?
– Да, да! – сердится председатель. – Колун Меер Рувимович. Пятый разряд. Двести двадцать пять. Троковичер Лейб Исаевич… Триста.
– Не так быстро! – прошу я.
Бечек горячится, ходит из угла в угол.
– Что это за цифры? – спрашиваю я.
– Налоги, Ошер, налоги! Пиши! – говорит он недовольно. – Рабинович – сто восемьдесят пять!
По крику Бечека, по его метанью от стены к стене я догадываюсь, что пишу что-то очень важное. Делаю нажим сильнее, перо раздирает бумагу.
– Иоффе Вениамин Шмулевич. Второй разряд, – кричит председатель. – Тридцать пять.
– Это отец Сролика, – замечаю я. – Он учится вместе со мной.
– Какого Сролика?
– Который бежал из дому. Рябов доставил его обратно.
– Нет, я его не знаю! – Бечек озадачен и кладет бумагу на стол. – Постой, постой! Убежал от отца?
– Да.
– Здорово! Значит, они стыдятся своих отцов?
– Когда Буля назвал его спекулянтом, Сролик заплакал.
– А ты с ними дружишь?
– Да… Нет!.. – спохватываюсь я. – Терпеть не могу лавочников. Ненавижу их!
– Что ты ненавидишь? Чего ломаешься? – сердится Бечек. – Среди наших торговцев есть десяток богатеев. Их, конечно, нечего любить. Но остальные – беднота.
– Беднота, – соглашаюсь я.
– Чего же ты ломаешься? – спрашивает он и садится. Затем, подтянув колено к самому подбородку, начинает говорить со мной так, как никогда не разговаривал. – Скоро мы откроем кирпичный завод, где смогут работать пятнадцать – двадцать человек. Может быть, удастся получить десятин пятьдесят – шестьдесят земли. Потом откроем фабрику. И у нас будет, как в городе… Ты никогда не бывал в городе?
– Нет, Бечек.
– Вот в городе, когда утром загудят гудки… Думаешь, у нас так нельзя? Разобьем сквер на базарной площади… Поставим крашеные скамейки, как в Николаеве…
– И конку! – прихожу я в раж. – Говорят, в городах люди ездят в вагончиках по рельсам и лошади тянут эти вагончики…
– Какую конку? – спохватывается он вдруг и вытягивает вперед руки, точно сдерживает лошадей. – Тпру, Ошер! – кричит он. – Тпру! Держи крепче вожжи! Держи!.. Штительман – тридцать шесть… Бершадский восемьдесят девять… И пусть никакая собака не гавкнет потом, что у нас тут одни лавочники!.. Гохман – двадцать… И пусть кончаются все наши бедствия, Ошер!..
– Бечек! Люди жалуются, что из-за тебя они скоро пойдут по миру.
– Из-за меня?
Я ощущаю его тяжелое дыхание на своей щеке и вижу самого себя в его остановившихся зрачках.
– Ошер, скажи мне правду! – говорит он, уставившись на меня так, что я не в силах выдержать его взгляда. – Что говорят обо мне в местечке?
Я опускаю глаза. Мне не хочется ему рассказывать, что многие проклинают его, что многие надеются дожить до той счастливой минуты, когда по нему будут справлять траурную седьмицу.
– Ругают меня, да?
– Ругают.
– Видишь ли… – Бечек шагает по комнате, затем, присев на подоконник, хватается обеими руками за раму, так что рукава его солдатской рубахи сползают и оголяют здоровенные волосатые руки. Ветер вздувает его гимнастерку, и председатель становится как бы шире. – Видишь ли… – повторяет он, глядя на крыши домишек, которые жмутся друг к другу, точно стадо овец, на пожарную каланчу, которая будто пририсована к этим синеватым домикам. – Понимаешь?.. – И он опять умолкает. В наступившей тишине слышно, как перекликаются лягушки в прудах, как стучит мельница и где-то далеко на станции кричит паровоз. – Понимаешь ли? Это вроде болезни… Такое вот бывало со мной… В Знаменке один бандит всадил мне пулю в ногу. Я ходить не мог. А когда доктор положил меня на стол и стал резать, я ругал его так, что слышно было в Фастове. Потом я даже стукнул его. А доктор не обиделся и делал свое дело… И я выздоровел… Одним словом, Ошер, я буду поступать, как тот доктор. И они перестанут хромать, – говорит он, показывая на спящее местечко. – И твой паренек тоже… Как его зовут?
– Сролик.
– И Сролик тоже перестанет страдать.
То ли потому, что лампа начала гаснуть и пламя стало приплясывать, наполняя комнату тенями, то ли потому, что какая-то птичка шелохнулась в кустах, но Бечек вдруг спрыгнул с подоконника и оборвал свою речь.
– Да что мы тут болтаем? – вскрикнул он и принялся надевать пиджак. – Ведь уж скоро день! Беги, да не болтай! Про налоги – молчок! Счастливого пути!
МОЙ ТОВАРИЩ СРОЛИК
Бечек сказал – молчок, я и молчу. Только так, между прочим, рассказал я в классе, что целую ночь просидел с председателем Совета. Рахили я заявил, что очень занят и не успеваю выспаться от всяких заседаний. Про налоги я, однако, никому ничего не говорил, сказал лишь словечко Сролику.
Сролик, по обыкновению, сидел на уроке, подперев руками голову, и слушал, что говорит учитель. После урока он спросил меня, почему я все время гляжу на него и что особенного я в нем нашел.
Тогда я отозвал его в угол и все рассказал. Сообщил ему, что больше лавочников у нас не будет и что все-все, так сказал председатель, будут равны.
Сролик сначала нахмурился, стал грызть ногти, а потом повеселел. Он всегда такой, вечно настороже, будто собирается отбиваться от кого-нибудь или нападать. Но никто не собирается его обижать. Буля однажды обозвал его спекулянтом, и Голда исключила его за это из школы на несколько дней.
Все же Сролик чувствует себя подавленным. Как-то он пристал ко мне: объясни, пожалуйста, чем я лучше его и отчего так задаюсь? Вот и неправда, я вовсе не задаюсь. В школе все мы товарищи. Только Назимик требует, чтобы детей лавочников выдворили из школы. И в помещение комсомольской ячейки он их не пускает.
Мое сообщение сразу ободрило Сролика.
– В самом деле? – спросил он.
– Конечно, Сролик! И фабрика и земля будет… Все будут работать.
Он пришел в восторг.
– И мы будем пахать… крестьянствовать? – спрашивает он, и его жалящие глаза на вечно настороженном лице внезапно загораются.
Ему уже не стоится на месте. Он тащит меня на улицу. Свою шапку он смял и сунул в карман, блестящие волнистые волосы его взъерошены.
Я так расчувствовался, что даже пригласил его на политфанты в комсомольскую ячейку, потому что руководить ими сегодня будет Голда.
– Пойдешь?
– Конечно! – говорит он, обрадованный.
Политфанты очень занимательная игра, мы в нее играем даже на переменках. Но в ячейке она еще интересней. Я, Буля и Зяма постоянно бываем на политфантах – нас, детей рабочих, не гонят оттуда, и мы не боимся Ицика.
Буля, правда, моршится – ему не нравится, что я пригласил Сролика. Но я, как Бечек вчера, отзываю его в сторону и заявляю, что мы поедем на землю и все станут рабочими.
Возвращающееся стадо поднимает столбы пыли. Мчась вперегонки, дети из младших классов попугивают коров. Но мы, четверо, идем степенно, как и подобает взрослым. Сролик, как я замечаю, хотя и чувствует себя хорошо, но сдержан, не хочет выдавать, что у него на душе. Глянет сбоку на Зяму или на Булю и тут же отведет глаза, чтобы не выдать, что идти с ними ему приятно.
Сролик, как и я, очень завидует Зяме и Буле: они уже настоящие рабочие. Зяма работает на мельнице и учится на машиниста. У него убили отца и брата, и на учебу его определил профсоюз. А Буля служит курьером.
Зяма ходит теперь в замасленных штанах, пиджак носит внакидку и фуражку сдвигает на затылок, точно как машинист Сважек. Он курит папиросы и заявляет, что плевать хотел на мельницу: после школы он сразу поедет на большой завод.
Ни о чем мы так не мечтаем, как о заводе. О Сролике нечего и говорить! «Уехать бы, – заявляет он, – куда-нибудь далеко-далеко, где никто меня не знает, и стать настоящим рабочим!»
Только один Буля думает о другом. Он поедет учиться на матроса и будет плавать на кораблях. Он даже говорить стал басом, сшил себе штаны клеш и бреется.
Буля выше и плотнее всех нас. Его большая голова на широких плечах немного откинута назад, точно он собирается в драку. Но он не драчун, а только любит померяться силами. Его большие крепкие руки не знают покоя, им бы все что-нибудь делать. Сейчас он закинул свои руки на меня и на Зяму, а я, в свою очередь, на Сролика. Заняв всю дорогу так, что прохожие вынуждены сторониться, шагаем мы вчетвером на политфанты. Нам очень весело, мы дразним собак, и вся деревенская улица провожает нас громким лаем.
Даже Сролик стал разговорчивей. Он рассказывает нам о своих делах, что у отца есть дядя, а у дяди двоюродный брат сапожник, и еще что-то. Он даже покрикивает на нас, чтобы мы поторапливались, так как политфанты, вероятно, уже начались.
Игра уже действительно началась. Кругом полно ребят, сидят даже на подоконниках. И, как всегда, здесь шумно и весело.
Мы еле протискались внутрь. Однако Голды нет. За столом посреди комнаты – Ицик Назимик, заместитель Голды.
Сролик, испугавшись Ицика, остановился. Но Буля втолкнул его в комнату. Тогда наш приятель забрался в уголок и сразу потерялся. Зато мы втроем потихоньку сталкиваем со скамьи швею Добку, Фрейду и еще нескольких девчонок и захватываем их места. Они даже не могут обругать нас, так как Ицик требует тишины.
Вот Назимик задал вопрос, никто не может на него ответить.
– Ну, а ты, Ошер? – замечает он меня. – Как будто знающий парень. Может быть, ты ответишь, что такое СТО?
– Сто есть сто единиц, – отвечаю я.
– Пять раз двадцать, – кричит Зяма.
– Десять раз десять, – стараюсь я его перекричать.
– Нет, – отвечает Назимик. – СТО это – Совет Труда и Обороны. А теперь ответьте на другой вопрос: Октябрьская революция произошла в октябре. Почему ее празднуют седьмого ноября?
– Потому что в семнадцатом году буржуи передвинули календарь на тринадцать дней назад, а мы назло буржуям…
– Ой, нет! – Сролик поднял два пальца. (Я слышу его взволнованный голосок.) – Совсем не так! Дайте мне слово, товарищ Назимик. Это астрономия…
– Да, да… Земля вращается, – вспоминаю я, – вот почему и отодвинули календарь. Это астрономия…
– Стоп! Подожди-ка! – не дает мне кончить Назимик. Его черные волосы поднялись дыбом. Он стоит, высокий, худой, изогнутый птичий нос раздувается. – Кого я вижу здесь? – говорит он и вглядывается в Сролика, который еле виден среди множества голов.
– Прошу слова, товарищ Назимик.
– Какой я тебе товарищ? – кричит Ицик, и глаза у него становятся такие, точно стряслось какое-то бедствие. – Какой я тебе товарищ?.. На наши вечера уже пробираются спекулянты!
– Он школьник! – кричит Зяма.
– Тихо! – стучит Назимик кулаком по столу. – Предлагаю спекулянту сейчас же покинуть собрание!
– Это Каминер позволил… Он сказал…
– При чем тут Каминер? Вон спекулянтов!
Сролик стоит растерянный. Его большие остекленевшие глаза уже ничего не видят. Лицо его так бело, что на нем ничего не видно, кроме больших веснушек и страшных глаз.
– Не уходи, Сролик! – реву я, взбешенный. – Не слушай его!
– Он не спекулянт! – кричат отовсюду. Все стучат ногами, свистят.
– Что-о? – сверкает глазами Назимик. – Защищать спекулянтов?! Вон! – Он весь дрожит. – Я приказываю!
Но Буля не отпускает Сролика. Из белого Сролик становится красным. Рот у него открыт, и каждое мгновенье судорожно сжимается его горло, точно он глотает.
– Пропусти! – толкает меня Назимик и хватает Сролика за плечо. – Ты долго будешь здесь стоять?
– Не тронь! – кричит Сролик. – Я сам…
– Пошел! – кричит Ицик и отпускает его.
– Отойди! – Сролика не узнать. – Отойди, говорю! – Он изворачивается, отбивается ногами.
Поднимается кутерьма. К ним отовсюду бегут. Врываюсь и я в толпу. Бью направо и налево.
В это время Сролика притискивают к окну, раздается звон, и на пол летят осколки выбитого стекла. От неожиданности все рассыпаются в стороны.
– Контрик! – хрипит Ицик и хочет его поймать.
Но Сролика уже нет, он уже умчался.
Я пускаюсь следом за ним. Чувствую себя виноватым и хочу ему сказать что-нибудь хорошее. Но, добежав до его дома, я никак не осмелюсь войти. Долго хожу вокруг да около, затем пробираюсь в сени. Слышу, как Сролик плачет и кричит на отца. Потихоньку выхожу обратно, но в дверях сталкиваюсь с Зямой. Он предлагает мне войти первым.
Набравшись духу, я вхожу и застаю Сролика сидящим в кухне, на железной кроватке. Голову он уткнул в руки и, кажется, плачет. Я вошел так, что он не услышал скрипа, лишь качнулось пламя в маленькой лампе. Отец его, Вениамин, даже не обернулся ко мне. Он стоит у низенького окошка и все трет пальцем запотевшее стекло.

– Добрый вечер, – говорю я тихо.
Сролик мгновенно оборачивается и, утерев рукою глаза, вскакивает.
– Чего тебе здесь нужно? – кричит он и, схватившись за голову, кидается снова на кровать и зарывается в подушки.
– Боже мой, боже мой! – Отец мечется из угла в угол. – Он меня в могилу сведет… Ну вот, Ошер! – Он останавливается и протягивает ко мне руки. Его рыжеватая, точно выщипанная бороденка трясется. – Ведь вы уже взрослый! – начинает он вдруг говорить мне «вы». – Скажите, разве я хотел быть торговцем? Ведь царь Николай, будь, проклято его имя, не давал нам ничем другим заниматься!.. Закрыть лавчонку? – спрашивает он и сам себе отвечает: – Пожалуйста! Но чем же мне тогда жить? Ну, скажите! – Он идет вслед за мной и тянет ко мне руки.
Сролик садится на постели и большими глазами смотрит, как отец шагает следом за мной. И когда Вениамин снова повторяет: «Ну, прошу вас, Ошер, посоветуйте, как мне быть!» – Сролик кричит исступленно:
– Папа, не клянчи! – Его худые поднятые руки трясутся. – Не плачь перед ним!
Он подбегает к отцу и обнимает его. В это время входят Зяма, и Буля, и другие парни из ячейки.
Сролик смотрит на пришедших сначала удивленно, потом хочет улыбнуться, но начинает плакать. Однако я чувствую, что это уже слезы не от обиды, это совсем иные слезы.
ГОЛДА
Сегодня я встал чуть свет. В школе занятий нет, но я решил побежать к Голде и сообщить ей обо всем, что было со Сроликом: как он разбил окно, а Назимик приказал устроить над ним товарищеский суд.
Дедушка уже сидел на завалинке. Базарная площадь была пуста, только возле стоянки извозчиков возились воробьи. Задрав кверху бороду, дедушка зачем-то вглядывался в сиявшие на солнце три креста над церковью.
– Куда это тебя так рано подняло? – спросил дедушка. – Постой-ка!
Но я даже не обернулся к нему и сразу кинулся бежать.
Пока я домчался до Голды, я весь взмок. Она живет на окраине, у Лейбы Троковичера.
Я вынужден был переждать на крылечке, отдышаться, чтобы войти к ней тихо, спокойно. Ей не нравится, что я постоянно ношусь как бешеный. Голда учит меня многому. Например, она все время наставляет меня стучаться, перед тем как войти к кому-нибудь в дом. У нас это не принято, и поэтому мне странно.
Но на этот раз я уже готов был постучать. Задержался только потому, что услышал за дверью разговор. Не успел я, однако, опомниться, как произошло что-то неожиданное, и у меня искры из глаз посыпались: растворилась дверь и стукнула меня по лбу. Из комнаты Голды вышел начальник милиции Рябов.

А Голда меня вовсе перепугала.
– Дорогой мой… Ошерка!.. – подбежала она ко мне, прикрыв предварительно за собою дверь. – Ты что-то сказал?
Но я ничего не говорил. Глаз не могу поднять от боли, гляжу на пол. Вижу босые ноги Голды в комнатных туфлях и край цветастого халата.
– Разбил… Сролик разбил… – говорю я, с трудом поднимая голову.
Но Голда даже не слышит, что я говорю, не замечает синяка у меня на лбу.
– Ошерка! – говорит она и стягивает одной рукой халат, а другой подбирает рассыпавшиеся волосы. – Ошерка!.. – повторяет она и улыбается почему-то. А глаза у нее красные и полны слез. – Зайди попозже. Я себя плохо чувствую… Вот видишь – Рябов пришел меня звать… Я его позвала… Пришел по поводу деревьев, что Троковичер хотел… Чуть не вырубил…
– Ладно, зайду!
И Голда сразу выпроваживает меня.
Я мгновенно делаю поворот и молнией слетаю со ступенек крыльца. По дороге чуть не придушил курицу Троковичера.
– Чтоб вам пропасть! – визжит хозяин. – Чуть свет явились!
Троковичер, стоя в одном исподнем среди двора, крошит курам хлеб и кричит: «Тю-тю-тю!»
Скверно у меня на душе. Я еще больше ненавижу его теперь из-за деревьев, которые он собирался вырубить. Из-за них Голда только что плакала.
– Мы еще вам покажем! – кричу я на весь двор так, что даже Голда высовывает голову из-за двери. – Мы вам покажем, как вырубать деревья!
– Какие деревья? – спрашивает он и прет прямо на меня. – Пропади ты пропадом!
Видно, он вздумал расправиться со мной. Но я его не боюсь, я плюю на него. Пусть только пальцем тронет!
В этот день я к Голде не зашел. Назавтра я обнаружил у нее на двери замок. В школе ее тоже не было. Оказывается, вчера вечером Голда уехала на несколько дней в город. Говорят, она себя неважно чувствовала и поехала к доктору.
Назимик уже несколько раз заходил в школу. Он обвинил учителей в том, что они воспитывают «контриков» и хулиганов, пугал меня, что больше не пустит в ячейку. Но я не из трусливых.
Если бы не это разбитое стекло, ничего не было бы. А тут преподаватель Муни пригласил меня и Зяму в учительскую, бранил за то, что мы допустили этот скандал, и предложил собрать товарищеский суд.
Я сразу заявил, что болен, и указал на шишку, которую набил мне Рябов. И Зяма отказался, так как после занятий он работает на мельнице. Зато очень обрадовался Юзя. Он тоже член товарищеского суда. Отец его – присяжный поверенный, и Юзе обидно, почему председателем суда выбрали меня, а не его. Он вечно клянчит, чтобы я ему дал попредседательствовать, а я назло не уступаю ему. Вот теперь-то он рад! Он тут же помчался и объявил всем классам, что завтра вечером состоится товарищеский суд.
На следующий день вечером в школе было полным-полно.
Юзя стал медленно читать обвинительный акт:
– «Несмотря на то что учащиеся рабочей школы обязаны вести себя примерно и не бить стекла, ученик рабочей школы Сролик Иоффе все же бил стекла…»
– Всего одно стекло!.. – раздались голоса из зала.
– Не важно… Все же бил стекла в помещении ячейки… «И, принимая во внимание…» – Голос у Юзи вновь становится торжественным и важным.
Собравшиеся пялят на него глаза, глядят ему прямо в рот.
– «…и, принимая во внимание, что Сролик бил стекла…»
Но в эту торжественную минуту раскрывается дверь, и в класс входит Голда. Все оборачиваются, поднимается шум.
Юзя свирепеет.
– Комендант! – кричит он и ударяет кулаком по столу. – Кто там вошел? Вывести его! – Затем продолжает чтение обвинительного акта: – «…и так как он выбил стекло, мы постановляем судить его и вынести соответствующее наказание. Посему…»
– Да не глотай ты слова! – говорит подошедшая Голда.
Юзя пытается состроить улыбку.
– Ребята, кажется, у вас собрание? – хмурится Голда. Она глядит сначала на Юзю, потом на Сролика. – Что случилось?
– Он выбил стекло…
– В помещении комсомольской ячейки…
– …потому что Ицик хотел его выгнать, – отвечают со всех сторон.
– Вот как? – улыбается Голда. – Как же это с тобой случилось, Сролик?
Она улыбалась и говорила со Сроликом очень ласково. Все были ошеломлены. Даже Сролик поднял на нее удивленные глаза. А потом все стали кричать, что Сролик не виновен. Тем временем Юзя потихоньку смылся.
– Дети, – предложила Голда, – не надо шуметь. Давайте отложим суд… Еще раз обдумаем… А пока идите по домам!
Услышав это, я тотчас позвал Матильду. И наша немая уборщица, в красных чулках, постукивав деревяшками, тотчас вбежала и стала гнать детей домой и тушить лампы.
В опустевшем классе остались лишь я да Голда. По-видимому, она только недавно сошла с поезда и устала. Тонкая ее косынка сползла и открыла белый пробор посередине головы и немного всклокоченные волосы.
– Ошер, – спросила она, – что здесь произошло? Как это он выбил стекло?
– Ицик Назимик при всех назвал его спекулянтом и выгнал… Сролик плакал…
Я рассказываю ей все по порядку: как после беседы с председателем Совета я позвал Сролика на политфанты, как после всего случившегося помчался к Сролику домой. И Зяма прибежал. А Сролик плакал.
– Как думаешь, надо было Сролика доводить до этого? – спрашивает Голда. – Назимик правильно, по-твоему, поступил?
– Нет, – говорю я и не пойму, почему она так сердито смотрит на меня.
– Нет, говоришь? Ну, а ты защитил его? Сказал, чтобы его не гнали?
– Да, Голда. Но Ицик меня не послушал. Ведь он ваш заместитель.
– Я тебя спрашиваю, почему ты допустил собрание товарищеского суда?
– Разбил стекло… Муни… Не знаю…
– Чего ты не знаешь? Ты ведь сам его позвал? Ты ведь только что сказал, что его не надо было выгонять?
– Но ведь это Ицик…
– Чего опять Ицик? Сколько тебе лет? – злится она.
– Тринадцать.
– Если в тринадцать ты себя так ведешь, что же с тобой будет в тридцать? – Впервые за все время она говорит со мной так резко, хоть я ни в чем не виновен.
– Голда… – говорю я тихо и чувствую, что сейчас расплачусь.
Но Голда не слушает меня.
– Ошер, – произносит она взволнованно, – ты, кажется, уже не ребенок. И не лги! Скажи чистосердечно, ты по-настоящему ненавидишь наших врагов? Готов ли ты кинуться на негодяев, которые еще паскудят нашу жизнь?
– Да, Голда. – Но я не в силах глядеть ей в глаза и отворачиваюсь. Отхожу к раскрытому окну, гляжу на кривой лик огромной луны, повисшей меж тополями.
– Ошерка! – начинает она дружелюбно и пробует усадить меня возле себя.
Мне становится еще хуже от ее дружелюбия. Я высовываюсь в окно, гляжу на белый туман, клубящийся меж копен на поле, на придорожный песок, поблескивающий в лунном свете.
– Чтоб я помер, Голда!..
– Без клятв, Ошер, не люблю этого!
– Чтоб я помер, – говорю я тополям и небу, – если я не кинусь на врагов!..
– Ну ладно, Ошер, – прерывает она меня. – Это ничего, – и поднимается, так как Матильда смотрит на нас испуганными глазами и собирается тушить свет. – Пойдем! – говорит она и, положив мне руку на плечо, ведет из класса. – Нужно было хоть предупредить меня об этом.
– Товарищ Голда, я заходил к вам. Хотел тогда рассказать… Но Рябов… И вы чего-то плакали…
– Не кричи! – закрывает она мне рукою рот и беспокойно озирается по сторонам.
Никого нет. Только Сролик, опершись о забор, стоит в уголке двора, опустив голову.
Голда не видит его. Прислушиваясь к далеким крикам удаляющихся детей, к лаю взбудораженных шумом собак, она пригибается ко мне и говорит:
– Я себя тогда плохо чувствовала, Ошер… Была больна… – Она заглядывает мне в глаза. Высокие тополя чуть пропускают лунный свет. Отдельные лучики сияют над головой Голды. – Ты зашел тогда… А Рябов как раз пришел меня звать… Насчет деревьев…
Она хочет мне еще что-то сказать, но слышатся шаги. Сролик направляется к калитке. Она замечает его и обрадованно спрашивает!
– Кажется, Сролик?
– Сролик! – кричу я.
Но он не отзывается. Постояв немного, он молча идет дальше.
– Сролик, ведь тебя зовут!
– Чего? – грубо кричит он. – Чего вам от меня нужно?
– Иди сюда!
– Не хочу! Все смеются! Не хочу, чтобы и вы надо мной смеялись.
– Постой же! – Голда подходит к Сролику и берет его за руку, затем ведет нас обоих во двор к Троковичеру. – Здесь светлей, – говорит Голда и берет меня за руку. – Посмотри-ка, Ошер, разве я смеюсь?
Она останавливается. Брови у нее насуплены, прядь волос упала на лоб. Лицо ее под луной то светлеет, то темнеет.
– А может быть, – говорит она внезапно Сролику, – мне тяжелей, чем тебе?..
Точно забыв про нас, она направляется к своей двери. Повторяя ее движения, еле-еле колеблются сзади складки ее расстегнутого пальто. Взойдя на крыльцо, она отпирает замочек на двери и уходит в комнату.
Сролик стоит возле меня и заплаканными глазами смотрит на колодезный журавель. Козырек фуражки у него набоку, давно не стриженные волосы растрепались.
Теперь стало так светло, что видны даже обручи на замшелой бадейке, прутики в большом круглом гнезде на крыше сарая. Видно даже аистов. Они спят, спрятав головы под крыло.
– Ребята, чего же вы стоите? – спрашивает Голда, появляясь на крыльце. – Почему не подойдете?
Она уже привела себя в порядок. Бордовое платье делает ее выше, красивей. Черные волосы поблескивают под луной. Она тащит нас на крыльцо. В открытую дверь я вижу неприбранный стол, пальто, брошенное на незастланную железную кровать, портрет Ленина на стене.
– У меня не убрано, не глядите, – захлопывает она дверь.
Голда первой опускается на ступеньку и, обхватив руками колени, говорит, что сегодня чудесная ночь, что она страшно рада тому, что живет на окраине.
Я тоже присаживаюсь. Замечаю – она глядит на крышу. Гляжу и я туда. На соломенной крыше сарая появилась кошка. Она мягко ступает по самому краю ее, видно, крадется к гнезду. Это мне очень нравится, потому что сейчас аисты проснутся и будут кошку драть в клочья. Но когда я снова оборачиваюсь к Голде, она, оказывается, уже глядит на Сролика. Мне даже обидно становится. Сролик стоит, опершись о перила, его фуражка лежит на земле, и его рыжие рассыпавшиеся волосы пылают.
– Сролик! – говорит Голда и берет его за руку. – Ты и на меня сердишься?
– Нет, товарищ Голда, нет! – Он поднимает на нее глаза, полные слез.
– Ну так садись! Расскажи что-нибудь!
– Мне нечего…
Он садится, говорит с ней дружелюбно. И я знаю: его слезы не от обиды, а потому, что с ним обходятся ласково.
В ночной тишине слышно, как возятся на насестах проснувшиеся куры, как жует жвачку корова в хлеву, как прошуршит крыло летучей мыши. Издалека доносится пение. Это где-то в полях поют девушки. Протяжная, тихая песня хватает за душу.








