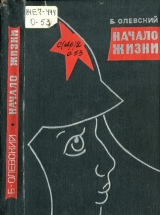
Текст книги "Начало жизни"
Автор книги: Борис Олевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
В ПАРТКОМЕ
Голда и Бечек уже несколько раз напоминали мне об Ищенко. Но я не знаком с секретарем партийного комитета и мне как-то неловко к нему идти. Но вот после похорон дедушки я окончательно собрался.
Иду и думаю о дедушке. Когда он был жив, мы как будто не очень были дружны. Но теперь я никак не привыкну к мысли, что его нет. Мне странно, что дедушка, который так долго жил и трудился, который столько рассказывал мне о царях и стражниках, вдруг куда-то исчез, и я его никогда больше не увижу. Да и не только его – многих других, которые ушли от нас далеко-далеко. Мне очень тяжело и горько. Открываю хорошо знакомую дверь в партком, где когда-то, во времена Велвела, я проводил целые дни.
В парткоме, как это всегда бывает, полы потертые, на них даже образовались ямочки от множества прошедших здесь ног. Недавно побеленные стены полны неровностей из-за плохо снятой старой штукатурки, из-за плакатов и объявлений, которые когда-то висели тут.
Теперь здесь не так, как раньше, – все на месте, все прибрано. В большой передней аккуратно стоят деревянные скамьи. Красные полотнища и плакаты заботливо развешаны по стенам.
На скамье около белой двери с надписью «Секретарь партийного комитета» уже не толкутся, как прежде. Посетители сидят спокойно. Мужеподобная стриженая женщина в шапке, не переставая, курит и все перекладывает какие-то бумаги на столе. Она вздрагивает каждый раз, когда Ищенко за дверью стучит кулаком по столу и кричит на кого-то: «Чинуша!.. Безобразие!»
Однако мне странно, что Ищенко кричит. Еще недавно дядя Менаше, который переплетает для него книги, говорил, что сейчас трудно встретить такого вежливого, обходительного человека, как Ищенко. Все местечко любит его, потому что он справедливый и добрый, и что бы с кем ни случилось, все бегут к нему.
Внезапно раскрывается дверь, и из нее начинает высовываться человек, на которого, по-видимому, Ищенко только что кричал. Сначала показывается согнутая спина, потом высовываются заросшая шея и плешивая голова, которая не перестает кланяться. Человек наступает мне на ногу, оборачивается и говорит «извините». Я узнаю начальника почты. Он прижимает к груди синюю фуражку с черным бархатным околышем и с молоточками. Весь красный от смущения, он наконец выбегает из парткома.
Я тут же врываюсь в кабинет. Мужеподобная женщина пытается меня задержать, она кричит, что там еще сидят люди и входить нельзя. Но я не обращаю на нее внимания.
Ищенко мрачен, он даже не оборачивается, когда я появляюсь. У него действительно кто-то сидит. Оказывается, это Каминер. Они говорят о каких-то кожевенных заводах, о земле, о стульях, а в общем разговор идет о том, как устроить на работу наших бедняков, которым жить не на что. Облокотившись о стол, поминутно ероша свои волосы цвета кукурузной метелки, Ищенко подсчитывает:
– На заготовительный пункт – три семьи, на деревообделочный – двадцать, на вокзал – две. Итого двадцать пять.
– А может быть, нам пока не закрывать кожевенных заводиков? – говорит Бечек. – Около тридцати кожевенников останутся без работы. – Впервые вижу, чтобы Бечек был так расстроен. Множество морщинок появляется вокруг его черных сощуренных глаз. – Только на время!.. Я думаю, может, немного подождать…
– Тебе не председателем быть, а в богадельне…
– В богадельне!.. – радостно вскрикивает Бечек. – В бывшей богадельне, товарищ Ищенко, есть семь десятин земли!..
– А ради извозчиков, – не слушает его Ищенко, – проси, чтобы закрыли вокзал; ради лавочников – кооперацию…
– А в кооперации, – воодушевляется Бечек, – можно устроить две семьи.
– Значит, у нас уже двадцать семь.
– А как насчет земли, что в богадельне?
– Замечательно! – говорит Ищенко. Он поднимает к Бечеку свое широкое открытое лицо, и его синие глаза опять глядят дружелюбно. – Стало быть, мы имеем работу для тридцати семей.

Поднявшись, Ищенко повторяет, что нужно в первую очередь взяться за фабрику, но не успевает кончить, как замечает меня.
– Ко мне? – удивляется он.
– Да. Вы меня звали.
Бечек оборачивается. Только что, когда разговор шел о стульях, он был весел, а увидев меня, вдруг мрачнеет почему-то. Ему, видно, неприятно, что я слышал, как его бранили.
– Я звал? – переспрашивает Ищенко.
– Да… Товарищ Ходоркова сказала… Товарищ Каминер… – показываю я на Бечека.
– Вы его вызывали, товарищ Ищенко, – подтверждает Бечек. – Это Ошер.
– A-а? Так это ты Ошер? – весело вскрикивает Ищенко. – Что же ты молчишь?
У Бечека становятся большие глаза.
– Герой! – кричит Ищенко. – Герой! – и предлагает сесть.
Смущенный, сажусь и точно падаю в колодец. Какой-то странный стул – низкий, широкий, мягкий. Я в нем утонул и вижу только лоб Ищенко и его русые волосы. Под столом замечаю еще полосатые брюки и ноги в желтых сандалиях.
– Где ты там? – спрашивает Ищенко, перегибаясь через стол. – Отчего я тебя раньше не знал?
– А я вас знаю, – задираю я к нему голову.
– А если знаешь, – говорит он полуобиженно, – почему не приходил? Это ты мосты взрываешь?
– Какие мосты? – вздрагиваю я и еще глубже опускаюсь в кресло. Я чувствую, что покраснел до самых ушей. Удрать, поскорее удрать! Откуда он знает, что мы с Рахилью были под мостом? – Шел дождь… – бормочу я и опускаю глаза. – Гром гремел… Она спустилась со мною под мост…
– Кто – она? Разве с тобой была девочка? – Ищенко пытается посмотреть мне в лицо, но я отворачиваюсь.
– Да. Рахиль… Была гроза…
– Какая Рахиль? – Ищенко пожимает плечами и выпячивает губу. – Что такое он говорит?
Бечек наклоняется к Ищенко и шепчет ему на ухо:
– Он расстроен. У него дедушка умер. – Затем, видимо, желая успокоить меня, он ласково спрашивает: – Ты с кладбища, Ошер?
– С похорон. – Я ухватываюсь за смерть дедушки, как утопающий за соломинку. – И на могиле Велвела… и у Ары был.
– Ага! – Бечек расстегивает пиджак, и я замечаю под растрепанной подкладкой в боковом кармане браунинг. – Был на могиле Велвела?
Ищенко подходит ближе и, положив мне руку на плечо, говорит, что дедушка у меня уже старенький и довольно мне тужить. Затем рассказывает, что в городе на партконференции он встретился со своим приятелем из Василькова.
– Он тебе, Ошер, передал привет. Его зовут Магид.
– Магид? – вскрикиваю я. – Магид!.. – И вся печаль, все смущение мое мгновенно исчезают.
– Да, Магид. Он мне рассказал, как вы взорвали железнодорожный мост.
– Ты? Ты взорвал мост? – восклицает ошеломленный Каминер.
– Мост… – повторяю я за Бечеком, хотя все еще не понимаю, чего от меня хотят. Наконец, спохватившись, говорю: – Это Магид. Я только вертел катушку – и мост взорвался.
– Да, я знаю, – говорит Ищенко. – Ты ведь тогда маленький был. Сколько тебе было?
– Десять лет! – кричу я. – И немцы взлетели. Кругом рвалось. И мы обнялись с Магидом.
Я уже не могу остановиться. Не переводя дыхания я кричу, что люблю Магида, что хочу быть таким, как он, таким, как Ходорков, как мой брат Ара.
– Конечно. А может быть, и больше Магида! – говорит Ищенко.
Я пододвигаюсь ближе к нему и говорю:
– Вот только кончу школу – тоже стану таким, как они. А если не будет войны, я буду работать. Мне очень хочется стать рабочим. Скорей бы уж кончить школу!
– Значит, ты хочешь стать рабочим? – переспрашивает Ищенко, поглядывая на меня.
– Очень!
– А сколько тебе лет?
– Четырнадцать! – говорю я и не гляжу Ищенко в глаза, потому что мне только немногим больше тринадцати.
– А если тебе сейчас дадут работу, пойдешь?
– Конечно! Сию минуту!
– Слушай, Каминер, – улыбаясь, говорит он Бечеку, – из этой старой калоши, кажется, ничего не выйдет. Может быть… Как ты думаешь? Эти парни могут горы свернуть.
Не знаю, о чем Ищенко спрашивает у Бечека, но чувствую, что это имеет какое-то отношение ко мне, и не спускаю глаз с Бечека.
Бечек мнется, поглядывает на Ищенко. У меня начинает сильно колотиться сердце.
Каминер говорит, что у моего отца работа есть. Но все же это было бы полезно.
– Слышишь? – обращается ко мне Ищенко.
– Слышу.
– Но работа эта важная! – говорит Ищенко и грозит мне пальцем.
– Важная, – повторяю я за ним, и у меня захватывает дыхание.
– Пошлем тебя на почту, распространять газеты.
– Газеты… – восклицаю я, и мне уже не сидится на месте.
Я выхожу вместе с Бечеком. Он берет меня под руку. Уже выйдя на лестницу, я вспоминаю, что не попрощался. Вырываюсь и мчусь обратно. Распахнув изо всей силы дверь кабинета так, что мужеподобная женщина отскакивает в сторону, я кричу на весь партком:
– До свиданья, товарищ Ищенко!
– Что? – не понимает он.
– До свиданья! – повторяю я снова и удираю.
Потом я догоняю Бечека, и он заявляет:
– Я всегда говорил, что из тебя выйдет толк.
Бечек принимается мне что-то говорить про стулья, но я ничего не понимаю. Мне хочется говорить, кричать, беситься, но я сдерживаю себя: не хочу, чтобы Бечек посчитал меня мальчишкой. Я совсем забыл, что умер дедушка и мне нельзя веселиться. Отец с матерью уже отсиживают траурную седьмицу.
Прощаюсь с Бечеком, говорю ему, что мне надо домой. Но в дом я не захожу, хоть и очень голоден. Беру у лавочника в долг медовых пряников – всяких лошадок, птичек, кошечек – и потихоньку, чтобы не скрипнула дверь, вхожу в наш сарай, оттуда забираюсь на чердак и там принимаюсь на соломе прыгать как бешеный. Но чердак у нас выложен досками редко, и я чуть не вывихнул себе ногу.
Напрыгавшись, я валюсь на солому; пожевывая пряники, гляжу на пыльные лучи, пробирающиеся сквозь дырявую кровлю, и хохочу, хохочу так, что в конце концов пряник застревает у меня в глотке.
РАБОТА
Прошло целых три дня, пока я получил в профсоюзе направление на работу в почтовой конторе.
Красный каменный домик почты стоит в самом конце базарной площади. Толстая телеграфная проволока на высоких, стройных столбах, шагающих откуда-то издалека, здесь обрывается. Хоть я уже взрослый, все ж могу часами стоять, приложив ухо к телеграфному столбу, и слушать, как гудят провода, идущие к нам из большого, далекого и незнакомого мира.
На почту я всегда вхожу на цыпочках. Я могу здесь простоять бог знает сколько и смотреть сквозь проволочную сетку, как начальник почты Дударев штемпелюет письма, поднимает и опускает ручку сверкающего телеграфного аппарата, и как этот аппарат, постукивая, чертит точки и тире на узенькой бумажной ленте.
С еще большим трепетом, чем обычно, подошел я к открытому окошечку сегодня. Посмотрев вокруг себя и набравшись смелости, я сказал, подавая направление из профсоюза:
– Товарищ начальник.
– Сейчас.
Дударев лениво взял бумажку и, нацепив очки на мясистый нос с бородавкой, принялся разглядывать меня. Сквозь очки его глаза кажутся мне огромными. Потом, опустив голову и наморщив лоб, он стал читать. На шее, у жесткого белого воротничка, собралась уйма складок, щеки обвисли, как у старого мопса, и это придало начальнику почты значительный вид.
– Просим! – сказал он вдруг, поднялся и, разгладив густые усы, плотно прикрывающие рот, распахнул дверку в проволочной перегородке. – От Ищенко?
– От Ищенко.
– Пожалуйста! – Он поклонился и представился: – Дударев Вадим Николаевич. – При этом он подал мне руку и, улыбаясь, повел к себе.
Я немного смутился. Мне непонятно, зачем он назвал свою фамилию, имя и отчество.
– Я знаю вас, – ответил я и тоже поклонился, однако глаза опустил, так как посетители за перегородкой принялись глазеть на нас.
– А вас как зовут?
Впервые меня называют на «вы».
– Ваше имя? – настаивает Дударев.
– Ошер.
– А отчество?
– Элевич.
– Ошер Ильич, значит! – И он усаживает меня.
Но сижу я как на иголках.
– Меня зовут Ошер, – повторяю я.
– Очень рад, Ошер Ильич. – И он заявляет, что ему очень приятно работать с нынешней молодежью.
– Очень… – говорю и я. – Мне тоже приятно работать с молодежью.
– Как, как? – не понял он.
Хорошо, что кто-то постучал в окошечко. Начальник крикнул посетителю «сейчас», а мне сказал «извините», хотя ничего худого мне не сделал. Но к окошечку он так и не подошел, а стал подавать мне квитанционные книжки, ценники на газеты и плакаты.
Шаркая ногами, кланяясь и качая головой, я поспешил сказать ему «до свиданья», так как за перегородкой уже стали ворчать. Кто-то даже крикнул, что совершенно недопустимо, чтобы из-за меня всем приходилось столько ждать.
Покинув почту, я снова почувствовал себя отлично. Я уселся на крылечке, уложил плакаты и квитанции, затем, сунув все это под мышку, не спеша, ровным шагом, как Дударев, когда он по воскресеньям возвращается из церкви, двинулся в самую гущу базара.
Когда я чувствую себя хорошо, мне всегда хочется смеяться. Поэтому я и теперь улыбался каждому встречному, держа, конечно, свои бумаги у всех на виду.
Прежде всего я заглянул в аптеку. Она как раз напротив милиции. Я очень люблю аптеку. Было время – я мог часами простаивать на улице и разглядывать красные, желтые, зеленые стекла крашеной веранды, блестящий никелированный замок, синюю стеклянную ручку и звонок на двери.
Аптека мне хорошо знакома. Мать частенько посылала меня сюда. Я не однажды бывал в этом красивом помещении, заставленном полированными шкафами, где полно фарфоровых и стеклянных банок, бутылочек, чашек. Не раз дожидался я здесь изготовления лекарств по рецепту. Даже теперь у меня вызывают грусть хорошо знакомые запахи йода, хлороформа, всяких мазей; они напоминают мне о раненых красноармейцах, о тифе, инфлюэнции, «испанке».
Но лучше всего я знаю сад аптекаря. С закрытыми глазами укажу я, где растет у них «боровинка», где «цыганка» или «ранет», где «бэра» или «лека».
Из-за «лек» жена аптекаря однажды отстегала меня крапивой. Очень уж хороши эти груши! Скверно только, что растут они высоко и можно свернуть себе шею, пока до них доберешься.
Аптекарь накричал тогда на жену. Он взял меня на руки, внес в аптеку и дал мне несколько «боровинок». С тех пор я к нему частенько забегаю, но он все забывает мое имя и каждый раз спрашивает, как меня зовут. Все же он мне нравится. А Голда даже говорит, что лицом он немного смахивает на Карла Маркса.
Все-таки наш аптекарь какой-то чудаковатый: всегда в глубоких калошах, в каком-то женском одеянии без рукавов и без застежек. На собрание он может заявиться в шляпе под зонтиком. Однако именно благодаря ему все местечко знает писателя Короленко, даже моя мама, которая вообще ничего не читает, кроме «Пятикнижия для женщин». Аптекарь любит рассказывать всем, как он учился вместе с Короленко в гимназии.

Так как аптекарь уже старик, я не могу назвать его «товарищ Грузенберг», поэтому, заявляясь к нему, говорю:
– Здравствуйте, Грузенберг!
– Прошу! – Он подходит к красной полированной перегородке. – Что вы хотели? – спрашивает он по-немецки и покорно наклоняет свою большую голову с густой гривой волос, зачесанных назад. Его круглая белая борода на мгновенье щекочет мне лицо. Он надевает пенсне, которое болтается у него на черном шнурке.
– Газеты! – говорю я и показываю на квитанционную книжку. – Не подпишетесь ли на газету?
– О-о, пожалуйста!
Он приглашает меня к себе за перегородку, затем раскрывает зеркальную дверь, ведущую в квартиру, и быстро-быстро семенит впереди меня в своих шлепанцах. У него какие-то коротышки вместо ног. Штаны волочатся по полу и вот-вот свалятся.
Я спешу за ним на цыпочках и в кабинете у него присаживаюсь на краешек стула.
– Ох! – вырывается у меня крик удивления при виде больших книжных шкафов и фотографий на стенах. На фотографиях – люди с большими светлыми лбами и белыми бородами. У одного борода покороче и не седая, а глаза тихие, добрые.
– Это Короленко? – спрашиваю я.
– Вы читали Короленко? – откликается аптекарь и откладывает в сторону какой-то рецепт.
– «Слепой музыкант»…
– «Слепого музыканта» читали? – Он выхватывает носовой платочек. – Чей же вы?
– Сын Эли, что работает на мельнице.
– Ах, Эли с мельницы! Как это замечательно! Как трогательно! – говорит он и прикладывает платочек к глазам.
– А это Толстой! – показываю я на другую фотографию. Толстого я всегда узнаю по бороде.
– И Толстого тоже читали? – чуть ли не подпрыгивает он. – Татьяна! – Он толкает дверь в комнату, где висит лампа под абажуром. – Татья-я-на!
Никто, однако, не отзывается.
– Ох-ох-ох, незабвенный Владимир Галактионович! – вздыхает он, и крупные слезы катятся у него по бороде. – Незабвенный! – Он прижимает платок к глазам. – Как мы жаждали с Владимиром Галактионовичем увидеть вот такую молодежь! – Он прикладывает руку к сердцу, и голос у него дрожит. – Незабвенный! – Он выхватывает письмо из ящика. – Последнее его письмо из Полтавы… – И аптекарь обливается слезами.
Не пойму, отчего он плачет, и еле сдерживаюсь, чтобы не разреветься за компанию.
– А Чарлза Дарвина вы тоже знаете? – показывает он мне на старичка с бородой.
Этого я не знаю. Я думал, что это тоже Толстой.
– Гениальный Дарвин! А это Геккель. Эрнст Геккель. Его всемирно известная «Антропогения»…
Он подходит к шкафам. Но они заперты. Тогда он хватается за голову, ерошит волосы и кричит:
– Татьяна! Боже мой! Где ключи?
Но ключи, оказывается, торчат в шкафах. Дрожащими руками открывает он дверцы.
– Бокль, Генри Томас. – Он начинает вытаскивать книги и класть их предо мной на стол. – Великолепная «История цивилизации»… Спенсер. Читайте, читайте! – Он заваливает меня книгами. – Замечательная Жорж Санд… Ключевский… – Глаза его горят. Он возбужден, взволнован. – Неистовый Виссарион… Одухотворенный Михайловский… – Он подает мне книгу с пуд весом.
– Наум Григорьевич! – кричит жена, и у входной двери в аптеку дребезжит звонок.
– О боже! – вздрагивает он. – Белинский! Читайте Белинского!
Я уже еле могу держать эту кучу книг.
– Извините!
Волоча свои шлепанцы, он убегает в аптеку.
Когда я вхожу вслед за ним туда, он стоит у конторки рядом с женой и принимает рецепт у какой-то крестьянки.
– Татьяна, они читают Спенсера… Как мы ждали, когда наступит такое время!.. Одухотворенное юношество!..
Жена аптекаря тоже утирает глаза. Аптекарь успокаивает ее и подписывается на «Известия». А меня он умоляет:
– Читайте! Просвещайтесь! – Затем, пожимая мне руку, снова восклицает: – Как трогательна эта молодежь!
В замешательстве я даже забыл выдать ему квитанцию. Выхожу на улицу. Иду медленно-медленно, чтобы не потерять какую-нибудь книгу.
Тихо, чтобы мама не услышала, я просовываю книги через окно, затем, счастливый, шагаю по базару между рядами лавчонок и рундуков.
Говорю «здравствуйте» отцу Сролика – Вениамину, который, встречая у дороги приезжих, так просто, по привычке щупает привезенное в возах и спрашивает: «Почем?» Он уже прикрыл лавочку. Пожевывая соломинку и вздыхая, он говорит, что газеты ему не по карману, и все же подписывается на «Эмес» [4]4
«Эмес» – еврейская советская газета, выходившая в Москве после революции.
[Закрыть].
Он смотрит, как я выписываю квитанцию, и на лице его появляется плаксивая гримаса:
– Ошер, ничего не слышно?
– А что должно быть слышно? – Я поднимаю глаза и вижу вокруг себя целую ораву лавочников.
– Что-нибудь новое… Я подразумеваю, – говорит Вениамин, – войдут ли в положение? Поговаривают, что землю будут давать?..
– Люди что-то болтают насчет фабрики? – говорит кто-то из обступивших меня.
Я ощущаю себя вдруг важной персоной, потому что впервые со мною так разговаривают старшие.
– Будут изготовлять стулья… – говорю я. – И всем дадут работу.
– А землю?
– Конечно, и землю! – кричу я, хотя ничего об этом не знаю.
– Это что же, в газетах написано?
– В газетах, – отвечаю я. – Выписывайте, и у вас откроются глаза! – Я размахиваю квитанционной книжкой. – Семьдесят пять копеек – «Эмес», пятьдесят – «Знамя коммуны»!
Но я не пойму, что случилось? Как только я заговорил о подписной плате, все сразу разбежались.
Уйду уж лучше отсюда. Не стоит иметь дело с лавочниками.
У председателя Совета Каминера сидит хозяин кожевенного завода Меер Калун. Терпеть его не могу. Это один из самых разжиревших богатеев.
Бечек сидит, опершись о стол, точно как Ищенко, когда я у него был в кабинете. Окно завешено от солнца газетой. От этого лицо председателя Совета темней и кажется еще более нахмуренным. Бечек подпер голову руками, и фуражка у него, как обычно, надвинута до самых глаз. Он так поглядывает из-под козырька на Калуна, что тот робеет и говорит еле слышно:
– Честное слово, товарищ председатель! – и пощипывает короткую круглую седеющую бородку.
Он клянется, что ему не жалко завода: пожалуйста, пусть люди выделывают там стулья и пусть зарабатывают себе на жизнь. И даже налог его не трогает. Пожалуйста! Он хотел бы только знать, почему с него требуют больше, чем с других: чем, например, с Рабиновича или с Троковичера, которые сейчас загребают золото прямо-таки лопатами.
Каминер морщится, и по его остановившимся глазам я вижу, что он сейчас очень сердит.
– Эх, Меерка! – говорит он тихо. – Если бы я не был председателем… – Каминер начинает потирать руки, его худое лицо становится мрачным, глаза злыми. – …Если б я не был председателем, я б тебе, по крайней мере, плюнул в лицо… Ремесленники подыхают с голоду, а вы все жиреете и жиреете.
Калун от изумления раскрывает рот и быстро исчезает.
– Ну, Ошер, а у тебя как дела? – спрашивает после этого Бечек.
– Ничего, – говорю я, уставясь в пол.
– Ничего? – Он поднимает голову. – Узнаю это по твоей мордашке.
– Нет, – говорю я, – это ничего… Я был…
– Хоть немного подписались?
– Подписались. Но мало.
– А на мельнице ты был?
– Нет еще.
– То есть как это – нет еще? Вероятно, ты ищешь подписчиков среди буржуев… Рабочие, рабочие – вот кто самый главный читатель и подписчик!
Дважды мне повторять не приходится, я уже мчусь на мельницу.
Не спеша спускаюсь с горы. Позади меня остаются бойня и наш Совет. В сонной полуденной тиши слышно, как на реке бьют вальком по белью: красный ситцевый платочек прачки поднимется и опустится среди кустов; нырнут головами в воду гуси, и тогда белые пятна мелькнут среди желтых кувшинок и сероватых верб.
Вот уже начинаются закоулки ремесленников. Обычно здесь гром кузнечных молотов, стук бондарни, стрекотанье швейной машинки, шорохи и шумы столярной мастерской смешиваются с блеяньем козы, взвизгиванием ребенка и песней швеи. Но сейчас здесь тихо: у ремесленников нет работы.
По качающимся мосткам перехожу реку и крестьянской слободой поднимаюсь к мельнице. Густые сады с двух сторон сливаются надо мной сплошным сводом. Из-за разросшейся вишни и калины чуть выглядывают белые мазанки. А там вдали встает трехэтажное здание мельницы.
Гул мельницы всегда приводил меня в трепет. Когда мать посылала меня с едой к отцу, это было для меня самым большим праздником. Взбудораженный, сгорая от любопытства, поднимался я наверх и долго разглядывал там приводные ремни, вращающие вальцы, лампочки, горящие без фитиля и керосина.
Поэтому-то я так завидовал всегда Зяме, который учится здесь на машиниста. Но теперь и я работаю.
– Зяма!
Я вбегаю к нему в машинное отделение и хвастаю тем, что Ищенко дал мне работу; что у нас на почте тоже есть машина, только маленькая, телеграфная, и она тоже стучит.
Зяма стоит предо мной в мучной пыли, с засученными до локтя рукавами, и фуражка у него козырьком на затылке. Он стал почти взрослым.
– Руку!
Он приветствует меня и сжимает мне пальцы изо всех сил, но я не поддаюсь. Я тоже не из слабеньких.
– Подпишись на газету! – Я стараюсь перекричать стук двух газогенераторов, шум динамо и низкий басовый гуд двигателя.
– Подожди, Ошер! – Схватив жестяной чайник с длинным узким носиком, он принимается лить масло в машину, а потом обтирает это место тряпкой.
Вокруг чисто, красиво. Пол выстлан четырехугольными цветными плитками.
– Давай! – Он обтирает руки о штаны, затем локтем проводит по лицу, блестящему от пота. Весело сверкают зубы необычайной белизны.
– Давай мне «Молодняк»! – Зяма вынимает кошелек и небрежно дает мне рубль, как будто это для него пустяк.
Закурив папироску, он пускает кольцами дым. Затем мы оба решаем прихватить Булю и сегодня же вечером отправиться в пивную, выпить по кружке пива.
Но Зяме нельзя со мной долго болтать: ему нужно следить за машиной. Да и я занят.
Перепрыгивая через несколько ступенек сразу, взбегаю на широкое крыльцо мельницы, потом пробираюсь мимо крестьян, которые, стараясь перекричать друг друга, снуют вверх и вниз, неся мешки с зерном, мукой или отрубями.
Все здесь бело. Мука запорошила даже огромные мельничные окна. Поэтому здесь постоянно горит электричество. Точно большие виноградины, висят сияющие лампочки под запыленным и затканным паутиной потолком. Они раскачиваются и дрожат от стремительного бега валов и многочисленных приводных ремней.
– Газеты! – ору я на всю мельницу. – Товарищ Полевой! – обращаюсь я к Мейлаху, высокому, худому председателю союза «Пищевкус». – Ищенко и Каминер наказали, чтобы вы подписались на газеты.
– Как?
– Каминер велел, чтобы все рабочие подписались на газету!
– Чего ты кричишь? – отвечает он сердито и останавливает свои вальцы. – На свою бабушку кричи! Я и без твоего Бечека знаю, что мне делать.
Он страшно не любит, когда его учат. Ведь Мейлах и сам как-никак председатель.
– Пойдем! – Он направляется со мной к столику приемщика, который стоит у самого входа, и берет лист бумаги. – На!
– Какую газету?
– «Труд»… Пиши: Шефтель Нефтик.
Но приемщик Нефтик заявляет, что он плохо видит.
– Купишь очки! – осаживает его Мейлах. – Дай ему газету с крупным шрифтом.
– «Знамя коммуны»?
– Замечательно!
– Афанасенко Василь! – кричит Мейлах.
– Что такое? – подбегает Василь.
– Дай ему дешевую газету с большими буквами!
– «Незаможник»?
– «Рабочую газету»! – кричит Василь.
– Дай «Рабочую газету»! – повторяет Мейлах.
Подбегают еще рабочие.
«Генох Шрайбман… Дорфман… Зозуля…» – беспрерывно записываю я.
– Пулькес Эля! Эля, сынок твой пришел!
– Сейчас, – отвечает отец, который подтаскивает мешок к вальцам. Он поворачивает к нам свою длинную бороду. Лицо у него около глаз налилось кровью, вены на лбу вздулись, мышцы на оголенных руках напряжены.
– В чем дело? – спрашивает он.
– Подпишись на газету у сына!
– Возьми «Эмес»! – кричу я отцу.
– Пусть будет «Эмес».
Подходят еще рабочие. Залман Козан, который уже очень стар, удивленно почмокивая губами, допытывается у отца, сколько мне лет.
Залман Козан… Цодек Каменштейн… Филипп Боровчук… Давид Бершадский… Владислав Прошма…
Едва я кончаю запись, Мейлах сразу же предлагает мне идти в контору.
Уже спускаясь вниз, я оборачиваюсь к отцу и вижу, как он стоит, одинокий, у шумящих вальцов. Он даже не замечает, что мука из желобка сыплется на землю, а отруби переполнили мешок. Он стоит весь белый, длинный передник с лямками на плечах делает его выше и каким-то необычным. Над ним мелькают ремни трансмиссии. В солнечном луче, проникшем сквозь обрешеченное окно, плывут вокруг него тысячи тысяч пылинок. Электрическая лампочка накрыла его красноватым световым колпаком. Тень от отца, длинная, изломанная, легла на стену и на кусок потолка.
Отец не шевелится. Правой рукой он свивает бороду и тихонько пожевывает ее. Его глубоко впавшие глаза глядят на меня задумчиво и счастливо. От удивления я даже хватаюсь за перила.
– Папа! Мука сыплется! – показываю я на вальцы.
Он вздрагивает от моего крика, почему-то смущается и быстро уходит за новым мешком зерна.
В конторе меня встречает Мейлах и сообщает, что договорился о том, чтобы мне сейчас же уплатили за подписку. И действительно, толстый, страдающий астмой бухгалтер Трахтенберг, поминутно вытирая свою большую лысину, тотчас отсчитывает причитающиеся мне деньги.
Нохем Лейтес, бывший хозяин, а теперь арендатор мельницы, стоит посреди конторы ошеломленный. На нем длинный помятый сюртук, на ногах какие-то ошметки и порванные носки. Длинная разделенная надвое борода лежит на расстегнутой грязноватой рубашке. Впрочем, не только он один, все наши буржуи одеваются теперь оборванцами и не перестают стонать и жаловаться.
Лейтес кричит, что аренда приносит ему одни убытки.
– Пусть бы у профсоюза так болел живот, как он болит у меня из-за этой мельницы! – постоянно причитает он.
– Нохем Лейтес, выпишите газету?
– А деньги? Где мне взять деньги? – Он протягивает ко мне руки, и кажется, вот-вот заплачет. – Ведь ты уже взрослый, Ошер! Так пойми же: ученики (он имеет в виду Зяму и других) пьют из меня кровь! А налоги? – Он начинает загибать на руке пальцы: – Налог на культуру – это раз; подоходный – это два; просто так налог – это три; соцстрах – четыре; аренда – пять; каждый раз какой-нибудь штраф – это шесть; листок – это тебе семь; ремонт и еще всякое другое – это восемь. А самому ведь тоже надо кушать! – вскрикивает он и начинает кашлять. – А теперь еще новый налог – газеты.
– Кто вас принуждает? – кричит на него бухгалтер. – Не мешайте мне работать!
– Боже мой, с ума можно сойти! – Лейтес падает на табуретку и, срывает с себя шапку. – Живьем поедают! Что творится на белом свете?!
Но я его и слушать не хочу. Выхожу из конторы и узкой тропкой направляюсь прямо к Голде. Иду полем, потому что так ближе.
До жатвы еще далеко, и в поле никого нет. Только жаворонок висит, как на веревочке, над хлебами да обычно пугливые трясогузки безбоязненно летают теперь вокруг меня, гоняясь за мошками.
Иногда в стороне, утонув в хлебах, мелькнет соломенная крыша деревенской хаты или журавель над колодцем. Жаль, что здесь не видно домика еврейского крестьянина.
Ложусь в самой гуще пшеницы. Вокруг меня покачиваются и тихо шуршат колосья; надо мной проплывают облака, похожие на куски ваты. Божья коровка садится мне на лицо, щекочет меня своими шестью лапками, но я ее не сгоняю.
В школе сейчас каникулы, поэтому здесь никого нет. Но у калитки во двор я встречаю глухую Матильду. На плече у нее чемодан Голды.
Странно! У меня сердце падает.
Дверь в комнату Голды полуоткрыта, мне не приходится даже стучать. Однако Голда встречает меня неприветливо. Она сидит посреди комнаты на связке книг, возле нее – раскрытый чемодан. При моем приходе она его сразу захлопывает.
– Голда, – спрашиваю я, – вы уезжаете?
– Чего тебе нужно? – говорит она недовольно, затем, ухватившись руками за стол, пересаживается на стул.
– Я был у Ищенко. Он передал мне привет от Магида.
– Знаю, – отвечает она сухо.
– И поручил мне распространять газеты.
– Газеты? – Тут она улыбается и становится немного приветливей.
– Я пришел предложить вам газету.
– Хорошо, Ошер.
Она берет у меня список газет и отмечает нужные ей карандашом. Потом она пишет записку и говорит, что в отделе просвещения мне по ней заплатят.
Я встаю и собираюсь уходить. Она задерживает меня:
– Подожди-ка!
Проведя рукой по моему лбу, она долго глядит мне в глаза, но так ничего и не говорит.
В последнее время Голда стала какой-то грустной, раздражительной, побледнела, глаза углубились.








