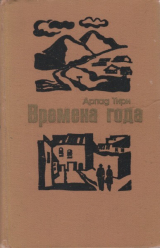
Текст книги "Времена года"
Автор книги: Арпад Тири
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)
Тихо и загадочно шуршит прошлогодняя листва.
Старик, нажав ногой на заступ, поддевает на лопату ком земли, бросает его и вдруг улавливает какой-то подозрительный звук. Он вздрагивает, затем осторожно поворачивается на шум.
Петер Киш останавливается у дерева и сверху вниз смотрит на Балинта Кашу.
Старик подается корпусом назад, выставляя вперед лопату. На лбу у него выступает пот, толстые жирные морщины на лице чуть заметно дрожат, и весь он становится хрупким и серым, как брошенная на песок пустая бутылка. Страх старит его еще больше. Из-под шапки на ухо сползла прядь седых волос, из открытого рта торчат редкие желтые зубы.
Позади старика длинный весь в наклейках ящик. Он осторожно пятится к нему, не спуская ни на секунду взгляда с Петера, изучая его долгим подозрительным взглядом.
Проходит минута. Две минуты.
Старик все еще не узнает солдата.
«Дезертир», – дрожа от страха, думает старик и с силой сжимает лопату в руках.
Глаза у него как штыки. Такой может убить. Дезертир способен на все. В руках держит блестящую коричневую банку... Грабитель? Хочет отнять ящик? Нет, он не отдаст его... Убьет лопатой, но не отдаст. Нужно ударить его, ведь у солдата нет винтовки... Правда, в кармане у него может оказаться пистолет, а эта коричневая банка, может быть, настоящая ручная граната?
Балинт в состоянии нервного потрясения. Пот заливает ему глаза, щиплет кожу, но он не шевелится, чувствуя, что одно неосторожное движение может стоить ему жизни.
Почти как на войне.
Петер чувствует, что старик боится его. Он видит, как подрагивает заступ у него в руках, и тут же успокаивается, но пока с места не двигается.
– Добрый день, господин Каша! – холодно здоровается Петер, недоверчиво глядя на старика.
Тесть лавочника вздрагивает, удивленно открывает и закрывает рот. Любопытным взглядом сверлит угловатую фигуру небритого солдата, но все еще не узнает его. Он силится что-то припомнить, но нет, не может.
Петер Киш подходит ближе.
– Не узнаете? Забыли Петера Киша? Ну? Мужа Вероники Патко...
Старик в упор смотрит на солдата. Взгляд его внимательно шарит по лицу земляка, восстанавливая по отдельным чертам знакомое лицо.
Однажды он видел Петера в корчме, когда тот дрался с односельчанами. Тогда он смотрел точно таким же холодным беспощадным взглядом на своего противника. Как-то Каша заходил к Кишу сказать, чтобы Вероника приходила на поденщину. Тогда он стоял у калитки: такой же печальный, опустив плечи, а однажды сам зашел в лавку зятя попросить дать товар в кредит, и голос у него был таким же холодным и безнадежным, как сейчас.
Да, это, конечно, он, только похудел немного, да под глазами у него залегли глубокие тени.
Старик с облегчением вздыхает.
– Так это ты?.. Не сразу я тебя узнал... – обрадованно бормочет старик, втыкая заступ в землю, и садится.
Петер подходит ближе. Банку консервов он положил обратно в вещмешок и, кивнув в сторону полуоткрытой ямы, спрашивает:
– Что, клад ищешь?
Старик снизу вверх глядит на него, долго не отвечает. Он подозрительно рассматривает солдата, словно все еще не верит своим глазам, потом усмехается и хлопает ладонью по ящику.
– Поможешь?.. Хочу закопать этот ящик.
– Закопать?
– Да.
Петер, прислонившись к дереву, с удивлением смотрит на старика – уж не шутит ли он с ним.
– А что в ящике-то?
Старик некоторое время молчит, словно размышляет.
– Одежда, – отвечает он наконец. – Барахлишко.
– Одежда?
– Да.
Солдат подходит ближе. Остановившись перед Балинтом, показывает на ящик и спрашивает:
– Присесть можно?
Старик неохотно кивает и подвигает руку к лопате: а вдруг все же придется защищаться?
Петер смотрит на тестя лавочника долгим безжалостным взглядом, потом пересаживается на другой край ящика, трогает толстые доски рукой и удовлетворенно кивает головой.
– Крепкий ящик... Из лавки?
– Да.
– Значит, говоришь, барахлишко тут?
– Ну да.
Снова долгое недоверчивое молчание.
– Тяжелый? – осторожно спрашивает Петер Киш.
Балинт кладет ладонь на ручку лопаты и угрюмо смотрит на Киша.
– Вдвоем справимся.
– На чем привезли-то?
Старик показывает рукой в сторону кустарника.
– Тачка там у меня... чуть было не надорвался.
Солдат опять рассматривает и ощупывает ящик.
– Да, тяжелехонек... Что же зятя на помощь не позвали?
Старик враждебно моргает глазами.
– У него и без того хватает дела. Вечером немцы ушли из деревни, теперь они у Диселя. Окопали пушки и ждут, когда русские перевалят через гору. Плохо нам здесь придется...
Петер роется в вещмешке. Достает две отсыревшие помятые сигареты. Одну протягивает старику, тот взглядом благодарит его.
Оба молча курят.
Балинт Каша все еще обеспокоен.
Он знает семью Петера Киша. Знал его отца, пока тот не переехал в Халап. Жену Петера он каждый день видел на улице или в лавке, но этот человек пришел сейчас издалека. Год назад он уехал отсюда на фронт, и, кто знает, каким стал за это время? О дезертирах чего только не рассказывают.
Петер ждет, что скажет Каша. Сам ничего не спрашивает. Кто знает, каким стал за это время Балинт Каша? Возьмет да и выдаст его жандармам или гитлеровцам. Надо набраться терпения и спокойно ждать, хотя каждая минута кажется ему часом. Заговорит же наконец старик. Неужели не расскажет, что натворили в селе фашисты, что стало с Вероникой, какой урожай был в прошлом году и кто из друзей Петера погиб на фронте. Нужно только подождать.
Петер смотрит на толстого старика, сжимающего рукой черенок лопаты, и ждет, когда тесть лавочника нарушит молчание. Но старик осторожен, терпелив. Он тоже ждет.
Докурив, старик выплевывает окурок.
– Русские сюда скоро придут, – тихо говорит он, избегая взгляда солдата. – Говорят, они все забирают.
Петер Киш потягивается, закуривает последнюю сигарету, но ничего не отвечает.
Вдруг Каша доверчиво подвигается к солдату:
– Ты видел русских?
– Видел.
– Какие они?
Солдат пожимает плечами и встает. Он понял, что старика интересуют только русские, и тут же возненавидел его. Убил бы сейчас этого толстого человека в зимнем пальто. Упрямый черт! О самом главном – ни слова. Для него сейчас весь мир заключается в этом ящике с барахлом, которое могут отобрать русские.
Солдат смотрит в яму. В сердцах пинает ногой мягкие комки земли, поглядывая на обвалившуюся стенку ямы и неровное круглое дно. «Грубая работа», – думает он и с досады плюет в яму.
Любопытство душит его. Это невозможно вынести. Почему этот старый дурень боится раскрыть рот? Неужели не понимает, что одним лишь словом может осчастливить его? Почему не скажет, что с Вероникой?
Не выдержав, Петер сам обращается к старику:
– Как там, дома?
Каша задумчиво смотрит на него снизу.
– У вас?
– Да, у нас.
Снова долгая пауза.
– Ничего.
Петер Киш отворачивается, смотрит в сторону.
«Ничего». Сказать так безразлично, скаля желтые зубы: «ничего». Целый год он дрожал при одной мысли, что придет день, и он, Петер, бегом пересечет рощу и, не взглянув даже на каменоломню, помчится дальше, а этот болван говорит «ничего».
– А Вероника? – спрашивает Петер, подождав немного, но так и не повернувшись к старику.
И снова долгое томительное молчание.
Старик не отвечает, но Петер знает, что Вероника ждет его дома. Она чувствует, что он идет к ней. Петер знает, что дома все осталось точь-в-точь таким, как в то утро, когда он вместе с Телеки ушел на станцию. Он это знает, но сейчас хочется услышать об этом из чужих уст. Узнать, что дома все по-старому, как было год тому назад, а фронт и смерть со своими черными крыльями всего лишь жестокая шутка судьбы. На его маленьком каменистом участке в два хольда все так же лежит кусок гладкой базальтовой скалы, и стоит ему завтра приподнять его, как из-под него тотчас же выползут жучки и черви – как и год назад.
– А Вероника? – спросил Петер еще тише, смотря в яму.
– Жива, – сухо ответил старик и отвернулся.
Петер Кинг только этого и ждал. Одного этого слова.
С облегчением он поправил полосатую домотканую котомку, весело кивнул старику в черном пальто.
– Я бы помог вам, да очень тороплюсь... Прощайте!
Когда солдат дошел до третьего дерева, Балинт окликнул его:
– Ты, Петер, сбежал из части, что ли?
Солдат остановился. Снова враждебное молчание. Петер оборачивается, в его взгляде светится ненависть.
– Я не сбежал, – говорит он хрипло. – Лейтенант отпустил меня на неделю... Я догоню свой полк... И документ мне дал... Если не верите, могу показать...
Петер знает, что в кармане его френча нет никакого документа, и пальцы снова судорожно сжимают банку с консервами.
Старик со спокойным превосходством смотрит на солдата. Он уже не боится его. Знает, что Петер врет.
– А где твой полк? – ехидно спрашивает он.
Петер не видит довольной улыбки человека в черном пальто.
– Где?.. К Веспрему двигается... Да. К Веспрему.
Балинт не спеша разминает поясницу, потом встает, вытаскивает заступ из земли, и вмиг круглое белое лицо старика растет и он сам становится высоким, сильным и надменным.
– Да... – кивает он. – Говорят, там сейчас тяжелые бои идут. – Ты ведь вместе с Телеки ушел на фронт, да?
Петер вздрагивает и бледнеет. Широко открытыми глазами он смотрит на тестя лавочника, ноги словно приросли к земле. Он открывает рот, говорит что-то, но не слышит собственного голоса:
– Да.
Старик крутит в руках лопату и, задумавшись, смотрит в землю.
– Говорят, что вы и на фронте вместе были. От Телеки уже несколько месяцев нет писем. Бедная жена все глаза выплакала от горя. Ты, случайно, не знаешь, что с ним?.. А?
Петер чувствует, что ноги его не держат. Он даже не знает, сколько времени он стоит так. Может, уже несколько лет? Все вокруг него растеклось, он видит перед собой лишь укоризненный взгляд старика. Вспоминает своего кривоногого соседа, когда тот упал на бруствер окопа, каска съехала ему на лоб, водянистые глаза под лохматыми бровями закрылись.
Помолчав, Петер говорит тихо и мрачно:
– Телеки убит.
В блиндаже сидят шестеро солдат. Все уже немолодые, постаревшие в эти беспокойные кровавые ночи. Каждый из них знает все о других, с первого дня они стали соучастниками одного общего преступления.
Вместе они дергают запальный шнур, вместе рисуют на стволах орудий кольца, обозначающие, что уничтожена новая цель противника. Этому они научились у гитлеровцев. Они знают жен своих товарищей, детей, знают, как одеваются их жены, как они выглядят. Они словно приговоренные к смерти, у которых нет тайн друг от друга.
На рассвете начнется наступление.
В воздухе стоит мертвая тишина, которая бывает только перед боем. Что они могут сейчас еще сказать друг другу? Прочитать вслух последние письма, полученные из дому? Или выйти на августовский ветер и смотреть на далекое пламя пожарищ?
Со стороны Карпат доносится рокот самолетов, льющийся со звездного неба. Земля недовольно вторит ему. Недалеко кто-то играет на гармошке. В блиндаж доносятся усталые звуки песни:
Живем мы только один раз...
Сегеди, бородатый командир отделения, стоит, прислонившись к двери блиндажа, глядя перед собой отсутствующим, лишенным каких-нибудь признаков жизни, взглядом. Рыжая борода всклокочена, лоб испещрен длинными грязными морщинами.
Час за часом глупо и однообразно течет время. Если погибает кто-нибудь из знакомых, командир отделения вечером выходит из блиндажа и долго смотрит на звездное небо, удивляется тому, что сам все еще жив. В эти минуты он забывает, что смерти следует бояться. Он бесстрастно следит за тем, как течет время, ощущает его течение и чему-то улыбается.
Он живет простыми будничными воспоминаниями о недалеком прошлом. О сыне – школьнике, о мастерской жестянщика, расположенной рядом с рыбным павильоном, о грубых шутках торговок или о воскресном футбольном матче.
Он мечтает.
По утрам, на рассвете, когда война устает и затихает на миг, он забывается в беспокойном сне. Он оказывается на зеленом футбольном поле, гонит мяч к воротам противника или утром стоит в крохотной дымной мастерской с паяльником в руках и слушает развесив уши едкие замечания беззубого Гараша и звонкие сплетни торговок.
Кантор, смуглый и молчаливый артиллерист, спит, накрывшись шинелью. Он всегда спит. Остальные глазеют на него и завидуют, думая, как это он умудряется заснуть даже во время обеда между первым и вторым блюдом. В первую неделю после его перевода к артиллеристам во время чистки орудий Кантор сел на ящик с боеприпасами и тут же задремал. Бородатый командир отделения подошел к нему и заорал:
– Какого черта ты все время спишь?
Кантор степенно оглянулся, не спеша встал с ящика и тихо ответил:
– У меня бывают хорошие сны, господин командир.
Он видит сны. Видит здоровенных быков со звездочкой на лбу. Видит свадьбу, с невестой, наряженной в белую фату, и с паприкашем из телятины на праздничном столе. Видит проворную девушку в красном переднике, работающую на кухне у помещика. А перед сном Кантор тихо и стыдливо бормочет длинные молитвы, накрывшись с головой одеялом.
Петер и Корчог сидят вдвоем за простым столом, ножки которого вкопаны в землю. Корчог сидит, понуро облокотившись на стол. На крупный лоб падают светлые блики.
До фронта он работал слесарем в Кишпеште, на заводе Хоффера, четыре месяца назад его прислали на фронт. В первую же неделю он рассказал товарищам о себе все: не стесняясь, он проклинал свое прошлое, проклинал войну, рассказывал анекдоты и боялся смерти.
На второй неделе он замолчал. Только стал ругать жидкую похлебку и ждать концертов по заявкам солдат.
Перед каждым наступлением он готовился к плену или смерти и каждую неделю писал прощальные письма домой: одно – матери, другое – невесте. После наступления он рвал эти письма на клочки, а на следующий день писал новые.
Иногда он громко смеялся и не верил тому, что жив, не верил в реальность кофе по утрам, фотографий родных в кармане френча, приказов по части. Четыре месяца назад он заболел.
Он знал о Марксе, о социализме, думал о том, чтобы перейти к русским, и не мог решиться на это. Он состарился за несколько месяцев.
Ему тридцать лет. Он сидит над очередным прощальным письмом домой, а сам вспоминает, как в прошлом году он вместе со своей невестой Кати пошел на Дунай у Шарокшара. Зайдя в камыши, они стали раздеваться друг у друга на глазах, и он увидел, какая красивая грудь у Кати.
Они были уже в воде, когда Кати озабоченно спросила:
– Тебя могут забрать в армию?..
Он промолчал. А потом сказал:
– У тебя очень красивая грудь, – и сердито забил ногами по воде.
Через полгода его забрали в солдаты.
Салаи сидит по другую сторону стола. До армии он был приказчиком в Уйпеште на складе фирмы Мейнл. Целый месяц он говорил во сне и звал жену.
Два дня он вообще перестал говорить, даже на вопросы товарищей и то не отвечает.
В среду он получил от шурина письмо. Когда бородатый командир отделения отдал ему это письмо, он не сразу решился вскрыть его. Увидев адрес, он вспомнил широкоскулое лицо шурина, который ни разу не писал ему с тех пор, как его послали на фронт. А уж раз написал, значит, что-то случилось.
Двадцать девятого июля жена Салаи, которой было всего двадцать три года, погибла при бомбардировке Чепеля. С тех пор Салаи ни с кем не разговаривает. Он не плачет, не вздыхает. Он словно застыл. Письмо все еще валяется около его кровати, куда он уронил его, дочитав до конца. И никто не осмеливается поднять его.
Приказчик смиренно ждет смерти. Иногда он выходит наверх, останавливается перед блиндажом и тихо бормочет что-то непонятное. Видно, разговаривает со своей женой.
Андраш Телеки безучастно сидит на нарах, вертя в руках ножик и посматривая на Петера Киша.
Телеки рассеянно оглядывает и других. Все они ему чужие, и все приговорены к смерти. Он терпеливо слушает обычные вечерние разговоры, смотрит на стыдливые мужские слезы, не вздрагивает от выстрелов.
Телеки безразличен абсолютно ко всему.
Он внимательно читает письма из дому, покачивает головой и постоянно катает в кармане цветные глиняные шарики – талисман, полученный от сынишки, когда уезжал на фронт.
Петер Киш сидит, согнувшись, в другом углу блиндажа. Сегодня он получил письмо от Вероники.
«Сообщаю тебе, мой милый, что я жива и здорова, чего от всего сердца и тебе желаю... Мужа Тери Янчик тоже забрали в солдаты. Прошло уже полтора месяца с тех пор, как он уехал на фронт, а все еще нет ни одного письма. Может, ты встретишься с ним на фронте? Ты его знаешь, его здесь все дразнили рябым. Если встретишь, скажи ему, что бедная Тери очень волнуется... Милый, когда же, наконец, кончится эта проклятая война?..»
Петер Киш грустно улыбается. Может, он встретится с мужем Тери? Разве здесь можно с кем-нибудь встретиться? Где? Когда кончится эта война? Завтра? Через год? Никогда?.. Кто может это сказать?
Однообразно проходят дни и ночи. Безвкусные супы, глухие взрывы, редкие письма из дому, концерты по заявкам солдат. По утрам все облегченно вздыхают, что, слава богу, пережили вчерашний день. И совсем не до того, чтобы кого-то искать.
Петер гладит, ласкает письмо жены, до его сознания доходят лишь обрывки слов. Он ничего не чувствует, сидит и поглядывает в дальний угол блиндажа, но глаза постоянно останавливаются на кривоногом Телеки.
Петер ненавидит его.
Ненавидит за то, что он такой низкий, коренастый; за то, что у него кривые ноги; за то, что он так любит смотреть на небо; за то, что напоминает ему, Петеру, о доме. Он лишь раз достал из кармана фотографию семьи, с тех пор как уехал на фронт. Было это в тот день, когда перед огневой позицией с шумом вгрызлась в землю первая мина и командир взвода Палипкаш повалился замертво на ствол орудия с огромной кровавой раной на шее. Телеки стоял на месте и смотрел на командира взвода. Он содрогнулся от страха, ноги его задрожали. Затем он вытащил из кармана фотографию. Стыдливо отвернулся в сторону и поцеловал. Сначала жену, потом сына.
В тот момент Петер любил Телеки.
А сейчас он ненавидит его за то, что Телеки напоминает ему о родном доме. Ему противно слышать его голос, видеть движения его кривых ног и мускулистых рук, подносящих снаряды на огневую позицию.
Петер ненавидит Телеки с двадцать пятого марта сорок четвертого года, когда поезд увозил их со станции и у Телеки слезы навернулись на глаза. Петер видел, что сосед плачет. В замешательстве Телеки начал рисовать на вагонном окне большие каракули, пальцы его нервно дрожали.
Стоило Петеру посмотреть на Телеки, на его лохматые брови, тонкий нос, глубокие морщины на лице, как перед глазами вставали два хольда каменистой земли и оставленная дома жена.
Взгляд Петера переходит на лысеющую птичью голову Салаи, на его круглые темные глаза, смотрящие на стол. Он вслушивается в звуки ночи, искоса поглядывает на бывшего приказчика и злорадно усмехается.
У Петера кружится голова, чувство животной радости овладевает им. Он кладет письмо жены на ладонь и протягивает Салаи.
– Вот... письмо от жены... – шепчет он хрипло.
В блиндаже стоит тяжелая, жуткая тишина.
Телеки враждебно смотрит на Петера из своего угла. Отбросив в сторону нож, лениво обнимает руками воздух и зевает.
– Хорошо тебе...
Киш убирает руку и отворачивается.
Салаи поднимает свою птичью голову, устремив взгляд в угол убежища. Остальные неподвижны, и, если Салаи всадил бы в этот миг свой штык в Петера, никто бы его не остановил.
Приказчик прячет лицо в тень и печально вздыхает.
– Две недели назад и моя жена еще писала мне, – тихо говорит он и опускает голову на грудь.
Телеки сидит в расстегнутом френче и с упреком смотрит на всех. Затем он берет шинель, вынимает из кармана бутылку палинки. Рукой вытирает губы и пьет прямо из бутылки.
Телеки не понимает своих товарищей. Он не понимает их молчания, их зависти и отвращения.
Он хочет жить, и больше ничего. Хочет вернуться домой, растить сына, воспитать из него настоящего мужчину, а потом погулять на его свадьбе.
Он не хочет понимать других. Он понимает чутьем, что надо быть беспощадным ко всем и к самому себе тоже. Надо изучить расписание жизни и смерти и научиться жить по-фронтовому: просто и скупо.
Кто размякнет – погибнет.
Кто погрузится в свои чувства – погибнет.
Кто не сумеет стать жестоким – погибнет.
Телеки вытянул руку с бутылкой вперед – и в блиндаже запахло палинкой.
– Пейте...
Никто не шевелится.
Он подвигает бутылку к себе. Еще раз отпивает из нее и, поерзав на нарах, трет башмаком о башмак – в воздухе появляется легкое облачко пыли. Телеки ждет, пока тепло от выпитой палинки разойдется по всему телу.
– Ну, что носы повесили?.. Грустить разве лучше?
Корчог поднимает голову и зло кричит на Телеки:
– Заткнись! Разве лучше умереть пьяными?
Телеки ложится на спину и долго молчит. Ждет, что скажет Корчог еще, но тот молчит. Тогда Телеки снова садится и наклоняется туловищем вперед.
– Говорят, что солдат у русских видимо-невидимо. Мы по ним стреляем, а на место одного убитого встает десять живых... А?
Молчание товарищей хватает Телеки за горло. Он дико кричит:
– Думаете, что выдержим? Слушаем гул самолетов, прислушиваемся к завыванию мин, а получим письмо из дому, по три дня не говорим ни слова. Смотрим друг на друга и молчим. Кто хотел этой войны? Может, я?.. Я домой хочу! Мне не о чем мечтать. Звание витязя получу? А если я и вернусь домой, у меня так и останется три хольда земли, больная жена и мальчонка... Я должен вернуться домой, я обещал обязательно вернуться с войны.
Все молча слушают солдата с лохматыми бровями.
Телеки спускает ноги на землю.
– Посмотришь на вас, и жить не хочется... Я не могу плакать, знаю: стоит заплакать – и все. Изгложет меня тоска... И никогда я не увижу родного дома, – яростно бормочет Телеки и опять прикладывается к бутылке.
Корчог тяжело подымается с места, глядит на Телеки. Ждет, когда тот отнимет ото рта бутылку, потом говорит:
– Ничего ты не понимаешь, Телеки. Глушишь палинку, пока тебя в штрафную не пошлют. И ничего не видишь дальше своего носа. Словно рыночная торговка... Кочан капусты, три пучка редиски...
Корчог ходит вокруг стола. Огромная тень прыгает по стене. Руки у него сцеплены за спиной. Он останавливается, словно учитель на кафедре, и вздыхает.
– Бывает и так, что человек загрустит ни с того ни с сего. Со всем, кажется, он примирился, через все прошел. Похоронил лучшего друга, изменила жена... Со всем он в расчете... И что бы с ним ни случилось, все будет лучше, чем было, а он грустит. И ничего не может с собой поделать, грустит, и все тут...
Корчог уныло потянулся к полке. Взял фляжку, отпил из нее и неожиданно протянул Телеки.
– Выпей вот этого. Черный кофе с бромом... Дома его попам дают... чтобы бабы не хотелось... – говорит он хрипло и улыбается.
Рыдание подкатывает к горлу, но он ставит фляжку на полку, опять бродит по комнате, следит за своей тенью, потом снова подходит к Телеки, садится рядом.
– Дружище, у меня дома остались мать и невеста... Каждый день чувствую, вот-вот разорвется сердце... Когда меня везли на фронт, я знал, что это значит... И думал, что надо вернуться домой и на завод к товарищам. Вернусь, меня спросят... А, к черту все! – И он печально махнул рукой.
– У моего отца был старый товарищ... По воскресеньям он приходил к нам. У него на груди висели красивые золотые медали, – тихо и задумчиво произнес Телеки.
Корчог резко перебил его.
– Не то, не то. Я вот все время думаю, зачем я здесь, Говорят, на рассвете будет наступление. Четыре месяца, как я на фронте, а уже на шестьсот километров назад отошли... Он закашлялся и начал зло рубить ладонью воздух. – Боюсь я этих наших наступлений. Интересно, кто останется в живых?
Он поворачивается к Телеки, который, равнодушно опустив голову, думает о том, что на рассвете действительно будет наступление.
– Знаешь, о чем я люблю вспоминать? – спрашивает он, вздохнув. – Дней за десять до призыва в армию я видел свою невесту, когда она раздевалась.
Телеки с удивлением смотрит на слесаря.
Корчог склоняется к собеседнику, смотрит ему в глаза, но тут же отстраняется.
– От тебя так несет палинкой... – бормочет он. – Эх, вернуться бы домой живым и невредимым. Сразу же свадьбу устрою. В первый же день. Он щелкнул своими узловатыми пальцами.
Телеки хмурит брови.
– У меня тоже осталась дома жена.
Салаи вскакивает. Из глаз его катятся крупные слезы. Он подходит к командиру отделения и в отчаянии дергает его за рукав френча:
– Ты же командир!.. Как ты терпишь это? Прикажи им, чтобы они заткнули свои паршивые глотки!
Долгое молчание.
Рот приказчика сводит гримаса.
– Ты же командир!.. Почему не прикажешь? – возмущается он.
Бородатый командир отделения молча смотрит на Салаи. Ему хотелось бы успокоить этого человека.
Салаи с ненавистью переводит взгляд с одного солдата на другого. Несколько минут он стоит одиноко и беспомощно. Потом, пошатываясь, плетется к двери и выходит из блиндажа.
Все молчат.
Ефрейтор потягивается, провожает Салаи взглядом до самого порога, затем нерешительно оглядывается, неуклюже шевелит плечами, словно просит прощения. Подходит к своему топчану, заботливо расправляет складки на грязном одеяле и садится. Двумя пальцами он осторожно вынимает из кармана френча сложенное в несколько раз письмо из дому, написанное на желтой бумаге, и безмятежно улыбается.
– Сын вот мне написал, – говорит он примирительным тоном, обращаясь к присутствующим.
У Петера Киша кружится голова.
Взгляд застыл на письме, которое ефрейтор держит в руках. Петер никак не может оторвать глаз от этого письма.
Каждое слово ефрейтора бьет, как удар кулака. Нужно научиться быть злым, иначе пропадешь. Он ничего не видит, перед глазами только это письмо. Горло перехватывает ледяная спазма.
У ефрейтора есть сын. Длинноногий парнишка с лохматыми волосами учится в ремесленном училище. Ефрейтор любил о нем рассказывать. Вспоминал всякие мелочи, хвастался. А когда приходило письмо от сына, то читал его всем вслух.
Киш подпер голову руками. Ему грустно: у него нет детей.
Жена есть, но она ему какая-то чужая. Каждый день он боится, останется ли Вероника его женой завтра. Ребенок – это совсем другое дело. Твое создание. Наследник. Продолжение сегодняшнего дня в завтрашнем.
Жена не продолжение, а сын, маленький Петер Киш, – да. Сын с таким же, как у отца, носом, с такой же походкой, таким же голосом, взглядом.
На рассвете двадцать пятого марта сорок четвертого года Петер ушел из дому, ничего от себя там не оставив. Разве что кое-какие воспоминания, пару старых сапог, простой костюм серого цвета с алюминиевыми пуговицами, толстую кисточку для бритья, ремень для правки бритвы да кое-какие безделушки, купленные на ярмарке за несколько филлеров. С тех пор каждую неделю почта доставляет туда письмо с фронта.
Бородатый ефрейтор выглядит удовлетворенным. Моментами он вздрагивает, хочет выйти вслед за Салаи из землянки, но толстые пальцы держат письмо сына. Он боится, что, стоит ему пошевелиться, и тихое очарование исчезнет.
Петер Киш отворачивается.
Он не хочет видеть письма. Убрал бы уж ефрейтор Сегеди свое письмо!
Больше всего Петеру хочется сейчас ударить ефрейтора за то, что у того есть сын, который ходит в школу и пишет ему письма на фронт.
А Сегеди как ни в чем не бывало сидит на краю своего топчана и безмятежно улыбается.
Почему он хвастается? Чего он хочет? Пусть радуется, что у него есть сын, что у него лохматая борода и ему не надо бриться, что по вечерам все слушают, как он читает свои письма. У Петера Киша тоже мог бы быть сын. Даже двое! Трое!
Петера охватывает яростная зависть.
– Это не твой сын... – беспомощно стонет Петер и до боли сжимает зубы, чтобы не продолжать дальше. Так ему хотелось обидеть ефрейтора.
Эти слова уже несколько минут стояли у него в горле, но пришли они откуда-то издалека и принадлежали не ему. Все с недоумением смотрят на него, словно не понимая происходящего. Худые строгие лица, тусклый блеск медных пуговиц в свете керосиновой лампы.
Холодные враждебные взгляды сидящих в блиндаже солдат скрестились на Петере Кише.
Лицо ефрейтора неподвижно, только глаза мигают, будто кто-то закатил ему оплеуху.
Петеру страшно.
Некуда скрыться от холодных укоряющих взглядов солдат. Он беспомощно сидит в углу, письмо Вероники выскользнуло у него из рук.
– Да ты сам рассказывал, что он тебе не родной, а пасынок... – оправдывается Петер, не смея взглянуть на ефрейтора.
Сегеди встает.
Над блиндажом низко гудит самолет. Рука ефрейтора дрожит мелкой дрожью. Медленными движениями он сжимает сложенное в несколько раз письмо сына в кулаке. Голова его касается бревен наката. Упрямый и серый, он словно окаменел.
Сейчас он не командир. Сейчас он не бросает во сне Дюрке Шароши кожаный мяч, не слышит колких перебранок торговок рыбой на рынке.
Сейчас он отец.
И понимает, чего ждут от него эти суровые лица. До оскорбителя всего три шага. Резкое движение, и мощный удар обрушится на Петера.
Все отвернулись.
Они знают, что ефрейтор должен сейчас ударить Петера. Если не сделает этого – он трус. Никто не хочет видеть то, что должно произойти. Это личное дело ефрейтора. За ребенка заступается отец: все как положено.
Все сидят молча, низко опустив голову.
Сегеди, сжав кулаки, стоит перед нарами.
Ударить?
Он вытирает рукой лоб, лицо его наливается кровью.
– Он мой сын... – тихо говорит он, тень на стене заметно вздрагивает.
Теперь Сегеди уже не ударит.
Неожиданно Корчог вскакивает со своего места, подсаживается на нары к Петеру, бьет своим костистым кулаком с татуировкой по одеялу:
– Да знаешь ли ты, что значит иметь ребенка? Понимаешь ты это, несчастный?.. Ничего ты не знаешь! Умрешь, и следа от тебя никакого не останется! Разве у тебя есть сердце?.. А если мы скажем, что твоя жена потаскуха? Как тебе это понравится? А?
Петер быстро поворачивается, но достаточно ему взглянуть на Корчога, на его сильные кулаки, на крепко стиснутый рот, страшный взгляд, как злоба в нем утихает.
Ефрейтор разжимает кулаки.
– Оставьте! – машет он рукой и садится на нары.
Ефрейтор осторожно расправляет на ладони письмо, аккуратно складывает его и кладет в карман френча, потом ложится на спину.
Он не говорит ни слова. Что толку говорить, когда ребенок еще в десять лет знал, что не он его родной отец?
Это был очень грустный вечер. А когда после полуночи он наклонился над кроваткой маленького Палики, ему прямо в лицо смотрели два блестящих глаза: ребенок не спал.
Стоит ли говорить, что через две недели Палику пришлось отвести к его отцу, на чепельский рынок? Ребенок хотел познакомиться со своим настоящим отцом. Когда же он увидел беззубого мужчину, который даже не узнал мальчика в голубой матроске, а потом подошел к нему пьяной походкой и поцеловал в лицо, Палика содрогнулся от отвращения.








