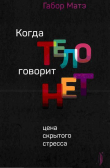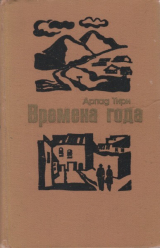
Текст книги "Времена года"
Автор книги: Арпад Тири
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)
ПРОЩАЙ, ВОЙНА!
Повесть

На столе под стаканом лежит повестка из призывного пункта. Гербовая печать спряталась под стакан.
Петер Киш, зашнуровав башмаки, сидит, сгорбившись, и ждет привычного приступа ревматизма. Но спину почему-то не ломит.
Буквы повестки до боли режут глаза. Он знает текст наизусть, вот уже два дня мечутся в его мозгу строки:
«...25 марта 1944 года в восемь часов утра вам надлежит явиться в военную комендатуру города Тапольцы...»
Петер Киш чувствует нестерпимое одиночество. Стоит посмотреть на повестку, как все окружающее куда-то отодвигается, исчезает; мысли прикованы к одному: его посылают на фронт. Война отнимает у него все: и ревматизм, и сочувственные вздохи соседей, и друзей, и два хольда каменистой земли. С сегодняшнего дня все принадлежит только войне.
В сердце ужасная пустота. Жена Киша еще лежит в постели, освещенная розовым светом зари, сонная и теплая... А на столе эта проклятая повестка...
Петер открывает дверь в кухню, в обжитое тепло комнаты врывается холод. Он отступает назад, подходит к шкафу, протягивает руку и... застывает на месте, не может решиться снять с крючка свое старое зимнее пальто.
Взгляд его скользит по фигуре жены в постели, задерживается на повестке. Зачем ему, Петеру Кишу, идти на войну? Зачем? Кому нужны его ноги, неловкие движения его рук? Кому нужно его несчастье? И его жизнь? Почему ставят к пушке именно его, тридцатилетнего человека, бездетного, без всяких надежд на будущее, хозяина двух хольдов каменистой земли?
Этого он не понимает.
Вот уже два дня, как все плывет у него перед глазами. Два дня он не может опомниться.
Андраш Телеки с соседней улицы через полчаса постучится к нему в окошко. Его тоже посылают на фронт. Двое из села, не считая тех, кто ушел раньше. На столе у кривоногого Андраша лежит такая же повестка. Без четверти пять он сунет ее в карман, поцелует жену, обнимет такого же, как и он сам, кривоногого сынишку, драчуна и забияку, и зайдет за ним, Петером. Тихо и осторожно, словно пришел пригласить друга в корчму пропустить стаканчик винца, постучит в окно.
И они уйдут, сами не зная куда и зачем.
Петера охватывает страх. Стоит выйти из дому, и конец. У них уже никогда не будет ребенка, а на сердце жены ляжет безысходная печаль. И никогда у него не будет серой лошадки, о которой он мечтал с самого детства. Не закусит он больше от зависти губу, стоя у окна и наблюдая, как сосед бренчит сбруей; не пойдет на базар с пустыми карманами и не будет приценяться к лошадям.
Ничего нет, только повестка и страх. Трудно шевельнуться. Трудно дышать. Трудно слушать эту немую тишину, трудно снять с гвоздя пальто.
Трудно уйти из родного дома.
Жена повернулась на другой бок, из-под одеяла видна полоска спины и бедро. Муж потянулся за пальто, не отрывая от нее глаз.
Ему хочется захватить с собой Веронику, ее бедра, груди, коричневое родимое пятнышко на животе, запах в их доме.
Он перекинул пальто через руку и сразу же стал чужим. Повестка разделила их. Муж даже не обнял жену, только поцеловал, заменил поцелуем печальные слова прощания.
Вероника натягивает на грудь одеяло.
– Я провожу тебя до станции... – тихо говорит она, спуская одну ногу с кровати, и ждет...
Ждет, что муж позовет ее.
А ему хочется кричать от боли. Кричать о том, что он не хочет уходить, не хочет оставлять жену и этот дом. Ему хочется помечтать. Сесть вон там, в глубине сада, под грушей, повернувшись лицом к горе, над вершиной которой по вечерам, мерцая, светят звезды, и помечтать. Он не хочет быть солдатом, не хочет убивать русских, которые ему ничего не сделали.
Петер смотрит на жену.
– До станции далеко, Вероника... – с трудом цедит он сквозь зубы.
Вероника смотрит на мужа умоляющим взглядом.
– Недалеко... Скотину я после накормлю...
Муж медленно качает головой:
– Нет! – И садится к столу.
До отправления поезда полтора часа, до станции, если идти пешком мимо горы Гулач, час ходьбы. Вероника плачет. Смущенно и беспомощно она смотрит на мигающий огонек керосиновой лампы.
Сегодня она первый раз в жизни встретилась с войной, которая незримо вошла в их дом. А костлявый худой мужчина, стоящий с пальто на руке, со сжатой в кулаке бумажкой с печатью, олицетворяет войну.
Муж наклоняется над кроватью, даже не взглянув на жену, рывком срывает с нее одеяло.
– Не... не надо... – стонет она и, вздохнув, отпускает край одеяла.
Вероника дрожит, физически ощущая взгляд мужа. Волосы ее раскинулись по подушке, словно несомые ветром легкие облака по небу.
Тяжелое, гнетущее молчание...
Жена осторожно натягивает на себя одеяло и, словно боясь разбудить мужа, слегка касается его руки:
– А фронт недалеко отсюда?
Петер поворачивается на бок. Он вглядывается в лицо жены со следами высохших слез и молчит.
– Почему ты молчишь? Где фронт? Должен же ты знать, куда ты едешь!
– Говорят, недалеко.
Вероника с силой сжимает его руку.
– Где это – недалеко?.. Почему ты мне ничего не говоришь?
Петер пожимает плечами. У него нет сил говорить, но жена отчаянно трясет его за плечо.
– Ты что, не понимаешь? Где сейчас фронт... В России? Или ближе?
– Не знаю... Ничего я не знаю...
Губы у Вероники дрожат.
– Почему ты ничего не знаешь?
Петер устало закрывает глаза.
– Говорят, к нам уже пришли немцы.
– Куда?
– Куда, куда... в Венгрию... Телеки вчера видел их в Тапольце...
Вероника слушает молча, потом спрашивает тихо:
– И это хорошо? Или плохо?
– Ничего я не знаю, – печально говорит он.
Нужно прощаться, но как? Поцеловать, вздохнуть, взять в руки котомку, старенький солдатский сундучок и уйти? Обнять жену один, десять или сто раз? Сколько? Разве можно так просто распрощаться с любимым человеком?
Петер закрывает лицо ладонями. Закрывает глаза, вздыхает и ждет, ждет, что свершится какое-то чудо.
– Вероника! – зовет он через несколько минут.
– Что?
– Жаль, что у нас с тобой нет детей...
Наступает тягостное молчание. В глазах у жены слезы.
– Да... Очень жаль... – тихо отвечает она. – Ты сам не хотел... Когда вернешься, будет... Правда будет?
Муж смотрит ей в глаза, говорит безнадежно, склонившись над ее лицом:
– Когда вернусь? Откуда? С войны не все возвращаются...
Долгая мучительная пауза.
– Муж Юлиш Ваш каждую неделю пишет ей письма.
Кулак Петера с беспомощной яростью опускается на перину.
– А муж Аннуш погиб.
Вероника отодвигается, как от удара.
Петер встает с кровати.
– Если что, бросай все и езжай к отцу, в Халап. Там тебе будет спокойнее, да и я не буду так волноваться за тебя.
Вероника вскидывает голову:
– А что может случиться?
Петер не отвечает, стоит неподвижно, беспомощный и слабый, с ненавистью поворачивается к иконе. Он больше не может... Хочется кричать, кричать изо всех сил – от боли, ненависти и ярости. Кого-то ругать, может, даже убить...
– Не понимаешь?.. Как тебе втолковать?! – кричит он. – Война ведь! А я на фронт еду, туда, где стреляют... Я не хочу ехать! Понимаешь?! Я боюсь! Мои друзья уже погибли там, а ты тут плачешь и лежишь в постели!.. Ты что, не понимаешь, что я не хочу идти воевать! Эти русские мне ничего не сделали!
Он злобно рубит воздух ладонью.
– Неужели ты не понимаешь, что и я могу погибнуть в окопе, как они...
Он остановился взглянул на жену.
– Может, ты рада будешь, а? – Он явно начинает терять разум. Наклоняется к жене. – Русские придут сюда... русские...
Вероника бледнеет, смотрит на мужа, как на чужого, словно этот незнакомый худой мужчина пришел сюда прямо из окопов. Она глубже натягивает на себя одеяло.
Петер вне себя, ему кажется, что кто-то, невидимый, больно сдавил ему горло. Нахмурив брови и прикусив губу, смотрит на жену, знает, как тяжело сейчас Веронике, но ничего не может с собой поделать. Охотнее всего он убил бы сейчас жену, чтоб не оставлять ее здесь одну. Захлопнул бы дверь домика, колом подпер бы калитку в заборе, сунул повестку в карман и пошел навстречу смерти.
Но он не мог этого сделать.
– Ухожу, как побитая собака. Ребенка и то не родила мне вовремя!
Вероника не отвечает, всматривается в лицо мужа, но не узнает его. Все плывет у нее перед глазами.
Петер обеими руками держится за спинку кровати. Он так устал, что не может выговорить ни слова.
Жена съежилась, поджала к подбородку колени. Ей кажется, что она смотрит прямо в лицо войне. Она больше не ждет, что муж подойдет и обнимет ее, поцелует, погладит волосы. Не ждет, что он позовет ее проводить, что скажет словечко, одно-единственное.
А Петер кладет голову на спинку кровати и начинает ругаться.
Человек по натуре суровый, он за пять лет совместной жизни ни разу до этого не обидел ее грубым словом.
Женщина тихо плачет. Вчера вечером, когда сумерки окутали землю, они лежали рядом в постели и безмолвно смотрели в ночную пустоту.
Ночью Вероника спала беспокойно. Ей снилось, будто Петер вдруг вскочил с кровати, разорвал повестку и, схватив в руки топор, встал у двери. Он смотрел на жену и по-детски бормотал, что ни за что на свете не пойдет на фронт. Он хочет принадлежать только ей, Веронике, а не этой проклятой войне.
Это был сон.
Петер устало сел на стул, порыв ярости вспыхнул и тут же потух.
Вероника глотает последние слезы и боязливо спрашивает:
– Как же я могу уехать в Халап? А с домом что будет?
– Пусть пропадает. Лишь бы с тобой было все в порядке, – тихо вздыхает Петер.
Жена с благодарностью глядит на мужа, бледность сходит с ее лица. Она даже улыбается, но заговорить не решается.
Поженились они пять лет назад.
У Петера тогда был один-единственный костюм и два хольда скупой каменистой земли, Вероника получила в наследство дом. Они очень любили друг друга.
Имущества у них с тех пор почти не прибавилось.
Петер Киш знает, что сейчас должен что-то сказать жене, прикоснуться к волосам, погладить их, утешить ее, сказать, что по ночам он будет приходить к ней во сне и обнимать ее.
Он должен сказать ей, что когда-нибудь война все-таки кончится и он вернется домой. Приедет на украшенной разноцветными лентами подводе, запряженной двумя лошадьми. Эх, мечты!
В окошко тихо стучат.
– Петер, ты готов? – спрашивает под окном кривоногий сосед.
– Иду.
Он поднимает деревянный сундучок, но тут же ставит его на пол и молча глядит на жену. Так он ничего и не успел сказать ей.
Петер подходит к кровати, наклоняется. Жена тихо плачет. Просунув руку под ее шею, он неловко, стыдливо целует ее.
Сам плачет без слез.
Неожиданно он выпрямляется, сует повестку в карман, берет деревянный сундучок. Еще раз оглянувшись, Петер выходит из комнаты.
В сундучке все его состояние. Немного продуктов на дорогу, пара нижнего белья. Дует сильный ветер, а Петер слышит только рыдания Вероники, и ему кажется, что рыдает вся вселенная.
Так год назад, 25 марта 1944 года, Петер Киш уходил на фронт.
Теперь он медленно бредет меж грязных, словно покрытых ржавчиной камней. Идет осторожно и неторопливо. Над головой хмурое небо, по краю озера блуждают, переливаясь, утренние блики.
Петер Киш идет, шатаясь, склонившись вперед: так легче идти, ноги скользят по глинистому грунту.
С одной стороны длинное свинцовое озеро, с другой – узкое шоссе.
Он идет с того берега озера, идет домой.
Вчера Петер Киш сбежал со своей батареи. Теперь он дезертир.
Он останавливается, наклоняется, поправляет сбившуюся в грубом солдатском башмаке портянку: нужно спешить. Сзади наступают русские, впереди – немцы.
В промежутке между ними и пробирается домой Петер Киш.
Вещмешок то и дело съезжает ему на шею.
Сбежал он из третьей батареи, в которой служил целый год.
Теперь у него ничего нет, кроме собственной тени. В руке зажата тонкая сухая веточка, которую он сломил по дороге. За спиной вещмешок, в нем полбуханки солдатского хлеба, три банки консервов и несколько пачек подмокших сигарет.
Он прошел через ад и чистилище, прошел долгий и кровавый путь, а теперь чувствует себя очищенным.
Казалось, он стал еще выше ростом и худее. Лицо – кожа да кости, и на нем застыло какое-то холодное выражение. Страха и уныния уже нет. Все это осталось на огневой позиции батареи.
Девять месяцев назад Петер первый раз в жизни дернул за запальный шнур гаубицы. С тех пор он ничего не чувствует. Грохот первого выстрела навсегда запал в его память. С того дня Петер стал таким же желтым, как пороховой дым.
Петер идет не оглядываясь. Зачем? С противоположного берега озера доносится грохот артиллерийской канонады. Русские неудержимо продвигаются вперед.
Товарищи Петера все еще стреляют. Дергают за запальный шнур и безучастно ждут момента, когда артиллерия противника накроет их огневую позицию. Все потонет в рыжем дыму. Потом дым рассеется, и ничего не останется.
А до тех пор нужно стрелять: заставляют.
Унтер-офицер, наверное, уже заявил об исчезновении рядового Петера Киша, который дезертировал вечером. Рано облысевший командир орудия только покачал головой и безнадежно махнул рукой. Он и сам бы сбежал, но куда? Удастся ли?
За спиной Петера Киша ревет грузовик.
Впереди, метрах в пятидесяти, сложенный в кучу тростник. Нужно добежать туда, пока машина не вынырнула из-за поворота. Машина – это смерть.
Петер бежит, делая длинные скачки.
Если он добежит вовремя, он спасен.
Как глупо искать убежище именно здесь, между озером и шоссе. Если бы он пошел через виноградники, было бы надежнее, но для него озеро – товарищ и друг. Когда Петер жил в деревне, то каждый вечер приходил на берег, садился и слушал спокойные вздохи воды, подолгу смотрел на пенистые кружева пены после бури.
Но сейчас он должен бежать. Одно неверное движение, малейшая задержка равносильны смерти.
С Петера льет пот.
Осталось двадцать пять метров.
Худая грудь, искусанная вшами, глубоко вздымается, тень бежит следом за ним.
Еще метров пятнадцать.
Петер запнулся за камень. Схватился за ветку дерева, жадно глотает воздух и снова бежит. Грузовик грохочет у него в груди. Машина уже на повороте.
Пять метров.
Из-за поворота вынырнул капот немецкого грузовика.
Последний, нечеловеческий прыжок. И он валится на ворох тростника. Петер закрывает глаза, убитый гудением грузовика. Ему кажется, что колеса подымаются на его плечи, переваливаются через ребра.
Неужели это конец?
В этот момент все собрались вокруг Петера: раненый товарищ, которого он выпустил из рук у двуглавой церквушки, не донеся до перевязочного пункта метров сто, бородатый унтер-офицер, Корчог, Салаи, вечно спящий Кантор и командир дивизии со вставными зубами.
Петер ждет.
Машина ревет, ее рев, казалось, поглотил весь мир.
Так можно ждать только смерти. Закрыв глаза и распластавшись на тростнике, он лежит в пяти километрах от Вероники, с отчаянием в душе и беспомощно сжатыми кулаками.
Машина проскочила мимо и утащила за собой шум и смерть. Петер Киш открывает глаза. На щеках удивленно застыли две слезинки.
Он с трудом приподнимается, идет вразвалку. И снова с одной стороны длинное серое озеро, с другой – прямое шоссе. Пройдя немного, Петер осторожно осматривается. Шоссе покрыто свежими, мягкими комьями земли: полчаса назад здесь проехала немецкая танковая колонна. Несколько секунд он лежит в канаве, затем быстро перебегает через шоссе.
Отсюда уже видно сторожку обходчика. Петер Киш смотрит вперед. Только вперед. Пожирает глазами будку железнодорожника, ржавые скалы, тростник на берегу озера, словно хочет запомнить все это навсегда и унести с собой.
Год назад Петер таким взглядом смотрел на Веронику, к которой он сейчас идет. Смотрел через открытую дверь в потонувшую в предрассветных сумерках комнату, а сам доставал пальто из шкафа.
Петер карабкается по узкому хребту холма, бредет по тропке среди виноградников. Временами он поглядывает на озеро, но оно теперь скрыто от него туманом, который сверху, с холма, кажется плотным и серым. Шоссе словно вымерло. Лишь иногда по стертым булыжникам пронесется заяц или пробежит голодная кошка в поисках какой-нибудь еды. Все кругом сырое и вымершее, лишь недовольное ворчание пушек разрывает весеннюю тишину.
Петер смотрит вперед.
Все время только вперед.
Отсюда, от изваяния святого Антала, что стоит на краю поля, до дома километра четыре.
В легких свистит воздух, дышать тяжело. От плеч до ступней ног по всему телу разлилась тяжелая усталость. Киш чувствует себя сиротой, бедным, всеми заброшенным сиротой. У него лишь одна надежда – добраться до дому.
Остановившись перед угрюмым каменным изваянием, омытым частыми дождями, он по привычке осеняет себя крестом. Смотрит на лик каменного святого, у ног которого завяли прошлогодние осенние цветы.
За год здесь ничего не изменилось.
Изваяние, как и прежде, смотрит в сторону озера, повернувшись спиной к акации, серые холодные пальцы крепко сжимают каменный крест, а у ног высечены каракули букв.
Петер находит плоский камень и садится. Отдыхает.
Смотрит на озеро, которое отсюда, сверху, напоминает белесую морскую гладь, на струящийся волнами туман, на будку обходчика. Который сейчас час, Петер не знает. Часов у него нет, а небо затянуто облаками. Тишина. Застывшая неподвижная тишина. Из рук Петера выскальзывает вещмешок.
Знакомый запах – запах родного дома. Его чувствует только тот, кто возвращается домой из дальних краев. Да, только тот. За горой село, а в нем домик с обветшалой крышей, огороженный забором из рейки, жена.
В зарослях акации, позади распятия, кто-то катает по шоссе камушки.
Солдат поднимает глаза.
На краю рощицы, прислонившись спиной к дереву, стоит мальчуган в длинной, почти до пят, железнодорожной шинели, с длинными, давно не стриженными волосами и удивленными синими глазами. В руках он вертит гибкую хворостинку, а сам не спускает глаз с солдата.
Мальчик ждет.
Петер с любопытством рассматривает маленького бродягу. Подозрительный и недоверчивый, он чуть заметно манит ребенка к себе.
Мальчуган, придерживая шинель за полы, как женщины юбку, подходит поближе.
«Бродяжка, дитя войны», – думает Петер. Таких он видел тысячи по дороге от Карпат до Балатона.
– Поди сюда, сынок!
Мальчик осторожно переминается с ноги на ногу. Подходит ближе, но все еще не сводит настороженного взгляда с солдата.
Петер улыбается, ласково смотрит на ребенка с голодными глазами и лезет в вещмешок.
– Боишься, парнишка, а?
Петер достает банку консервов и протягивает мальчику.
– Есть хочешь?
Мальчуган пожимает плечами, все еще изучая внимательным взглядом солдата, его грязную истрепанную одежду, заросшее щетиной лицо и тощий вещмешок. Потом оглядывается, измеряя расстояние до будки, смотрит настороженно, смышлено, подозрительно. И прежде чем заговорить, закусывает губу и подается назад:
– А у вас, дядя, нет винтовки?
Петер поражен. На миг он чувствует себя как бы голым, тихо кашляет, словно стыдится ребенка, затем неожиданным движением бросает банку мальчугану.
– Лови, малыш!
Мальчик ловит банку, крутит ее в руках, с любопытством разглядывает, а потом вслух по складам читает надпись.
– Казенная? – спрашивает он после небольшой паузы, словно заговорщик, и прячет банку под полу шинели.
– Да.
Мальчуган понимающе кивает, снова лезет под полу, вынимает банку и, любуясь ею, крутит в руках. Снова по складам читает надпись, поглядывая на солдата. На узком худом личике играет бледная улыбка.
Солдат нравится мальчугану.
– Свинина?
– Она самая.
Мальчуган кладет банку на землю. Найдя большой камень на обочине дороги, подкатывает его к распятию и садится неподалеку от солдата. Банку с консервами он поставил между ног.
– Ну, малыш, не садись на дорогу! – бормочет солдат, покачав головой, и начинает искать в вещмешке отсыревшие сигареты.
Мальчуган, махнув рукой, объясняет:
– Здесь никто не ходит.
Оба молчат. Кругом тихо, только со стороны озера доносится ленивый рокот волн. Петер закуривает отсыревшую сигарету и задумчиво смотрит на худое лицо мальчугана.
Этот мальчуган – первый человек, с которым он повстречался в родных краях после годового отсутствия. Нужно будет расспросить его, есть ли в деревне немцы, целы ли еще дома под обветшалыми крышами, стоит ли по вечерам, прислонившись к окну и глядя на знакомую тропинку, его Вероника.
Мальчуган заметил, что солдат смотрит на него долгим встревоженным взглядом. И мальчик смущенно поглядывает на него, шевеля палочкой камешки на дороге.
– Дядя, вы куда идете? – боязливо спрашивает он.
– Домой.
Ребенок понимающе кивает. Долго что-то обдумывает, потом начинает обкладывать банку с консервами камешками. Играет.
– А где ваш дом, дядя?
– Там, за горой. В той деревне... – неуверенно машет рукой в сторону горы Петер.
Мальчуган, сдвинув брови, смотрит на гору, словно может увидеть ту деревню, вздрагивает, поднимает воротник толстой шинели.
– Вчера оттуда ушли последние венгерские солдаты. Прошли мимо будки...
Петер вскидывает голову.
– Откуда?
– Из той деревни... за горой.
Солдат молчит.
А как раз сейчас нужно бы спросить, кто они, эти солдаты, сколько их было и почему они ушли? Скольким женщинам вскружили они головы? Бывал ли когда-нибудь этот мальчик в соседней деревне? Знает ли жену Петера Киша Веронику, видел ли, как она легкими шагами идет к колодцу за водой? Видел ли ее круглые синие глаза и цветастый платок, когда легкий ветерок поднимал его над густым пучком волос? Слышал ли он ее голос? Знает ли он домик, огороженный забором из рейки, видел ли старую грушу, что растет в самом конце двора?
Солдат поворачивается к ребенку:
– Малыш, ты случайно не слышал, есть еще в деревне немцы?
Мальчуган задумчиво смотрит куда-то вдаль и медленно качает головой.
– Нет там никаких немцев. Ушли они все на Халапскую гору, оттуда будут стрелять в русских. Вчера начальник станции из Фюреда рассказывал, приезжал сюда на дрезине, а уж он-то знает.
Петер отворачивается.
– Ты сам-то откуда?
Мальчуган показывает в сторону озера.
– Вон там стоит будка.
– Твой отец обходчик?
Мальчик, опустив голову, медлит с ответом. Исподлобья смотрит на солдата. Губы дрожат, на лоб набегают морщинки. В один миг он вдруг состарился.
– У меня нет отца... – тихо говорит он. – Отчим... там, в будке.
– А что случилось с твоим отцом?
Мальчуган еще ниже опускает голову.
– Ушел на фронт...
Петер Киш, сразу подобрев, ласково смотрит на маленькую хрупкую фигуру паренька. Мальчик весь съежился на своем камне. Его худые плечи, словно обломанные крылья птицы, висят под шинелью. В больших глазах застыла печаль.
Мальчуган встает, подкатывает камень поближе к солдату и садится с ним рядом. Протягивает ему банку консервов.
– Откройте мне!
Петер лезет в карман за ножом. Лезвие ножа легко режет тонкую жесть, и мальчик с немым восторгом смотрит на сильные загорелые руки солдата.
– А вы, дяденька, тоже с фронта?
Нож в руках Петера замирает, он холодно кивает. Мальчик переводит взгляд на его солдатские башмаки.
– Мой папка тоже когда-нибудь вернется домой, – печально вздыхает парнишка и неловким движением проводит рукой по шинели солдата.
Петер режет хлеб, ставит перед мальчиком консервы, кладет ломоть хлеба и рядом ножик.
– Ешь, сынок...
Мальчуган с удовольствием уплетает консервы, потом спрашивает:
– А у вас, дядя, есть сын?
Петер отрицательно качает головой.
– А дочка?
– И дочки нет.
Мальчуган удивленно смотрит на него и слегка пожимает плечами, засовывая в рот большие куски холодной свинины.
Петер удобно вытягивает ноги, закуривает.
– Сколько тебе лет, малыш?
Ребенок заговорщически смотрит на него.
– Двенадцать будет.
– А как тебя зовут?
– Тони.
Наевшись, мальчуган кладет нож и отодвигает от себя консервы. Поворачивается к солдату, с улыбкой смотрит на него.
– Дяденька, вы поторопитесь, а то скоро они тут будут.
– Кто?
– Русские. Вчера начальник станции из Фюреда говорил, который здесь был... А мой отчим сказал, лучше убраться отсюда, а то русские заберут детей...
Молчание. Через несколько секунд мальчик снова обращается к солдату.
– Дяденька... вы, наверное, знаете... Правда, что русские увозят детей?
Петер Киш недоуменно пожимает плечами.
– Да ну, что ты...
Тони задумчиво сидит на камне и теребит край вещмешка. Губы его дрожат, лоб в мелких морщинках, которые делают его намного старше.
Над стройными деревцами повисли белые хлопья тумана. Кругом слишком светло, и это гнетет. Гора в тумане кажется особенно громадной. Вершины ее совсем не видно. Может, она достает до самого неба, а ее склоны касаются склонов другой горы?
Башмаки Петера скользят по липкой листве и влажным камням. Иногда он оглядывается, стараясь сквозь голые ветви деревьев увидеть озеро, но туман скрывает его.
Петер один на горе. Мальчуган в своей длинной шинели остался у изваяния Святого Антала. Они простились. Мальчуган, прижимая к себе банку консервов, долго смотрел вслед этому высокому странному солдату, смотрел и думал, что у его отца была такая же походка, и он тоже никогда не оглядывался.
Петер Киш прислонился к дереву. Отсюда до деревни километра три. Дойдет ли он?
В одиночестве расстояния всегда кажутся длиннее. А может, нет на свете ни родной деревни, ни Вероники – все это только плод его взбудораженного воображения и глупых иллюзий?
Впереди – отступающие немцы, сзади – наступающие русские войска. Перед ним – родное село, а за спиной – война. И то, и другое такое далекое-далекое, а кажется, вытяни руку – и сквозь туман дотронешься пальцами до калитки родного дома.
Живы ли соседи? Осталось ли все таким, как год тому назад – неподвижным, словно застывшим в ожидании? Приманивает ли старик Чуторащ с утра до вечера чужих голубей, а господин Пал, лавочник с пятнами на лбу, дает ли еще в долг беднякам? Живы ли старый Шойом и Эстер Мольнар, старая барыня, к которой Вероника ходила на поденщину?
Петер Киш вертит в руках кривую ветку.
На фронте Петер видел много сожженных русских сел. Жители их, словно окаменев, стояли у своих домов – бородатые крестьяне, изможденные женщины и старики с выцветшими глазами. Пепел пожарищ поднимался до самых туч, даже самый воздух, казалось, потрескивал. Пожар рассыпал черные головешки, с домов сползала раскаленная черепица, в самоварах закипала вода, а на следующий день в канавах валялись обгорелые трупы.
Петер Киш сжимает лицо ладонями.
Сейчас март, а последнее письмо Вероники он получил в конце ноября.
Свинцом налились ноги, тяжесть легла на сердце.
Дерево, к которому он прислонился, стройное и сухое, а верхушка, кажется, вот-вот проткнет небо. Петер узнал это дерево. И другое тоже. И следующее. Он хорошо знает их низкие кривые ветки, за которые хватался рукой, перебираясь через канаву, когда ходил к озеру. Рядом Гулачская гора. Справа проходит Кекутская долина, поросшая высокой травой, дальше стоит Шалфельдский холм с большими гладкими базальтовыми плитами на склоне, а слева виднеется коричневая лысина горы Святого Дьердя.
Перед ним в долине родное село. Сто двадцать дворов примостились на склоне горы; обрывы, головокружительные тропки нависли над самым селом. Везде камни, гравий, однобокая долина похожа с горы на бесформенный овраг. В селе всего пятьсот жителей.
Последнее письмо Вероника написала в конце ноября, в нем она снова спрашивала мужа: «Дорогой мой, когда же наконец кончится эта проклятая война?»
Петер прислушивается к тишине. С гор скатывается сердитый лай пушек, но он слышит только стук своего сердца.
Не нужны Петеру ни телега, украшенная цветными лентами, ни прекрасные сны, ни пара серых лошадей. Ничего ему теперь не нужно, кроме домика, обнесенного забором из рейки, да жены. А еще нужна кисточка для бритья, которой он намылит щеки, когда вернется домой. Направит он как следует бритву на старом ремне и, встав перед зеркалом, побреется, и только тогда поверит, что он дома.
Петер одергивает на себе одежду, словно уже стоит на пороге родного дома, и торопливо идет дальше.
Идет все быстрее и быстрее, семеня ногами. Он спешит, бежит, мчится, делая большие прыжки, мелькая между деревьями. Котомка раскачивается у него на боку из стороны в сторону, ветки деревьев больно хлещут его по лицу, ноги то и дело скользят, а он все бежит и бежит.
Миновав заброшенную каменоломню, он бежит по склону горы, поросшей акациями. Бежит, не замечая, что ноги сводит судорога, а в горле так пересохло, что трудно даже дышать; котомка больно бьет его по боку.
У каменоломни под канатной дорогой Петер вдруг замечает, что кто-то стоит между деревьями. Человек то нагибается, то разгибается – темное беспокойное пятно в тумане.
Обхватив ствол дерева и прижавшись к нему, Петер Киш ждет, затаив дыхание.
Кто бы это мог быть? Солдат? Может быть, кто-нибудь из их батареи шел по его следам? Или это жандарм, засевший в засаду и следящий за ним? Неужели его хотят схватить сейчас, в последний момент, в двух шагах от дома? Кто этот человек? Кто отважится стать у него на пути? Кто на этом свете имеет право отослать его обратно на батарею и заставить снова дергать запальный шнур?
Нет. Обратно он не вернется.
Нервным движением Петер полез в вещмешок; зажал в кулаке банку консервов. Если что – ударит. Ударит каждого, кто станет на его пути и захочет помешать ему вернуться домой.
Он уже не дрожит. Назад ему пути нет. Он вернулся домой, и никто не может убить его, никакая сила на земле не может уничтожить его теперь. Несколько минут Петер осторожно, словно зверь, следит за незнакомцем. Затем украдкой подходит ближе и прячется за следующее дерево.
Между двух голых акаций копает яму толстый мужчина в черном пальто. По виду явно не солдат. Копает быстро, отбрасывая землю в кучу.
Петер Киш нетерпеливо следит за каждым движением толстого мужчины в черном пальто, но лица его не видит.
Могилу он копает, что ли? Или закапывает свое добро? А может, роет себе убежище? Односельчанин или чужой?
Петер потихоньку крадется ближе, узнает этого человека в черном и с облегчением вздыхает.
Это Балинт Каша, тесть сельского лавочника, круглолицый с большим ртом и длинными желтыми зубами, которые он всегда скалит, когда смеется. Рядом со школой стоит его низенький дом с подслеповатыми окнами, под горой Чобанц у него десять хольдов виноградника.
А в конце долины – восемь хольдов пашни.
Все это принадлежит Балинту, но человек он хороший, хоть и богат. Его зять, господин Пал, часто давал Веронике в кредит продукты, когда она приходила в лавку. Она редко получала от старика поденную работу, зато он никогда не припирал ее в угол подвала и не приставал к ней, как другие. А ему, Петеру, еще в детские годы, старик разрешал взбираться на старого Гидрана, полуослепшего коня.
Что ему надо в этой рощице?
Петер Киш не боится. Если Балинт Каша нападет на него, он ударит его. Ему тридцать лет, а тестю лавочника – пятьдесят. Толстый, неповоротливый. Такого можно одолеть.
Петер спокойно подходит к старику, крепко сжимая в руке консервную банку и зная, что легко справится с противником. У него есть преимущество: он будет нападать, а тестю лавочника придется обороняться.