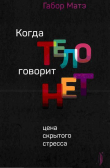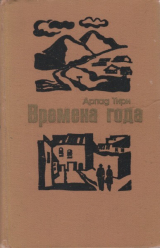
Текст книги "Времена года"
Автор книги: Арпад Тири
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
– Тебя не интересует, почему я решила уехать? – спросила Магда.
– Если ты твердо решила, то все остальное не имеет никакого значения.
– Ты прав. Я все давно и твердо решила.
– Ты решила уехать, потому что тебя обидели?
– Нет. Никто меня не обижал. Но я уеду.
– Ты меня еще любишь? – вдруг спросил Матэ.
– Очень люблю.
– Помнишь нашу комнатку у торговца апельсинами?
– Помню и не забуду никогда.
– Мне тоже порой кажется, что лучше всего сейчас начать новую жизнь где-нибудь на новом месте, – проговорил задумчиво Матэ. – Но я рассчитываю продолжать то, что делал до этого, а не начинать все с нуля.
– В наших отношениях с тобой это уже невозможно, Матэ.
– Что ты говоришь, Магда!
– Здесь мне все напоминает о страданиях, – проговорила она. – У дяди мне будет легче. У меня слезы бегут из глаз, а горло сжимают спазмы, как только я посмотрю на тебя. Стоит мне выглянуть в окно, как мне кажется, что из дома напротив за мной следят. Я не хочу каждую минуту думать о том, что было.
– И поэтому ты решила уехать?
– Да, поэтому.
Матэ взял Магду за руку и тут же опустил.
– Ты хочешь, чтобы и я чувствовал то же, что и ты? – спросил он.
– Нет, не хочу.
«Моя жена собирается уезжать, – думал Матэ, – а я, вместо того чтобы удержать ее, как это сделал бы каждый человек на моем месте, не удерживаю ее. Нужно ее сейчас обнять, поцеловать, наговорить нежных слов. Ведь мне всего-навсего тридцать один год, а я лежу, как бесчувственное полено, боясь пошевелиться, словно самое главное сейчас заключается в том, чтобы я владел собой».
Магда первой нарушила молчание.
– На твоем месте я ни за что на свете не стала бы их просить о чем-нибудь.
– А я и не собираюсь их просить.
– И даже не поехала бы туда.
– А я поеду. Я обязан туда поехать, так как я искал и ищу правду...
– Пойми, тебя здесь не любят. Когда-нибудь ты согласишься, что я была права. Оставь их в покое...
На это Матэ ничего не ответил жене. «Порвать? Оставить все в покое? Об этом не может быть и речи, не так я привык жить, – думал он. – Больших претензий к жизни у меня никогда не было. Мне повезло, что такая девушка, как Магда, стала моей женой. Деньги меня тоже особенно не интересовали, их у меня всегда было мало. Мне и в голову никогда не приходило, что можно скопить себе какое-нибудь состояние. Я любил ездить по стране, поездки питали мою фантазию. Быть может, если бы мне в свое время несколько больше повезло в футболе, моя жизнь сложилась бы иначе. Но мне нечего стыдиться за потерянные три года, они для меня не прошли бесследно. И если бы мне пришлось начинать сначала, я жил бы точно так же. Вот потому я никуда отсюда не уеду, это было бы позорным бегством. К тому же у меня есть вопросы, на которые я именно здесь должен добиться ответов. Что стало бы со мной, если бы я жил в другом городе, работал и встречался с другими людьми. Произошло бы со мной такое или нет? То, что было со мной, случайность или нет? Это мне обязательно нужно знать».
Матэ прекрасно понимал, что жизнь его будет нелегкой, но все же сказал:
– Отсюда я никуда не поеду. Не могу, не имею права сделать это.
Магда молчала, по ее щекам текли слезы. И вдруг словно какая-то сила бросила их друг к другу. Они обнялись как влюбленные, которым суждено вот-вот расстаться...
Спустя неделю Магда с ребенком уехала на Балатон к своему дяде.
В первую ночь, оставшись один, Матэ до самого рассвета не заснул. Даже не ложился. Сидел на кухне, положив локти на стол. Вспоминал подробности отъезда Магды. Тогда его охватило такое чувство, будто в каждом заколоченном гвоздями ящике, в каждой перевязанной веревкой или шпагатом коробке увозили частицу его собственной души и тела. Теперь, вспоминая об отъезде Магды с ребенком, Матэ почувствовал, что острота боли несколько притупилась.
«Они еще и не добрались до дяди, а я уже почти смирился с действительностью», – думал Матэ. Он взял в руки скомканный листок бумаги, вырванный из тетради, и расправил его. Рукой Магды был написан адрес: «Бадачонь – Балдихедь, улица Петефи...» Скомкав листок и бросив его в печку, Матэ подумал: «Это было ее последнее письмо...» Временами Матэ казалось, что отъезд Магды не так сильно расстроил его, но стоило взглянуть на какую-нибудь вещь, до которой еще совсем недавно дотрагивались ее руки, как мысли снова возвращались к ней. Невольно вспоминалось, какой она была в то давнее время, когда на стадионе Крюгер познакомил их. Воспоминания причиняли ему боль. Он хотел не думать о ней, позабыть ее. При взгляде на какую-нибудь вещицу, буль то ситечко от чайника или деревянная шкатулка для сигарет, глиняный горшок с цветком на подоконнике или дешевенький медальон, случайно забытый Магдой, будь то его собственная вещь, о существовании которой он уже забыл, – все эти вещи, как ни странно, уже не имели для него прежнего значения. Они словно уже не принадлежали ему, словно и не было вовсе такого времени, когда он любил их, был привязан к ним. С отъездом Магды все это потеряло свое прежнее значение.
После полуночи Матэ заметил, что огонь в печке погас. Пришлось немало повозиться, чтобы снова разжечь его. Сарая для дров у них не было, и потому дрова хранились прямо на дворе, в поленнице, накрытой сверху толем, но это не спасало их от дождя. Они всегда были сырыми, словно только что из лесу.
Когда печь разгорелась, Матэ достал из кухонного шкафа кастрюлю, в которой они обычно кипятили чай, налил в нее воды. Вода вскипела, и он умылся. Это несколько освежило его. Он долго выбирал, какое полотенце взять, наконец вытащил клетчатое, уронив на пол все остальные. Решил приготовить себе чай. Дело это было для него нелегким: он не знал, где что лежит. В конце концов нашел заварку и бросил ее в кастрюлю.
«Теперь все нужно будет делать самому, – подумал Матэ. – И пусть нам не суждено было остаться с Магдой, и она должна была уехать, но это все же лучше, чем если бы уехать пришлось мне самому».
В шкафу он нашел бутылку с остатками рома. Чай с ромом согрел его. Матэ представил, как завтра после обеда он снова спустится в шахту. Спустится после девятилетнего перерыва. Его радовала предстоящая встреча с шахтерами, которых он хорошо знал и которые, со своей стороны, знали и уважали его. Но он волновался, сможет ли справиться с работой, работать так, чтобы ему не было стыдно перед своими товарищами. Вспомнил он, как старые сотрудники обкома, хорошо знавшие Матэ, обеспокоенные его дальнейшей судьбой, сочувственно говорили:
– Вряд ли тебе стоит идти работать на шахту.
– А куда же я пойду? – удивился Матэ.
– Работу мы тебе и в другом месте найдем.
– На шахте я всегда чувствовал себя как дома. Даже тогда, когда был секретарем райкома. Почему же я теперь должен отказываться от этой работы?
– А как тебя встретят люди, Матэ?.. – сказали ему, разведя руками. – Ты понимаешь, что мы имеем в виду...
Матэ понимал, что именно имели в виду его бывшие коллеги по работе в райкоме. Пока Матэ не видел никакой возможности для сближения с ними, так как они, не забывая о том, что с ним было, отнюдь не пытались понять, почему так случилось. Матэ с нетерпением и полным правом ждал того момента, когда его вызовут в обком и когда те же самые люди скажут ему: «Дорогой наш товарищ, с вами поступили несправедливо: вы этого не заслужили. Мы сами во многом виноваты и признаем это, а теперь разрешите пожать вашу руку, руку честного коммуниста...»
Матэ понимал: все его объяснения, что ему нечего бояться ни людей, ни молвы, до этих людей не дойдут. Они просто не поймут его. Так стоит ли попусту тратить силы?
Он стал искать ручку, чернила, бумагу. Нашел чернильницу, но чернила в ней высохли. Потом в тумбочке нашел бумагу и сломанный карандаш. Бумага была сырой и плохо пахла. Однако все его попытки найти хорошую бумагу успехом не увенчались. Тогда он очинил карандаш и, просушив бумагу над плитой, сел к столу и написал:
«Это письмо я решил написать вам, товарищи, только потому, что хочу знать правду, хочу услышать ее от вас...»
Написав первое письмо, Матэ задумался, куда его послать: прямо в Будапешт или в обком. И поскольку Тако уже не работал в обкоме, да и в области его уже не было, Матэ послал письмо новому секретарю обкома партии. Он надеялся на благоприятный ответ, так как в письме своем был предельно откровенен и ничего не хотел, кроме правды. Сознание выполненного долга, а отправить письмо в обком он считал долгом коммуниста, несколько успокоило его и придало сил терпеливо ждать ответа.
На шахте его никто ни о чем не расспрашивал. Старший подрывной мастер при первой встрече молча протянул ему руку. Крепкое рукопожатие особенно пришлось Матэ по душе. В клети, когда они спускались в шахту, все спокойно смотрели на него, как будто ничего не было и он всего-навсего вернулся из очередного отпуска. Смотрели по-дружески и с уважением.
Бригадир участка, увидев Матэ, склонился над ящиком с инструментом и сделал вид, будто ищет что-то, на самом деле он просто не нашел слов, чтобы заговорить с Матэ. Выпрямившись, он просто и громко сказал:
– Значит, вернулся...
– Вернулся, – ответил Матэ. Он посмотрел всем членам бригады в лицо, чтобы они поняли: он пришел к ним по своей доброй воле и с чистым сердцем.
– Вон там будет твое место. – Бригадир показал Матэ его рабочее место. По голосу бригадира чувствовалось, что он волнуется.
С этого момента жизнь Матэ как бы началась заново. Он снова работал на шахте. Но уже не был прежним Матэ. За прошедшие годы он повзрослел и обогатился жизненным опытом. У него было такое чувство, какое появляется у человека, приехавшего домой после долгого отсутствия, за которое он из ребенка превратился во взрослого мужчину.
Кроме работы, Матэ ничем не интересовался. Работал не жалея сил, как человек, который старается наверстать упущенное. О том, что он отправил в обком письмо, Матэ никому из товарищей не сказал. Он ждал ответа с таким нетерпением, с каким человек ждет решения, от которого зависит его дальнейшая жизнь.
Возвращаясь домой после работы, он прежде всего смотрел, нет ли письма. Временами ему казалось, что он слышит скрип калитки, стук в дверь, больше того, даже слышит, как называют его фамилию, видит, как к нему пришли из обкома и что человек, пришедший к нему, держит в руках письмо, которое он сам отослал в обком. Чувство блаженного удовлетворения охватывало его.
Однако прошел месяц, за ним – второй, а ответа не было. Матэ не знал, как поступить. Идти в обком он не хотел, так как был уверен, что секретарь наверняка получил его письмо: он отослал его заказным письмом с центральной почты. Временами Матэ доставал из кармана почтовую квитанцию, разглядывал дату отправления, словно сомневался в том, что отправил это письмо.
День за днем проходил в ожидании. Он научился терпеливо ждать и радоваться вещам, которые на первый взгляд многим кажутся совсем незначительными, а он-то знал, что люди, не замечающие их, сами себя обкрадывают и порой не способны радоваться не только этим маленьким радостям, но даже большим и значительным.
Когда Матэ работал в первую смену, то вечером готовил для себя все необходимое на утро: начищал башмаки, складывал на стул штаны, рубашку и носки, собирал завтрак. Обедал он в шахтерской столовой, но старался избегать встреч и разговоров со знакомыми. Говорил редко и мало, а если его о чем-нибудь спрашивали, отвечал немногословно. После обеда с первым же автобусом уезжал домой. По пути заходил в магазин и покупал себе что-нибудь на ужин.
Иногда его навещала старшая сестра. Обычно она приезжала к нему в воскресенье, всегда одна, без мужа. Матэ не спрашивал, почему ее муж, который работал в шахтоуправлении в научно-техническом отделе, никогда не приезжает. Сестра прибирала в доме, вытирала пыль со старой некрасивой мебели. Закончив уборку, она садилась напротив брата, и они начинали говорить. Разговор, как правило, клеился плохо, но был необходим им обоим.
Сначала они вспоминали мать, которой им так недоставало. Они до сих пор никак не могли свыкнуться с мыслью, что ее нет в живых. Затем разговор заходил об отце, на которого был очень похож Матэ. И был человек, о котором они никогда не говорили, – это муж сестры, который в глазах Матэ был порядочным человеком, выходцем из настоящей шахтерской семьи.
Вечером, проводив сестру до калитки, Матэ нежно прощался с ней. При этом у него всегда возникало чувство, что они видятся последний раз.
Приближалось рождество. После воскресного визита сестры Матэ чувствовал себя особенно одиноко. Не зажигая огня, он сел к окошку и долго-долго сидел так, глядя на улицу, в это позднее осеннее время выглядевшую особенно уныло. Подумав, он решил написать еще одно письмо. Утром он пошел в город на центральную почту, чтобы отослать его в Будапешт.
И снова потянулись долгие дни и недели, а ответ все не приходил. Бывали минуты, когда Матэ казалось, что на земле нет ни правды, ни справедливости. Опечаленный, ходил он взад-вперед по комнате, но ни разу никому не пожаловался, даже сестре ничего не сказал. К райкому он больше и близко не подходил. Долгими вечерами убеждал себя в том, что нужно набраться терпения и ждать. От сочувственных взглядов окружающих плохо становилось на душе. А они, эти люди, ничего не знающие об отосланных письмах, жалели его, видя, как он стареет у них на глазах. Даже те, кто любил и уважал его, а таких было немало, не знали, чем помочь ему.
Матэ решил никого в свои думы не посвящать и больше никаких писем не писать.
Прошла весна. Постепенно к Матэ вернулось его прежнее спокойствие. Как ему ни трудно было, он все же убедил себя в том, что пока его письма, видимо по каким-то неизвестным причинам, должны остаться без ответа. Но какие это причины, он не мог додуматься. Решил, что от него здесь ничего не зависит.
Погода наконец установилась, настали солнечные, по-настоящему весенние дни. Матэ, радуясь теплу и солнцу, вышел прогуляться. Он медленно шел по глинистой тропке, по обе стороны которой красовались в свежей зелени деревья и кусты.
Проходя между каменными домами, он заглядывал в небольшие дворики, в которых на проволоке сушилось белье. В одном из дворов перед сараем в большой железной бочке мылся знакомый шахтер. Вода выплескивалась на землю, а из кухни раздавался резкий голос женщины, вероятно ругавшей мужа за то, что он не экономит воду.
Матэ шел дальше, здороваясь со знакомыми, завидуя им, как может завидовать одинокий человек семейным людям. Вернувшись домой, он снял рубашку и, вытащив во двор под абрикосовое дерево старое плетеное кресло, в котором по вечерам любила отдыхать мать, удобно расположился в нем. Неожиданный стук в калитку прервал его отдых.
– Не заперто! Входите! – громко крикнул Матэ, не поворачиваясь в сторону калитки; ее все равно не было видно за свежей густой зеленью. Заскрипела и захлопнулась калитка, и Матэ сквозь зелень кустов разглядел фигуру приближающегося к нему мужчины. Это был Крюгер. Не двигаясь с места, Матэ смотрел на Крюгера. От удивления он даже не ответил на приветствие. Смотрел и думал: «Зачем он сюда пришел? Когда я последний раз вспоминал о нем, я решил, что нас больше ничто не связывает».
А Крюгер, не дойдя до Матэ нескольких шагов, остановился. «Сердцем мне очень хочется тебя обнять, но руки почему-то стали такими тяжелыми, что не могут даже пошевелиться», – думал Крюгер. Но он подошел к Матэ и сказал:
– Я приехал по поводу твоих писем.
Матэ вздрогнул, но ничего не ответил, опустив глаза.
За то время, пока они не виделись, Крюгер сильно изменился. Прежним остался только печальный взгляд его голубых глаз, такой же печальный, каким был, когда Крюгер приехал и сообщил Матэ о своей женитьбе.
– В ЦК партии принято постановление о пересмотре всех таких дел.
Матэ молчал. Он ждал от Крюгера таких слов, от которых все станет ясным и понятным. И вдруг он ни с того ни с сего разрыдался.
Крюгер растерялся, почувствовав себя совершенно беспомощным. Ему было больно видеть, как Матэ вытирает кулаками глаза. Он не знал, что нужно делать в таких случаях, и чувствовал свою полную беспомощность.
– Ну довольно, возьми себя в руки, – наконец с трудом выговорил Крюгер.
Матэ поднял голову, однако взгляд его был направлен куда-то вдаль, в сторону сада.
– Ничего я тебе не скажу. Не верю я теперь твоим словам.
Крюгер чувствовал, что это вовсе не он, а совершенно другой человек стоит в растерянности перед Матэ и время от времени вскидывает голову, словно плывет по бурному морю.
«Спрошу, хочет ли он мне еще что-нибудь сказать, и уйду в дом», – подумал Матэ. Закрыв глаза, он глубоко вздохнул, словно готовился к чему-то ответственному. Лицо его покрылось мелкими капельками пота. Страстное желание знать правду заслонило собой и боль и чувство гордости. Перед глазами возникла фигура Магды с выражением вины на лице, затем появились мать с выцветшими старческими глазами и сестренки в платьицах с оборками, словно они собрались на школьный праздник.
– Заходи в дом, – проговорил наконец Матэ после затянувшейся паузы.
В комнате Крюгер в своем темном гражданском костюме показался ему еще ниже ростом и совсем беспомощным. Он был похож на простого служащего. Сразу же сел к столу, как обычно делал раньше. Отодвинул в сторону стеклянную вазу, купленную отцом Матэ на ярмарке еще во время войны. Казалось, он был готов напрямик объяснить цель своего прихода, но молчал. Матэ встал и, сдвинув в сторону постель, присел на край кровати, ожидая, что ему скажет Крюгер.
– Я пришел... – начал было Крюгер, не отводя взгляда от стола.
Матэ молчал. Он был абсолютно спокоен, чувствуя, что пользы от этой встречи с Крюгером будет мало.
– Если хочешь, ты можешь получить должность директора, – сказал Крюгер.
– Я?
– За этим я и приехал.
– Я могу стать директором, если захочу?
– Да, директором.
– Крюгер, я никогда в жизни не был никаким директором.
– А теперь будешь, если захочешь.
– Где? – спросил Матэ, чувствуя, как судорога сжимает ему горло.
– Это уж как ты выберешь, – сказал Крюгер и взглянул Матэ прямо в лицо, надеясь, что самое трудное в этом разговоре уже позади. – В городе Айка есть небольшой металлический завод, на котором трудится двести рабочих. Заводик сам по себе небольшой, но неплохо справляется с планом. В Сольноке можешь работать в транспортном предприятии, а в Веспреме – руководить работой деревообрабатывающего комбината, который из этих трех предприятий является самым крупным.
Матэ печально посмотрел на Крюгера:
– Но я не разбираюсь ни в одной из перечисленных отраслей.
– Научишься.
– Не стану я этому учиться, Крюгер, – печально покачал головой Матэ.
Тон, каким Матэ произнес эту фразу, сказал Крюгеру все.
– От этого ты не откажешься.
– А почему бы и нет?
– А потому, что сейчас речь идет о том, каким из трех предприятий ты согласен руководить, а не о том, согласен ты вообще или не согласен. Надеюсь, ты меня правильно понял?
– Понять-то понял, но предложение твое отвергаю.
– Что с тобой?
– Ничего. Сейчас со мной все в порядке. Видишь ли, я мог бы тебе сказать, что люблю и всегда любил работать на шахте. Ты это хорошо знаешь, так как было время, когда нам обоим нравилось там работать.
– Верно, мне тоже нравилось на шахте, и я этого не забыл, – согласился Крюгер.
– И ты, и я... Видишь ли, Крюгер, могу тебе сказать, что шахтеры очень хорошо относятся ко мне, все равно как к брату. Я работаю в меру своих сил и способностей. Неплохо зарабатываю, жаловаться мне не на что, большего мне не нужно. И на содержание ребенка хватает, и на ремонт дома, и на себя самого, да и запросы у меня скромные. Я, как ты знаешь, никогда за деньгами не гнался... И на половину такой зарплаты вполне мог бы прожить. Шахтеры меня уважают. Вот взгляни на стену. Видишь почетную грамоту стахановца?! Меня наградили ею два месяца назад. По ней можешь судить, что я доволен своей работой и мной довольны, а если бы мне еще сказали правду по поводу прошлого, извинились бы передо мной за старую несправедливость, я был бы просто счастлив. Но ты ко мне приехал совсем не для того, чтобы сказать: «Знаешь, дружище, сейчас всем нам ясно, что ты ни в чем не виноват. По отношению к тебе была совершена несправедливость... И пришло время сказать тебе об этом». Но ты приехал вовсе не для этого, а только для того, чтобы предложить мне стать директором одного из трех предприятий. Но, пойми меня, Крюгер, я вовсе не для этого писал письмо в обком и в Будапешт, чтобы меня назначили директором! Я, Крюгер, и после случившегося остался честным коммунистом, для которого самое главное заключается в правде. Своим предложением стать директором предприятия ты мне голову не закружишь и с моих позиций не собьешь. Если ты это поймешь, то не станешь удивляться, почему я отказываюсь принять твое предложение. Я хочу остаться здесь, в этом городе, на этой шахте и отнюдь не директором. Ни в коем случае...
Все время, пока говорил Матэ, Крюгер молчал, временами дотрагиваясь до стеклянной вазы.
Крюгеру хотелось сказать Матэ: «Ты, Матэ, сейчас кое-чего не понимаешь. Не понимаешь, что до полной реабилитации осталось немного. Положение сейчас особенное, нужно набраться терпения и еще немного подождать». Но, зная Матэ, он понимал, что эти слова сейчас ничего не изменят. Поэтому он молча выслушал Матэ и вымолвил:
– Я тебя понимаю...
Уходя, он хотел обнять Матэ, как делал это раньше, но Матэ каким-то неуловимым жестом отстранил его.
Матэ видел в окно, как Крюгер медленно шел к калитке. И вдруг ему стало стыдно за себя. Он подумал: «Ничего плохого Крюгер мне не сделал. Да и вообще ко всей этой истории он, собственно, не имеет никакого отношения...»
После визита Крюгера Матэ несколько успокоился. Постепенно, день за днем, он отходил все больше и больше, словно оттаивал после долгой заморозки. Теперь, замечая в саду скворца, он радовался, улыбкой отвечал, когда с ним здоровались знакомые.
А 20 октября 1956 года почтальон принес ему телеграмму:
«ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОГО ОКТЯБРЯ ДЕВЯТЬ УТРА ВЫЗЫВАЕТЕСЬ БУДАПЕШТ КОМИССИЮ ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ ЦК ПАРТИИ ПО ДЕЛУ ВАШЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ».
Однако выехать в Будапешт по этой телеграмме Матэ не удалось из-за октябрьских событий, которые стали для него новым испытанием на верность партии и собственным принципам.
С конца лета 1956 года Матэ каждое утро со все возрастающим беспокойством брал в руки газеты. Наскоро просматривая их, удивлялся, а иногда даже не верил своим глазам. Закончив смену, он внимательно перечитывал все статьи. Некоторые фразы перечитывал по нескольку раз, пытаясь вникнуть в их смысл, но тщетно. Порой его охватывало странное и вместе с тем страшное чувство, что он не понимает того, что творится не на шахте, и не в городе, а за их пределами, во всей стране.
24 октября шахтеры, как обычно, спустились в шахту и отработали смену, а на следующий день работа в шахте остановилась.
Придя на шахту, Матэ с удивлением увидел на здании шахтоуправления развевающиеся национальные флаги, с середины которых чья-то недобрая рука вырезала герб Венгерской Народной Республики. А вскоре на шахтный двор въехали грузовики с чужими, странно одетыми людьми. Приехавшие говорили зажигательные речи, говорили невразумительно, но дерзко, куда-то в спешке уезжали и снова возвращались. Краснолицые, словно взбодрили себя несколькими стаканами палинки, они говорили громко, стараясь перекричать друг друга. Грузовики мятежников разъезжали по всему поселку. Несколько молодых шахтеров, которые заглянули в кузова машин, крытых брезентом, увидели там оружие. Один из грузовиков сшиб дорожный знак и даже не остановился. Кое-кто из шахтеров пошел в город, чтобы узнать, что там делается, другие шли без любопытства, сами не зная зачем.
Когда Матэ увидел на стене одного здания контрреволюционный плакат, написанный с орфографическими ошибками, потом еще один, а затем свастику, нарисованную на заборе мелом, он сразу же пошел домой, заперся на ключ и начал настойчиво крутить ручку настройки старенького «телефункена». Всю ночь он жадно слушал радио, пытаясь что-либо понять, ловил и заграничные станции, которые был способен поймать дряхлый радиоприемник, но понял довольно мало. Проанализировав все увиденное и услышанное, он пришел к убеждению, что в стране начался контрреволюционный мятеж.
В тяжелых раздумьях и сомнениях прошел день. Матэ хотелось что-то делать. Желание активной деятельности, зародившись где-то в глубине души, росло с каждым часом. Его так и подмывало встать и пойти в райком партии, чтобы прямо сказать им: «Товарищи, я пришел к вам, чтобы помогать. Вы можете располагать мной. Я готов на все». Но мысль о том, что на него, как и прежде, недоверчиво покосятся, удерживала его от этого шага.
Поздно вечером кто-то громко застучал в калитку дома, где жил Матэ. Приоткрыв занавеску, Матэ посмотрел в окно. Это пришел Бочар, которого Матэ знал еще с того времени, как был секретарем райкома. Тогда Бочар работал в парткоме шахтоуправления. Жил он в шахтерском поселке, и, хотя ему не раз предлагали большую и лучшую квартиру в городе, он не согласился туда переезжать, чем завоевал у шахтеров особую симпатию.
После возвращения в поселок Матэ несколько раз видел Бочара, но поговорить по душам им не пришлось. Они только здоровались при встрече.
Матэ пошел открывать калитку.
– Я уезжаю, – коротко сказал Бочар, внимательно глядя на Матэ, словно стараясь угадать его мысли.
– Куда? – поинтересовался Матэ.
– Еду в обком партии. Быть может, я там понадоблюсь.
Матэ ничего не сказал Бочару. Несколько секунд он смотрел вслед удаляющемуся Бочару.
28 октября Матэ встал очень рано, на улице едва рассвело. Побрился и собрался так, словно отправлялся в дальний путь: надел два теплых свитера, шерстяные носки, сунул в карман табак и бумагу и пошел в город. Идти пришлось пешком, так как автобусы туда уже не ходили. Шел и думал: «Именно в такой день я предстану перед комитетом партийного контроля. Правда, сейчас я иду вовсе не туда, надеюсь, что и здесь, на месте, удастся все выяснить...»
В обкоме партии, куда пришел Матэ, его не донимали расспросами, во-первых, потому, что его здесь хорошо знали, а во-вторых, потому, что в те дни в обком приходили люди, которые хотели найти здесь защиту от всякой контрреволюционной нечисти, или те, кто просил немедленно дать им в руки оружие, чтобы сражаться против контрреволюции.
Матэ послали на третий этаж в угловую комнату к какому-то пожилому мужчине, вместе с которым он должен был наблюдать за площадью. Войдя в указанную комнату, он увидел у окна мужчину, который изучающе взглянул на него, однако от окна не отошел и автомата, который держал в руках, на подоконник не положил.
– Я Шимон Находилски, – представился мужчина. – Фамилия моя, наверное, несколько странно звучит для вас, зато в Европе интернационалисты меня хорошо знают...
Шимон мог часами не отходить от окна, сидеть или стоять не шевелясь, внимательно наблюдая за тем, что происходит на площади. Когда Матэ спрашивал его о чем-нибудь, Шимон делал вид, что не расслышал вопроса.
«Какой-то нелюдимый», – решил сначала Матэ.
У Шимона была привычка поминутно поправлять очки, словно они без этого вот-вот съехали бы у него с носа. Иногда, когда у окна дежурил Матэ, Шимон что-то рисовал на клочках бумаги. Глядя на Шимона, на его свесившуюся на грудь седую голову, морщинистую шею и гордый орлиный профиль, Матэ находил его поведение странным, а порою просто непонятным. Ночью старик начал кричать во сне, бредить. Матэ неподвижно сидел у окна, вглядываясь в ночную тьму. Он уже задремал, как вдруг услышал тихий плач, доносившийся из угла.
«Кто это плачет?» – подумал Матэ. Ведь, кроме них, в комнате никого не было. Да, это плакал старик Шимон.
Утром Матэ молча сдал пост у окна Шимону. Так же молча они позавтракали. Матэ хотелось спросить у Шимона, почему тот плакал ночью, но он не знал, как это сделать потактичнее.
Едва Матэ и Шимон закончили завтракать, как на площадь въехала повозка. Обычно на таких крестьяне возят на базар продукты. В полной тишине отчетливо слышался скрип давно не мазанных колес. Лошадей в городе не было, и повозку толкал, налегая всем телом на дышло, неуклюжий мужчина с лохматой головой. На повозке стоял дощатый гроб. Мужчине помогали два старика, которые одновременно поддерживали друг друга. Они не причитали, не плакали, молча толкали повозку и, казалось, нисколько не интересовались тем, что творилось вокруг.
Матэ подозрительно смотрел из окна на повозку, на гроб, на стариков, не понимая, как и зачем пропустили их в оцепленный район. «Нужно будет спросить Шимона, – думал Матэ, – почему он плакал ночью». Когда повозка проехала мимо здания обкома, Матэ убрал с подоконника автомат, развернул схему прилегающих улиц, которую он за день до этого сам вычертил, принялся ее рассматривать. Затем взял бинокль, который Шимон всегда держал на подоконнике, и внимательно осмотрел местность. Не отходя от окна, сел на пол. Он чувствовал, как усталость навалилась на него, и подумал, что неплохо было бы хорошенько выспаться. Жизнь, возможно, показалась бы после этого не такой мрачной. Его разбирало любопытство, кто же лежал в гробу. И вдруг Матэ обожгла догадка: «А может, в гробу вовсе и не мертвец лежал, а оружие, которое мятежники хотели провезти в оцепленный рабочими район, чтобы в тот же вечер обстреливать из него здание обкома?..»
Примерно в половине десятого Шимон сменил Матэ. Но Матэ от окна не ушел, а даже выглянул на улицу.
– Почему ты не уходинть? – строго спросил его Шимон.
– Хочу поговорить, – ответил Матэ.
– Кто ты такой?
– Был секретарем райкома.
– Почему был?
– Говорю был, значит, был.
– Почему был? Ведь партия живет и борется. Нас никто не разбил.
– Меня разбили, – повернулся к Шимону Матэ.
– Ты что-нибудь натворил? – спросил Шимон, и выражение строгости сошло с его лица.
– Меня хотели принудить, чтобы я сказал неправду об одном старом коммунисте, который двадцать пять лет жил в эмиграции. Он объездил пол-Европы, а когда после освобождения Венгрии вернулся на родину, то попросил дать ему возможность спокойно дожить остатки лет здесь. Работал он продавцом в табачном киоске.
– Только и всего? – Шимон с удивлением взглянул на Матэ.
– Только. Вчера мне нужно было явиться в Будапешт в комиссию партконтроля по делу о моей реабилитации.
– А ты взял да и пришел сюда?
– В Будапешт сейчас все равно не попасть. Вот я и подумал, если туда не могу добраться, так приду сюда, в обком.
– Я тоже застрял в этом городе, можно сказать случайно, и сразу же пришел сюда.
Матэ не знал, о чем говорить еще. Он посмотрел на Шимона и вдруг заметил, что тот держит в руках листок бумаги, на котором детской рукой нарисован пароход. Стоило Матэ увидеть этот детский рисунок, как настроение у него сразу же улучшилось, а старик Шимон показался даже симпатичным.