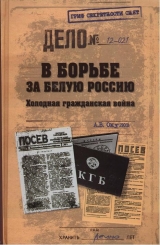
Текст книги "В борьбе за Белую Россию. Холодная гражданская война"
Автор книги: Андрей Окулов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц)
Одну организовал я, вторую – мать. Она стреляла не хуже сыновей.
* * *
Казалось, что даже солнце над этим лесом светило бледно. Я перебросил брезентовый ремень карабина через шею, одну руку положил на ствол, вторую – на приклад. Удобно. Почему серые сюда за грибами не ходят? Спросить бы сейчас у кого-нибудь из них: «Какой калибр? Кстати, ты тут художника с бородой не видел?»
Тут советской власти нет. Она – там, возле шоссе, начинается. Здесь – «независимая лесная территория». Полная экстерриториальность, существующая по причине того, что власть о ней просто не знает. Если узнает – карабин не поможет.
Но у нашей экстерриториальности был и другой недоброжелатель.
После моего отъезда домой оставшиеся обнаружили, что неподалеку от базы живет самый обыкновенный медведь. Днем он близко подходить боялся – чуял запах металла и пороха. Зато ночью, когда жители лагеря ложились спать, лохматый злодей начинал ломать кусты вокруг. Ребята хватались за винтовки, но медведь – тоже не дурак, попугает и уйдет: «Спокойной ночи, малыши!» Новую базу решили назвать «Медвежьей».
* * *
Разговорились с Хозяином о военной символике. Он рассказывал, что приходилось находить полуистлевшие немецкие знамена. И вдруг спросил:
– А какой он, русский флаг? Не советский, а русский?
– Бело-сине-красный.
– Может, сшить да и повесить над лагерем?
Мне пора. С карабином расставаться жалко. Ничего, я уже подыскал трехлинейку – один металл, все деревянные части давно сгнили. Спилил березу и начал мастерить ложу и приклад-рукоятку пистолетного образца, с вырезами для пальцев. Евгеньич обещал доделать мой кошенной обрез».
Хозяин проводил до поворота, дальше найду дорогу сам.
– Значит, бело-сине-красный?
На шоссе я поймал попутную машину.
* * *
В чем нас можно обвинить?
Терроризм – бред. Даже не планировали. В кого стрелять – в гебистов? Так они все одинаковые – от Андропова и до последнего стукача. И соревноваться с ними в терроре бесполезно, у них опыта больше. Да и патронов, кстати. Может, сразу – в Брежнева? Я вчера его выступление по телевидению видел, но совсем не уверен, что он жив.
На нашей совести – несколько простреленных деревьев и немного сомнительной экстерриториальности.
Еще – недостроенная база и неосуществленные планы. Может быть, именно в этом – наша главная вина.
* * *
В последний раз я был на «Медвежьей» в ноябре 79-го, в день моего девятнадцатилетия. Алька меня потащила Евгеньича искать – пропал куда-то.
На придорожном указателе знака не было, но она все равно настояла на девятикилометровом марафоне по болоту.
Кое-где лежал мокрый снег, озеро замерзло. Береза, три дерева, мы – на месте.
Пятиугольник не достроен и до половины. Евгеньича нет. Под жердями я отыскал полиэтиленовый сверток. Старый трофейщик из «Ленинградской банды» не обманул – обрез сидел в руке как влитой. Я открыл затвор – один патрон. Это был мой последний выстрел в серое небо над Мясным Бором.
С днем рождения!
Пора назад. Просеку возле берега уже припорошило. На снегу – огромные следы медвежьих лап. Вот он – истинный хозяин базы!
* * *
Вы видели когда-нибудь живого «врага советской власти и ленинского общественного строя»? Вон – один по Невскому идет. Почему именно он? Посмотрите повнимательнее: у него из кармана рукоятка пистолета торчит. Потому что конспиратор – хреновый. Мог бы и получше спрятать.
Пришел домой, сунул пистолет за диван. Вдруг – телефонный звонок. Это наш участковый милиционер беспокоит, говорит: «Зайди, разговор есть». Ладно, думаю, отчего не зайти? Может, кто из соседей поскандалил или еще какая бытовая мелочь.
Пришел. Он сразу:
– Где мать?
– К родственникам, – говорю, – уехала, в Одессу.
– В Одессу? С какого вокзала?
– С Московского.
– Ну? – «Страж порядка» довольно осклабился. – Так ведь не ходят с Московского поезда на Одессу. Как же так?
– Она через Херсон поехала.
– А-а-а…
Что, думал – поймал? Что мать забыла в твоей Одессе, на «Медвежьей» она.
Участковый разговор «за жизнь» продолжает: прописалась ли мать после возвращения из лагеря и когда думает это делать. И прочую канитель. А сам все пишет что-то. Потом говорит:
– Ну, раз так, на – подпиши!
Читаю. Это был донос на мою мать, от моего лица написанный.
– На основании чего?
– Вот, – он потряс в воздухе стопку листков из календаря, – у меня все документы на этот счет имеются!
– Можно посмотреть?
– Нечего тебе на них смотреть!
– Тогда и подписывать не буду.
– Щенок! Нашел где правду искать!
Удар. Я кубарем вылетел на улицу. Сам виноват – нужно было без официальной повестки не являться. Ударил не сильно. Приятеля моего Толика в отделении милиции до полусмерти избили. Другому приятелю хуже пришлось – его свернутым в жгут мокрым полотенцем стегали по голой спине. Это на милицейском жаргоне «морковка» называется. Синяков никаких, а боль – адская.
Значит, не оставят они нас в покое, если и милицию подключили.
* * *
Невский, 59… Двор… Знаменитый «59-й двор». Чем он знаменит?
Во-первых, овощным магазином. Во-вторых, ящиками, то есть тарой, которую из этого магазина выбрасывают во двор.
Идут по Невскому трое. У всех на уме одно – немного уединения и уюта, потому что бутылка уже в кармане. Гостеприимство «59-го» славится во всех прилегающих районах. Ворота двора всегда открыты, метро недалеко.
Один ящик – в центр, газетку расстелили, с трех других смахнули снег или пыль – в зависимости от сезона – расставили но вкусу. У грузчика из магазина можно огурчик-помидорчик выпросить. Осмотрелись – милиции не видно? Тогда можно начинать.
И разговор потечет, почти но Достоевскому: есть ли на свете правда и где ее искать, умер Брежнев или только притворяется, а то еще сложнее – соберем мелочи на продолжение разговора или нет? Может, на огонек местный житель Профиль заглянет. Это его за физический облик так прозвали. Худющий – анфас в темноте можно не заметить. Он одну песню очень любит, из кинофильма. Взмахнет рукой в фуфайке и затянет: «Русское по-о-оле! Мать вашу…» Строчка мата – и дальше поет.
На Невском – туристы, приезжие, фарцовщики, просто прохожие – суета. А тут – оазис душевного покоя в море городской толчеи.
Я уже заканчивал обучение ювелирному делу. Насколько его можно изучить за три года. Сделал для приятеля серебряный перстень с двуглавым орлом. Несложно – орла выпилил из дореволюционной серебряной монеты. Остальным друзьям такие же захотелось.
Деньги с них брать неудобно, договорились: перстень с орлом– бутылка коньяка.
Этот «двуглавый» перстень Толик впоследствии сломает в драке, но тогда – надел на палец. Подошел. Бутылку коньяка – на стол, народ собрался.
Коньяк кончился. Что бы такое придумать?
– Ну, – говорю, – берите машинку, бумагу – декларацию писать будем.
– Какую декларацию?
– Независимости!
Диктую, печатают:
«В соответствии с ленинским принципом о нраве нации на самоопределение вплоть до отделения, мы, граждане “Республики 59-й двор”, считая себя вполне сформировавшейся нацией, имеющей свою территорию; свой язык, не схожий пи с одним другим из известных лингвистам; неудержимое стремление к свободе, – заявляем о своем отделении от Советского Союза и провозглашении независимости “Республики 59-й двор”!
Требуем: немедленного вывода с территории республики всех оккупационных войск и приема нас в действительные члены Организации Объединенных Наций!»
Далее шли подписи членов правительства. Я стал министром иностранных дел, мой брат – министром сельского хозяйства, вечно нетрезвый Ханурик изъявил желание возглавить министерство путей сообщения. Лёник тоже приобрел какой-то пост и подписался на английский манер: «Леон Рэлтон». Копии декларации поделили между министрами и разошлись.
Толику с Артуром коньяка показалось мало. Они добавили на стороне и хотели поймать такси, чтобы добраться до дому. Вместо такси им попалась милицейская машина. Двух малолетних алкоголиков привезли в отделение, обыскали. На пол упала декларация.
Милиционеры всполошились:
– Здесь политикой пахнет! Кто такой Леон Рэлтон – иностранный резидент?
На следующее утро мать сидит и разбирает посылку с Запада. Через «канал» переправили пакет нелегальной литературы.
Братец открыл дверь своим ключом.
– А, вернулся! – Мать подняла голову и собиралась спросить, где его носило до утра, но тут все прояснилось само собой: вслед за Артуром в комнату вошли офицер милиции и серый в штатском. Матушка быстро прикрыла полами халата литературу и не вставала с дивана до окончания разговора.
– Мало того что сынок ваш пьет, так он еще и декларации распространяет! Здесь видна направляющая рука кого-то из взрослых: видите, как вся гладко сформулировано? Сынок ваш министром сельского хозяйства решил стать, а сам, наверное, думает, что молоко на нолях прямо в бутылках растет!
Вскоре вызывают мать в Большой дом:
– Юлия Николаевна, уезжать надо! У нас инструкция – чтобы до Олимпийских игр в городе таких, как вы, не осталось. Не хотите на Запад – поедете на Восток!
Под конец разговора выкладывает на стол нашу декларацию:
– Что это такое?
– Это – шутка.
– Мы понимаем, что это – шутка. Но в нашем городе, Юлия Николаевна, так шутят только ваши дети!
* * *
Кольцо сжимается. В училище моем странные вещи начались. То – в отличниках ходил, а то – двойки посыпались, хотя до диплома оставалось совсем недолго.
Поднимаюсь по лестнице, один из учителей за рукав хватает:
– Никому не говори, но в учительскую из КГБ звонили, про тебя что-то рассказывали такое, что завуч охала и за сердце хваталась!
Все ясно – серые опять пакостят. Вызывают меня к завучу. Типичная классная дама советского образца – губы поджаты, на носу – очки.
– Придумывать ничего не буду – учишься ты хорошо. Но нам прислана бумага, согласно которой мы обязаны тебя исключить. Причина тебе известна?
– Догадываюсь.
– Тогда дело упрощается. Твои документы – здесь.
Все оказалось очень просто. Пока учился, у меня была отсрочка от армии. После исключения – могут призвать в любую минуту. Афганистан уже начался…
По возвращении из лагеря матушка увлеклась феминизмом. Еще оправдывалась. Смысл, дескать, в том, что «наш феминизм» – совсем другой. Это на Западе тамошние обалдевшие бабы борются за право мочиться в мужском писсуаре. Мы должны поднять вопросы о положении женщин, о состоянии родильных домов, о занятости женщин на неженских работах…
Вроде все правильно. Они с подругами начали самиздатский журнал выпускать, этим самым проблемам посвященный. Серые всполошились.
По ходу дела выяснилось, что «русский феминизм» каждая из основательниц понимает по-своему. Одна пытается на первое место поставить социальный аспект, другая – религиозный, третья —…
Муж одной заболевшей феминистки прибежал на заседание их клуба. Его не пускают – «только для женщин».
Он вспылил:
– Нельзя же отвергать человека из-за маленького физического недостатка!
А матушка ему отвечает:
– По поводу вашего маленького физического недостатка передайте наши соболезнования вашей жене!
Другая феминистка прислала статью в эмигрантскую газету. Заканчивалась она такими словами: «По всей Европе стоят памятники неизвестному солдату. Но нигде нет памятника девушке, изнасилованной неизвестным солдатом!»
Все правильно, тетеньки. И власти на вас обозлились – тоже правильно, потому что вы с ними не но правилам играть вздумали. И сажали вас, и высылали…
Только если бы вы тогда занялись оппозиционной филателией, вас бы тоже посадили!
* * *
Этот последний обыск мы назвали в честь скучнейшего советского телесериала – «Семнадцать мгновений весны». Он длился ровно семнадцать часов.
Я ночевал у бабушки. Утром – звонок в дверь. Открываю – стоит отец, с ним – два типа в меховых шапках. Отец смеется:
– За тобой!
Они и вправду за мной.
Пока одеваюсь, один серый спрашивает:
– Что, Андрей, придется тебе на Запад отъезжать. Чем там заниматься собираешься?
– Не знаю.
– Ну, смотри, будь осторожнее. Не забывай, что отец твой здесь остается. Будешь хорошо себя вести – с ним ничего не случится.
Ну, думаю, не на того напал.
– Ладно, отец. Придется тобой пожертвовать!
Отец смеется:
– Жертвуй!
Гебист шутки не оценил, торопит. В нашей квартире на Жуковской обыск идет полным ходом. Все вверх дном перевернули. Над подносом с песком, что для рыжего кота в углу поставлен, – портрет Андропова висит. Гебисты сняли своего шефа, перевернули и читают «дарственную надпись»: «Юлии Николаевне Вознесенской за нашу совместную работу в общем деле № 62» и подпись: «Юрий Андропов». Вертят они портрет в руках и не знают – что с ним делать. Решили конфисковать, хотят в протокол занести, а мать им говорит:
– Так и запишите: «Конфискован портрет шефа КГБ».
Они задергались, портрет в сторону отложили. Я стою на кухне. Выходит из комнаты еще один серый – и к посудному шкафу. Открывает, а там – гора кастрюль и пакет полиэтиленовый. Гебист брезгливо потряс одну кастрюлю – звенит, потряс другую – тоже звенит, пакет – такой же звон. Он шкаф закрыл и ушел в комнату. Их интересовало то, что шуршит, – бумаги искали.
Можно дух перевести: в пакетике том звонком – летучая мина, запчасти к автомату и винтовочные патроны. Сувениры из Мясного Бора. Хорошо, что КГБ работает как и вся советская экономика, а то бы для них сейчас повод найти и обвинить нас всех в терроризме – лакомое дело.
Рыжеватый подполковник протокол пишет: «Конфискован листик машинописного текста, озаглавленный “Донос в КГБ”».
Текст данного документа гласил:
«Я, ниженеподписавшийся, считаю своим долгом сообщить, что некие Артур и Альбина решили написать протест “В защиту всех униженных и оскорбленных”. Прошу Вас не допустить этого акта вандализма и засадить обоих в тюрьму “Кресты”, вместе с моей соседкой Гранькой, за то, что она, падла, свет за собой в уборной не гасит. А холодильник мне ни к чему, так как я плавать не умею».
Наибольшую озабоченность вызвал у серых найденный за диваном сверток написанных от руки тетрадных страниц. Это мы в пьяной компании друзей играли в подобие «чепухи»: пишешь фразу, передаешь соседу, тот дописывает свою, загибаешь листочек так, чтобы первой не было видно, и передаешь следующему. Так – пока лист не кончится. Можно себе представить художественный уровень этих литературных произведений, если творили подвыпившие подростки, а главными действующими лицами были «Мент поганый» и «Гебист посратый»!
Подполковник пишет: «Обнаружено несколько листков рукописи непристойного содержания, озаглавленной…» И замер: все заголовки – матерные, как же обозначить эту антисоветчину?
Лейтенантик сидит на диване и разбирает гору папок – страниц по сто в каждой. Ему, бедному, каждый листик записывать! Он быстренько посмотрел на начальника своего – тот в протокол углубился. Тогда ленивый лейтенант папку на пол роняет и ногой ее – под диван. Потом вторую – туда же. Не сидеть же еще десять часов над этой грудой. Ему тоже домой хочется.
Делать нечего – во время обыска с квартиры не отпускают. От скуки затеял политическую дискуссию с одним из мелких чинов. Тот через пять минут сдался и устало так говорит:
– А, что с вами спорить? Все равно у вас подготовка лучше!
Набрали мешок бумаг и ушли.
* * *
Мать прибегает к знакомым и говорит:
– Домой не возвращайся. За тобой с солдатами приходили. Я была в Большом доме, они требуют, чтобы мы уезжали, в противном случае меня – в лагерь, тебя – в Афганистан.
Какой Афганистан с моей биографией? Это они для устрашения. Призовут в армию, направят в строительные части и устроят соответствующую обстановку, чтобы жизнь сказкой не казалась. А так как я все равно служить откажусь… Выходит – сидеть?
Улица Канонерская, дом 18. Вечно закрытый пункт приема стеклотары. Железные ступеньки до уровня второго этажа – и дверь. Без номера. Потому что формально этой квартиры как бы и нет. Не живет здесь никто.
Ничего подобного – здесь Петрович живет. Бородатый, сутулый, то хмурый, то – лукаво-добрый. Он – мастер. Какой? Просто мастер. Ювелир, художник, реставратор, специалист по финифти и подделке документов. Есть еще в России такие.
Я тут не живу, я тут прячусь. Нужно было куда-то занырнуть. Спасибо – есть Петрович, он и приютил. Здесь меня не скоро найдут – нет такой квартиры, не значится она нигде.
Петрович рассказывает: «Собрал я известные портреты родственников Петра Первого, сравнил, прикинул. Подобрал медную пластинку – медь финифти нужный оттенок дает. Сделал портрет матери царя. Потом продал одному знакомому. А через некоторое время мне приносят исторический журнал – “Обнаружен финифтяный портрет матери Петра”! На фотографии – моя работа. Мне не жалко – пусть историки стараются!»
Сижу месяц. Вдруг – прибегает Алька:
– Евгеньича схватили! Прямо на улице – он в психушке. Меня предупредили, что я – следующая. Петрович, спрячешь?
Ладно, согласен Петрович. Алька говорит, что с ее паспортом и по улице ходить опасно.
Петрович куда-то ушел, вернулся только к вечеру. Достает из сумки пачку паспортов и говорит:
– Вот. Теперь ты – Данилова, тебе – 35 лет!
Алька возмущается:
– Неужели я такая старая?
– Ладно, – хозяин достает новый паспорт, – тебе – 22, но живешь ты в Куйбышеве.
Алька опять недовольна:
– Нельзя ли с ленинградской пропиской?
Наконец подобрали. Петрович фотографию бритвой срезал, Алькину наклеил. Я спрашиваю:
– А как давленую печать делать будешь?
– Ну, смотри, – взял хозяин трамбовку зубоврачебную, которой пломбы делают, и аккуратно вывел на фотографии: «ПАСПОРТ». Владей!
Остальные паспорта он унес. Потом рассказал, что купил документ у знакомых уголовничков, 25 рублей за штуку берут. Он сначала думал, что те паспорта у зевак из карманов тащат, но уголовнички объяснили, что это – ни к чему. В каждом отделении милиции есть сейф с утерянными документами. Вот они ночью в отделение влезают, сейф взламывают и уносят целую пачку паспортов. Если и наврали – придумано ловко.
* * *
Днем на улицу я выходил редко – опасался. Сидеть втроем на конспиративной квартире и обмениваться впечатлениями – только портить друг другу нервы.
Однажды утром Петрович ушел из дома и исчез. Алька нервничает, курит сигареты одну за другой:
– Что с ним могло стрястись?!
Вечером слышим – кто-то тихонько открывает ключом дверь. Алька сразу схватила свой фальшивый паспорт и засунула его за диван: а вдруг сразу догадаются, что не настоящий, – еще хуже будет. Вот она, женская логика, – спрашивается, зачем тогда Петрович старался?
В прихожей – топот нескольких ног, потом мужской голос шепотом командует: «Раз, два, три!»
И пьяные голоса грянули:
Мы сдали того фраера
Войскам НКВД,
С тех пор его по тюрьмам
Я не встречал нигде!
Просто хозяин загулял и вернулся на конспиративную квартиру с компанией.
Водку разлили. Один из хмельных пришельцев говорит мне:
– От властей прячешься? Это – дело. Подожди, пока всесоюзный розыск объявят, тогда точно найдут!
Спасибо, друг, утешил.
Гости разошлись, Петрович о будущем рассуждать начал:
– Когда избавимся от большевизма окончательно и бесповоротно, устроим в Санкт-Петербурге праздничный бал. Я и костюмчик для этого случая храню. Смотри! – Открыл шкаф и облачился в черную жилетку. – Не думай, не советская. – Отогнул лацкан – фабричное клеймо с золотым двухглавым орлом.
Интересно, сколько же лет ее от моли сберегали?
А Петрович опять мечтает:
– За то, что я вас прятал, назначите меня главным звонарем города. Буду лично все колокольни инспектировать, чтоб знали, как с колоколами правильно обращаться!
* * *
Евгеньича нужно выручать. По нынешним временам он из психбольницы вообще не вылезет. Одним не справиться.
Алька знакома с хиппи-коммунарами. Скоро один из них появился на нашей конспиративной квартире. Томми – это его кличка. Высокий, худой, все время смущенно улыбается.
– Так кто же вы, наконец? Троцкисты, анархисты, маоисты?
– Ну, мы все понемножку, полную программу еще не составили, но самое главное – мы против государственного капитализма. Мы согласны, что прежде всего нужно добиваться в стране демократического режима но образцу западных, но мы считаем это только первым этаном но пути к достижению полной демократии.
Что это за «полная» демократия, я так и не понял.
Год назад трое из них попались на листовках – призывали к борьбе против «государственного капитализма». Перед этим они успели написать два лозунга на стене зданий на Петроградской стороне: «Долой государственный капитализм!» и «Демократия – не демагогия!»
Наши хиппи здорово отличаются от западных. Они вес слишком всерьез принимают. На Западе молодой бездельник отпустит волосы, вступит в «коммуну» с целью вдосталь покурить «травки» и потрахаться на свежем воздухе. Лет в тридцать, а то и раньше опомнится, подстрижется, купит приличный костюм, устроится в фирму разморозки холодильников и будет ездить на «Мерседесе».
Наших хиппи («система», как они сами себя называют) прежде всего могут и посадить – в условиях реального социализма для них экологической ниши не предусмотрено. Во-вторых, они все время что-то ищут – то ли свою идеологию, то ли дорогу к вере. Иногда им кажется, что они учатся у западных молодежных движений. Но языки все знают плохо, поэтому часто их авторизованный перевод чужих глубоких мыслей оказывается лучше и сложнее оригинала. Или – настолько непонятен, что каждый трактует его по-своему.
После революции в России повысилось качество переводов иностранной литературы. Даже сегодня чувствуется.
Когда наступило время отвечать за написанное не только перед читателем, но и перед «критиками в штатском», много талантливых людей ушли в переводчики. Эго тоже творчество, но никто не сможет' навязать автору сюжетную линию, совпадающую с генеральной линией партии или вызвать в серое здание за те или иные высказывания героев книги.
Томми продолжает:
– Было несколько коммун на городских квартирах. Но здесь контроль проще – разогнали. Решили основать коммуну в лесу. Нашли заброшенную деревню, собрали людей. Через некоторое время местный лесник проходил мимо. Видит – странные длинноволосые личности пашут землю и поют незнакомые песни. Он привел милицию, и коммуна кончилась.
Я всегда считал, хиппи – пацифисты, но Томми сразу согласился участвовать в налете на психбольницу. Заготовили дубинки – на случай, если санитары всполошатся. Мать ходила на свидания к Евгеньичу и разведала возможный маршрут побега.
Самая большая сложность – стальная калитка позади больницы.
Скоро на квартире Петровича появился рябой мужичок Саша, который деловито стал нам объяснять, как нужно правильно взламывать стальные двери, и показал набор необходимых для этого инструментов. Это знание дела вселило в меня некоторые сомнения по поводу его истинной профессии. Саша их сразу подтвердил рассказом о своем последнем взломе магазина, откуда ему пришлось бежать прямо сквозь стеклянную витрину и окровавленным добираться до дома через ночной город. Саша заверил, что все это было давно и теперь такой ерундой не занимается: «Ей-богу!»
– Но раз политика, тогда – конечно! Хорошего человека освободить – это непременно. Можно молодость вспомнить… Я еще мальчишкой был, Фидель Кастро с визитом приехал. Едет он с Хрущевым в черном автомобиле, а мы с дружком на крыше сидим, кирпичи в руках. Прицелились хорошо, но траекторию не рассчитали – а то бы в историю попали. Но милиция потом за нами долго по крышам гналась…
– Саша, а ты не заливаешь?
– Нет, если политика, тогда – конечно! Но лично – за террор. Но бескровный. В чем наша беда? Пьет народ и политикой не интересуется, большевики его дальше спаивают. Нужно взрывать винно-водочные склады! Тогда народ перестанет пить, начнет думать – тут и до революции недалеко.
Все готово. Ждем сигнала.
Он пришел: в последний день перед запланированным налетом Евгеньича перевели в другую психбольницу.
* * *
Почти три месяца на квартире, которой формально нет. Долго не протяну – найдут.
Мать согласилась на эмиграцию. Даже здесь все не как у людей: вызов гостевой, из Америки. Выездная виза – израильская, постоянная. В разрешении на выезд написано: «Разрешается выезд в государство Израиль (США)». Никогда о таком государстве не слышал.
Проводы проходили на той же самой квартире. В середине вечера меня проводили к месту встречи у магазина «Океан».
Май месяц, но еще свежо. На углу стоял худощавый человек в джинсах и переминался с ноги на ногу.
Он – диссидент со стажем, первый срок получил за протест против вторжения в Чехословакию в 1968-м. Я вспомнил деревню и радио за стеной.
Мы шли по пустым улицам. Последняя прогулка по Питеру…
У него странная кличка – Валенок. Наверное, за его восторженность.
– Будь уверен, брежневские времена кончатся, и придет ему на смену наш Дубчек-реформатор. Нужно только это время протянуть. Нам необходима множительная техника, без своей печатной базы – не выжить. Запад должен нам помочь. Эмиграция – она сохранила истинную Россию, у нее есть возможности, деньги… Нужно наладить канал для переправки…
Ну вот: Евгеньич пророчит скорый хаос, Валенок – генерального секретаря-реформатора. Откуда у них столько кофейной гущи для бесконечных гаданий и прогнозов на будущее? Зато запросы одинаковые: множительная техника, портативные рации… Только откуда такая уверенность, что все это так просто достать и переправить?
Ветер подул сильнее, мы даже продрогли немного. Ничего, ветер свежий, майский.
* * *
В аэропорту – толпа народа. Странное впечатление, что половина – наших, половина – серых.
Так, наверное, встречаются шпионы разных государств на международной конференции: они знают, что это – мы, мы знаем, что это – они, но притворяемся, что друг с другом незнакомы.
Отец начал снимать проводы. Милиция пленку отобрала. Тогда мать говорит, что, пока пленку не вернут, она не улетит. И толпа друзей скандирует: «Пленку! Пленку!» Личность в сером плаще подбегает к милиционерам и объясняет им что-то. Те сразу скисли и пленку вернули. У серых задание – чтобы нас здесь не было, а стражи порядка из-за какой-то плешей всю малину портят.
Вылет задерживался. Таможенники но привычке начали хамить, и мы с ними чуть не подрались. Опять серые прибежали, говорят:
– Не задерживайте, пусть летят!
Взлет. Вот и все?
Эмиграция – это когда тебе разрешают попользоваться чужой свободой и благополучием, а взамен отбирают все остальное.
* * *
Евгеньич недолго сидел. Однажды утром забирают его и везут в тюрьму. Туда пришел парикмахер и попытался из его коротко остриженных волос сделать подобие прически. Потом костюмчик выдали, не шикарный, но приличный. Фотограф пришел, щелкнул камерой несколько раз. Евгеньич пытается разузнать – зачем все это? Молчат.
Догадался, когда в сопровождении двух серых его повезли в аэропорт. В самолете он вырвался и на ломаном английском попросил других пассажиров вызвать полицию. Говорит:
– Не хочу уезжать из России!
На венском аэродроме к самолету подошел удивленный австрийский полицейский:
– Нормальные люда бегут оттуда кто как может, а этот – упирается и просится назад!
Серые выволокли своего подопечного на летное поле и бросили. Один из них достал из кармана выездную визу с фотографией Евгеньича (вот зачем фотографа вызывали!) и отдал ее полицейскому:
– Этот человек живет теперь здесь!
Серые скрылись в самолете. Евгеньич остался. Когда мы встретились, я у него спрашиваю:
– Помнишь наш спор о том, сколько все это продлится? Гони рубль!
Оп засмеялся и достал припрятанную пятерку:
– Думал, в тюрьме пригодится. Возьми – на пять споров вперед!
– Распишись, а то мне не поверят, что ты проспорил!
Я потом долго хранил эту синюю бумажку с расплывшейся чернильной подписью Евгеньича. Она потерялась во время одного из переездов – не то в Париже, не то в Лондоне.
Среди многочисленных наказов и просьб Евгеньича и Валенка был один особенный: никаких контактов с той самой русской эмигрантской организацией. Про нее ходит много страшных слухов и легат. Может быть, потому, что она практически – единственная.
Как раз этот наказ я и нарушил.
Венское кафе. Мы сидели втроем за выставленным на улицу столиком. Я, Евгеньич и седой связной в черной рубашке. Из той самой организации. Он родился в Китае, в казачьей семье, но язык не забыл. Встретишь его на улице Питера и не подумаешь, что паспорт у него – австралийский.
Связной достал из сумки две портативные рации. С множительной техникой – сложнее, нужно подумать.
Евгеньич начал играть в «топкую дипломатию» – ходил вокруг да около, а смысл сводился тому, что «я и сам все организую – и каналы для переправки, и связи на высшем уровне, и множительную технику. Связь с вашей организацией мне ни к чему!» Независимый и самостоятельный. Связной долго намекал на то, что дело – общее, люди в стране помощи ждут и так далее. Пока ему не надоело.
Евгеньич уехал в Париж – связи и каналы налаживать. Так до сих пор и налаживает.
Евгеньич никогда ничего до конца не доводил.
* * *
Я очень люблю острова. Не все, а те, на которых есть хоть немножко автономии, обособленности, самобытности. Пусть даже поверхностно.
Сент-Питер-Порт – столица острова Гернсея. Создается впечатление, что этот кусок суши взял лучшее от Англии и Франции: не так грязно, как в Париже, дома выбелены, и кормят лучше, чем в Лондоне. Вокруг – Ла-Манш, а по набережной гуляешь под пальмами из-за теплого морского течения. У Англии никогда не было конституции, а здесь есть. В Общий рынок не входят, налоговая политика – своя, поэтому все дешево, и английские миллионеры с удовольствием переезжают сюда, чтобы поменьше налогов платить. Британской короне подчиняются, а британскому парламенту – нет! Деньги тоже свои, но того же размера и достоинства, что и английские фунты, можно платать и теми и другими – если они у тебя вообще есть.
Неподалеку – остров Сарк. Там просто феодализм. Правит сеньор, на острове – ни одного автомобиля, чтобы спать своим шумом не мешали. Рассказывают легенду, что мать нынешнего сеньора во время немецкой оккупации не пустила во дворец двух немецких офицеров, потому что они на ковре в прихожей наследили.
Армия им своя ни к чему, внешняя политика – вообще вещь излишняя. Можно себе представить, во сколько же обойдется местным жителям оплачивать послов во все страны и содержать собственных представителей в ООН!
Спросишь у них: «Когда вас Англия завоевала?» А они в ответ: «Это мы Англию завоевали». Ведь Нормандские острова – часть домена Вильгельма Завоевателя!
Слева – Англия, справа – Франция. Никуда островам от них не уплыть, но они нашли свое место в Ла-Манше и вполне им довольны. А мы?
* * *
Поезд шел по Фландрии. За окном – поля, коровы, дождь.
– Далеко еще до города Уи? – спросил я у проводника.







