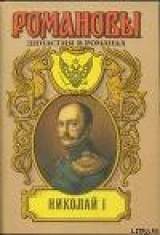
Текст книги "Николай I"
Автор книги: Андрей Сахаров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 58 страниц)
Уже давно собственная жизнь стала представляться Евгению Петровичу как бы птицей, у которой перебили одно крыло. Такими же жалкими и беспомощными, как и у той, попытками взлететь казались ему старания отделаться от чего-то, мешавшего ему жить, ходить, видеть, интересоваться жизнью. Выглядел он постоянно страшно озабоченным, страшно занятым, хотя на самом деле никаких особых забот, никаких неразрешённых вопросов у него теперь не бывало.
За пять лет совместной службы с Бенкендорфом он так освоился с кругом тех дел, которые были поручены его ведению, так привык с полуслова понимать волю и желания своего начальника, что служба казалась таким же несложным, не обременяющим никакой думой занятием, как сон или принятие пищи. Правда, было и ещё одно обстоятельство, делавшее её не только не обременительной, но даже приятной. Он полюбил Бенкендорфа. Как и когда это произошло – он не сумел бы рассказать и себе, но вызвать на его лице улыбку каким-нибудь по собственному побуждению сделанным распоряжением, услышать похвалу или одобрение доставляло ему настоящую радость.
Он не возмутился внутренне, не поспешил уклониться от откровенности, когда весной прошлого, 1840 года, в первый раз за всё время совместной с ним службы, граф завёл с ним разговор об его семейных делах.
Бенкендорф, очевидно, давно уже заметил и оценил новое отношение к себе со стороны своего адъютанта и фаворита. Но тем не менее приступил он к этому разговору весьма и весьма осторожно. Он начал с того, что похвалил внешний вид Самсонова, подивился, чему бы приписать его ещё недавнюю удручённость и подавленность, и только потом, как бы невзначай, спросил:
– А кстати, mon cher, где сейчас твоя жена? Помнится, ты куда-то её отправлял?
Самсонов ответил, что жена на водах, на Кавказе, что здоровье её как будто поправляется, что сам он выглядит таким весёлым и бодрым, вероятно, оттого, что имеет возможность упиваться самой подлинной радостью, наблюдая, как подрастает его маленький сын, который «решительно во всём походит на него…»
Бенкендорф заговорил о сыне, Самсонов даже не заметил, как его принципал с разговора об его сыне перешёл на сыновей вообще, на растущее и подрастающее поколение.
– Воспитание дорогого тебе ребёнка, mon cher, можно поручить только человеку, которому ты безусловно веришь и доверяешь. Только…
Самсонов внимал мудрому и значительному опыту, которым сейчас с ним делились, старался запомнить слова начальника, как добрый совет.
А Бенкендорф уже говорил о том, что склеить разбитую посуду невозможно, нужно обзаводиться новой, что, если у тебя вырван из тела кусок мяса и болтается на ниточке, нужно, не побоявшись боли, оторвать его совсем, иначе рана никогда не заживёт. Закончил, так участливо, так вкрадчиво и нежно смотря в глаза, что у Самсонова не могло даже и возникнуть сомнений насчёт бескорыстности его советов.
– Тяжело мне говорить тебе об этом, но что делать, – тут Бенкендорф вздохнул, – …если начал говорить правду, то нужно её говорить до конца. Ты, mon cher, ещё молод, будущее в твоих руках. Ну, не удался твой брак, обманула нас Львова, – а ведь как мы с покойником её отцом о вас думали! – ну что делать, нужно примириться и забыть.
Бенкендорф опять вздохнул, ласково посмотрел на Самсонова. В его взгляде Евгений Петрович прочёл и нежность, и страдание, ему сделалось вдруг так хорошо и вместе с тем так сладко-печально, что его нагрудный знак даже отделился от мундира от тяжёлого вздоха.
– Нужно кончить, кончить нужно, mon cher… – опять заговорил Бенкендорф. – Человека переделать нельзя, ведь ты убедился в этом, убедился, значит… нужно о нём забыть… Просить государя о разводе… ммм… это скандал: нельзя… но у тебя есть выход. Все знают, что твоя жена больна, все знают, каким хорошим был ты мужем. Кого удивит, что ты готов терпеть даже с ней разлуку только затем, чтобы поправить её здоровье! Оставь её там, на Кавказе, или устрой на зиму где-нибудь в деревне у хороших и порядочных людей… Э, mon cher, повторяю, ты слишком ещё молод, чтобы не забыть этого скоро… Послушайся моего совета.
Самсонов послушался. Самолюбие не позволило писать с той же осторожностью и мягкостью, с какой поучал его граф. Письмо, отправленное Надежде Фёдоровне, стилем и тоном больше напоминало казённое отношение или приказание, какие рассылались из управления делами императорской Главной квартиры. Этой зимой Надежда Фёдоровна в Петербурге не появилась.
Действительно ли так хорошо понимал человеческие сердца Бенкендорф или это случилось от чего другого, – но многие нашли в ту зиму, что Евгений Петрович совсем уж не такой бука и что он даже может быть, если захочет, интересным для общества.
Птица с перебитым крылом не стала летать, но вполне освоилась и примирилась с землёю.
Весна поразила Евгения Петровича большою – с ней трудно было примириться – неприятностью. Уже давно прихварывавший Бенкендорф этой весной уезжал для лечения за границу, и, по-видимому, надолго, если не навсегда. Временно исполняющим его должность был назначен граф Алексей Фёдорович Орлов.
Орлов был бесконечно ленив, беспечен и равнодушен, больше всего на свете дорожил своим покоем, вкусным обедом, рюмкой старого и редкого вина, в котором он понимал толк. Воспитанный Бенкендорфом Самсонов, иначе и не представлявший себе своего принципала, как иссыхающим в непрерывных служебных заботах, никак не мог примириться с новыми, установившимися в его управлении порядками. Служебным девизом графа Орлова было «авось да небось». Поэтому летом, когда двор по обыкновению переехал в Петергоф, а войска выступили в лагеря и, как всегда, для Самсонова наступило самое трудное и самое беспокойное время, он приходил прямо в отчаяние от безучастного равнодушия, в котором пребывал его новый принципал.
Как на грех, это лето, как никогда, изобиловало парадами, смотрами и манёврами. Особенно много их было в июле.
При Бенкендорфе Евгений Петрович всегда заранее знал, к чему нужно быть готовым. Об этом заботился сам граф. Теперь о намерениях и планах государя он мог только гадать, читая приказы по гвардейскому корпусу. В одном из них он прочёл, что 28 июля государь «изволит объезжать лагерь под Красным Селом». Приказ был от 26-го, а у них по Главной квартире ещё не было никаких распоряжений. Евгению Петровичу показалось, что даже кожа у него на руках, как старые перчатки, только мешает осязанию. Не было даже времени предаваться отчаянию здесь, не выходя из канцелярии. Он полетел в Стрельну, где теперь пребывал на даче его начальник. Тот встретил его на террасе, в лёгком халате, обставленный вёдрами со льдом и прохладительными напитками, изнемогающий от жары, но, как всегда, благодушный и невозмутимый.
– Здравствуй, мой архангел. Что скажешь хорошенького?
– Ваше сиятельство, послезавтра государь объезжает лагерь в Красном Селе!
– В самом деле? Ну, с чем тебя и поздравляю.
– Но, ваше сиятельство, ведь по этому случаю нам нужно сделать много распоряжений, нужно нарядить туда дежурных, сообщить все сведения о сборе в Красное Село, сообщить на главную конюшню и много ещё другого.
Орлов мутными глазами посмотрел кругом, потянулся было за графином, но не доставала рука.
– Дай-ка, мой милый, вон того лимонаду. И кому только в голову придёт в такую жару смотры делать?!
Он как-то чересчур внимательно поглядел на Самсонова, отвёл глаза и сказал:
– Да, скажи мне, пожалуйста, что такое там у тебя с женой? Государь мне вчера сказал, чтобы я дал тебе понять, что он не желает её возвращения в столицу. Это почему? Ты, брат, уж меня извини, говорю прямо: я – русский человек, не умею такие вещи обиняком высказывать.
Если бы Евгений Петрович был в состоянии в этот момент делать какие-либо сравнения, если бы он мог и хотел определить своё ощущение в данный момент, то «птице перебили и ноги» – было бы самым верным.
Значит, не из доброго расположения Бенкендорф, не от участия подал ему такой совет! Хотелось убежать, запереться в четырёх стенах, никого не видеть, не слышать, – нужно было скакать в Петербург, оттуда в Красное готовить всё для царского смотра.
Если бы Орлов не сказал ему этого, может быть, как-нибудь и сбыли бы этот смотр. Но теперь валились из рук не только бумажки, не приходило то, что нужно, на ум, – из рук вываливался день.
Государь был недоволен решительно всем. По его приказанию Орлов был вытребован из Стрельны специальным фельдъегерем. Утомлённый и рассерженный и ездой, и зноем, и нагоняем, граф ворчливо стал выговаривать Самсонову:
– Знаешь? Государь очень прогневался, что не нашёл здесь никого, и изволил выразиться, что мне это простительно, по новости дела, а тебе, так давно занимающемуся им, – нет.
Он не слез, а свалился с лошади, растянулся во всю свою длину в тени первого попавшегося кусточка, извергая самые энергичные ругательства.
Самсонов пропустил замечание мимо ушей.
– Ваше сиятельство, – почтительно доложил он, – государь изволил приказать поставить свою палатку вот здесь, недалеко, на правом фланге бивуака Преображенского полка.
– С чем тебя и поздравляю!
Это была обычная поговорка, поэтому Самсонов не отставал:
– Ваше сиятельство, не угодно ли присутствовать при исполнении этого приказания? Граф Бенкендорф никогда и никому не доверял постановку палатки государя, всегда сам распоряжался.
– Покорно благодарю. Нет, брат, я свои руки и ноги не в дровах нашёл, чтобы так легко ими жертвовать.
С палаткой дело не совсем гладко, но всё же сошло. Евгений Петрович наконец мог прилечь и отдохнуть после двух бессонных ночей.
«Завтра, завтра! Что такое ещё завтра? На завтра, кажется, назначено что-то ещё», – силился вспомнить Евгений Петрович, но так и не вспомнил: для завтрашнего манёвра от него ничего не требовалось. Он заснул.
Следующий день как будто немного исправил настроение Николая Павловича. По окончании манёвра государь объезжал вызвавшую в этот день особое его одобрение конную артиллерию, по нескольку раз благодарил батареи. Ударили отбой, «по домам».
«Слава Богу, – у Самсонова сердце маленьким холодным комком застыло в груди, томленьем заныли руки и ноги. – Всё кончилось. Можно ехать домой и думать, думать…»
Вдруг государь тронул своего коня, догоняя разъезжавшиеся батареи, своим звучным голосом скомандовал:
– Конная артиллерия! Стой! Равняйся!
В грохоте скачущих в карьер орудий команду не расслышали. Николай дал шпоры, стараясь заскакать в середину движущейся артиллерии, ещё раз повторил команду. Опять никакого результата. Он обернулся, ища за собой глазами трубача.
Назначать к государю трубачей входило в обязанность Самсонова. Увы, в этот день за государевой лошадью не ездил ни один трубач.
Николай Павлович круто повернул коня и возвратился на прежнее место.
– Орлов! – раздался снова зычный голос.
Орлов, с рукою под козырёк, галопом подскакал к нему. Государь что-то говорил раздражённо и гневно.
– Государю коляску! – крикнул Самсонову Орлов, и тот сломя голову поскакал по направлению, где должен был стоять экипаж.
Едва он отъехал саженей на сто, как снова голос:
– Самсонов! Самсонов!
Вслед за Евгением Петровичем скакал дежурный флигель-адъютант.
– Ступай, государь тебя спрашивает.
Самсонов повернул коня.
Государь и вся свита стояли теперь спешившись, одной тесной группой. Конная фигура, одиноко маячившая возле этой группы, преградила дорогу Самсонову. Это был герцог Максимилиан Лейхтенбергский.
– Ecoutez, – проговорил он вполголоса. – L'empereur est furieux contre vous, ne lui repondez pas on mot, ou vous etes on homme perdue[168]168
Послушайте, император сердится на вас, не отвечайте ему ни слова, иначе вы погибший человек (фр.).
[Закрыть].
– Monseigneur, – отвечал Самсонов со слезами на глазах, – jamais tant que je vivrai, cet acte d'interet et de bonte, que vous daignez me temoigner, ne sortira ni de mon coeur, ni de ma memoire[169]169
Государь, никогда, сколько бы я ни жил, этот акт внимания и доброты, который вы удостоили оказать мне, не уйдёт ни из моего сердца, ни из моей памяти (фр.).
[Закрыть].
Но раньше, чем он тронул коня, государь его уже заметил.
– А, пожалуйте-ка сюда!
Самсонов соскочил с лошади и вышел на середину кружка.
– Что это значит, что, как я ни приеду, всегда застаю какие-нибудь неисправности? – загремел знакомый и грозный голос. – Пора бы, кажется, вам привыкнуть к вашей обязанности! Ступайте-ка на гауптвахту!
В этот момент внимание всех привлёк столб пыли, показавшийся над дорогой. Евгений Петрович не помнил, были ли выставлены в этот день заставы, а это тоже входило в его обязанности. Кто мог скакать по военному полю, когда на нём происходили манёвры?
Из облака пыли вырвалась загнанная, взмыленная тройка, фельдъегерь, цепляясь палашом, ещё раньше, чем она остановилась, выскочил из тележки, бегом устремился к окружённому свитой государю.
– Ваше величество, донесение с Кавказа.
Николай посмотрел кисло.
Только через четвёртые руки попадали к нему бумаги от фельдъегеря. Первый, кто выхватил пакет, успел надломить печать, у второго в руках бумаги высвободились из конверта, третий, развернув их, успел перетасовать по степени важности.
Из рук Лейхтенбергского Николай брал и читал их по очереди.
Первые две, бегло просмотрев, он сунул кому-то, не глядя, с коротким:
– Это Чернышёву.
Когда подъехала коляска, у Лейхтенбергского в руках ещё оставалась одна бумажка.
– Что ещё? – нетерпеливо спросил Николай, уже ставя ногу на подножку.
– Вашему императорскому величеству рапорт пятигорского коменданта генерал-майора Ильяшенкова[170]170
Ильяшенко (Ильяшенков) Василий Иванович – полковник, комендант Пятигорска. Пытался предотвратить дуэль Лермонтова с Мартыновым.
[Закрыть], – ответил Лейхтенбергский.
Царь только слегка повернул голову в его сторону:
– Ну?
Лейхтенбергский прочёл:
№ 1427 июля 16-го дня
Его императорскому величеству
пятигорского коменданта
РАПОРТ
Вашему императорскому величеству всеподданнейше доношу, что находящиеся в городе Пятигорске для пользования болезней, уволенный от службы из Гребенского казачьего полка майор Мартынов и Тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов, сего месяца 15-го числа в четырёх верстах от города у подошвы горы Машука имели дуэль, на коей Мартынов ранил Лермонтова из пистолета в бок навылет, от каковой раны Лермонтов помер на месте…
Николай Павлович досадливо махнул рукой. Лейхтенбергский перестал читать.
– Собаке собачья смерть, – долетели до слуха Евгения Петровича внятные, разрубленные паузами слова.
Царь сел в коляску и отбыл с поля.
Евгений Петрович всё ещё стоял. Группа, окружавшая царя, шумно обмениваясь впечатлениями, постепенно расходилась.
Евгению Петровичу вспомнились другие манёвры на этом же самом поле шесть лет назад, он вспомнил себя. Стало жалко безвозвратно ушедшую молодость, так жалко, что хотелось плакать. Вспомнил, что тогда же ему и встретилась впервые фамилия Лермонтов, по ней вспомнил ту запись, которую сделал тогда в дневнике. Память стремительно, словно её преследовали, бежала по всем этим шести годам, ни на одном из них, ни на одном дне, ни на одной минуте она не захотела остановиться.
– Как глупо-то, ужасно как глупо, – вздохнул он.
Это относилось, очевидно, к дневнику.
– Ужасно глупо.
Он вздохнул ещё раз и пошёл объявиться арестованным на Красносельскую гауптвахту.
Р. Б. Гуль
СКИФ В ЕВРОПЕ
РОМАН
Эта книга является переработкой моего двухтомного романа «Скиф», вышедшего в издательстве «Петрополис» в Берлине в 1931 году.
ОТ АВТОРА
Эпиграфом к своей книге о Бакунине и Николае I я беру известное стихотворение А. Блока –
СКИФЫ
Панмонголизм! Хоть имя дико,
Но мне ласкает слух оно.
Владимир Cоловьёв
Мильоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы –
С раскосыми и жадными очами!
Для вас – века, для нас – единый час.
Мы, как послушные холопы,
Держали щит меж двух враждебных рас –
Монголов и Европы!
Века, века ваш старый горн ковал
И заглушал грома лавины,
И дикой сказкой был для вас провал
И Лиссабона, и Мессины!
Вы сотни лет глядели на Восток,
Копя и плавя наши перлы,
И вы, глумясь, считали только срок,
Когда наставить пушек жерла!
Вот – срок настал. Крылами бьёт беда,
И каждый день обиды множит,
И день придёт – не будет и следа
От ваших Пестумов, быть может!
О, старый мир! Пока ты не погиб,
Пока томишься мукой сладкой,
Остановись, премудрый, как Эдип,
Пред Сфинксом с древнею загадкой!
Россия – Сфинкс. Ликуя и скорбя,
И обливаясь чёрной кровью,
Она глядит, глядит, глядит в тебя
И с ненавистью, и с любовью!..
Да, так любить, как любит наша кровь,
Никто из вас давно не любит!
Забыли вы, что в мире есть любовь,
Которая и жжёт, и губит!
Мы любим всё – и жар холодных числ,
И дар божественных видений,
Нам внятно всё – и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений…
Мы помним всё – парижских улиц ад,
И венецъянские прохлады,
Лимонных рощ далёкий аромат,
И Кёльна дымные громады…
Мы любим плоть – и вкус её, и цвет,
И душный, смертный плоти запах…
Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет
В тяжёлых, нежных наших лапах?
Привыкли мы, хватая под уздцы,
Играющих коней ретивых
Ломать коням тяжёлые крестцы
И усмирять рабынь строптивых…
Придите к нам! От ужасов войны
Придите в мирные объятья!
Пока не поздно – старый меч в ножны,
Товарищи! Мы станем – братья!
А если нет – нам нечего терять,
И нам доступно вероломство!
Века, века – вас будет проклинать
Больное позднее потомство!
Мы широко по дебрям и лесам
Перед Европою пригожей
Расступимся! Мы обернёмся к вам
Своею азиатской рожей!
Идите все, идите на Урал!
Мы очищаем место бою
Стальных машин, где дышит, интеграл,
С монгольской дикою ордою!
Но сами мы – отныне – вам не щит,
Отныне в бой не вступим сами!
Мы поглядим, как смертный бой кипит,
Своими узкими глазами!
Не сдвинемся, когда свирепый гунн
В карманах трупов будет шарить,
Жечь города, и в церковь гнать табун,
И мясо белых братьев жарить!..
В последний раз – опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира,
В последний раз – на светлый братский пир
Сзывает варварская лира!
30 января 1918 г.Александр Блок
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Посвящаю эту книгу памяти
венгров, павших в октябрьском
восстании 1956 года, в борьбе
за свободу Европы.
Автор
1
Император изругался извозчичьим ругательством. Вице-канцлер Карл Роберт Нессельроде[171]171
Нессельроде Карл-Роберт (Карл Васильевич) (1780 – 1862) – в течение сорока лет управляющий коллегией министерства иностранных дел, министр.
[Закрыть], руководитель внешней политики, и граф Бенкендорф, шеф жандармов, руководитель внутренней, сделали подобие улыбок. Улыбки вышли естественными. Но умерли, ибо Николай поднялся, словно был он один в зале, и пошёл, громадный, в общегенеральском мундире, плотно стянувшем сильную фигуру. На фоне золотой пустыни дворца фигуре нельзя было отказать в властности и величии.
Император шёл в любимой позе, заложив руки за спину. Знал, что расстроило; от этого было не легче. Расстроили в Красном линейное учение войскам 2-го пехотного корпуса и вчерашние артиллерийские манёвры под Петергофом. В Красном Николай скакал на белоногом жеребце, в окружении генералов: принца Евгения Виртембергского, принца Ольденбургского[172]172
Ольденбургский Пётр Григорьевич (1812 – 1881) – принц, генерал от инфантерии, член Государственного совета, управляющий 4-м отделением е.и.в. канцелярии.
[Закрыть], принца Фридриха Гогенлоэ-Вальденбургского[173]173
Скорее всего, речь идёт о принце Христиане-Людвиге-Фридрихе-Генрихе Гогенлоэ-Лангенбурге-Кирхберге (1788 – 1859), в 1825 – 1848 гг. вюртембергском после в С.-Петербурге.
[Закрыть], графа Берга[174]174
Берг Фёдор Фёдорович (1793 – 1874) – граф, генерал от инфантерии, позже генерал-фельдмаршал, главный военный топограф, при Александре II финляндский генерал-губернатор.
[Закрыть], графа Бенкендорфа, графа Адлерберга, барона Беллингсгаузена[175]175
Беллингсгаузен Фаддей Фаддеевич (1779 – 1852) – знаменитый мореплаватель, военный губернатор Кронштадта.
[Закрыть], флигель-адъютантов, свиты, фельдмаршала князя Паскевича[176]176
Паскевич Эриванский Иван Фёдорович (1782 – 1856) – светлейший князь, выдающийся русский полководец.
[Закрыть] и военного министра князя Чернышёва[177]177
Чернышёв Александр Иванович (1786 – 1857) – военный министр, позже председатель Государственного совета.
[Закрыть]. Прекрасное весеннее утро; по небу беловатые облака с синими донышками, никакого ветра. Иностранные посланники скакали тут же, в неизменном белом мундире граф Фикельмон[178]178
Фикельмон Шарль-Луи Карл-Людвиг (1777 – 1857) – австрийский посол в Петербурге в 1829-1839 гг., позже министр иностранных дел, писатель.
[Закрыть]. Интереснейшая ситуация. Линейное учение должно быть отменно; и всё скомкали никуда не годно.
От артиллерийских манёвров осталось невозможное впечатление; до сих пор жило бешенство где-то у сердца и душил воротник. Николай скомандовал залп из всех орудий, и вдруг из крайней, у леса, пушки вылетел не холостой, а боевой снаряд, пронёсшийся над императором. Император при всех сделал невольное движение корпусом и пригнулся. Николай рассвирепел, позвал батарейного, при всех кричал на него. Но опять глупость: на матерное ругательство трясущийся офицер ответил бормотавшими губами:
– Почту за особенное счастье, Ваше Величество.
Даже гнев пришлось оборвать. Батарейный же командир повалился в обморок, как баба.
Неприятности свивались: внезапный удар с министром, князем Чернышёвым, в кабинете императора за военным докладом; отвратительный рапорт коменданта крепости, с ошибками и вздором, где вместо «батальона» стояло «эшалон». При обходе богадельни, где приютил глухих, слепых, сумасшедших солдат, под сводами «на кашу» раздался такой барабан, что император вздрогнул. Под барабан безумный голос умалишённого инвалида закричал непристойности. Царь приказал дураку-барабанщику бить «на кашу» не в богадельне, а во дворе. В больнице видел у солдат от учебного шага, от вытягивания ноги, требуемого дисциплиной, на ступне фунгусы! Глупейшее слово! Черносуставная грибовидная опухоль. «Откуда?» – думал Николай, злобно ходя по залу. И идиотический пиджак графа Татищева! Лейб-гвардии поручик, семеновец, приехал из Европы – в пиджаке! Хотел оказать милость, обласкав невесту майора Стуарта, спросил с всегдашней весёлостью в отношении к девицам. И вдруг: «Дозвольте моему жениху носить усы!» – Усы в инженерном ведомстве, в любимом детище царя!
В невероятную свирепость приходил император. К тому ж замучили чирьи: ни сесть, ни встать. «Баба, мажет, мажет…» – бешено бормотал Николай, это относилось к шотландцу лейб-медику Мандту, заменившему заболевшего доктора Арндта.








